Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
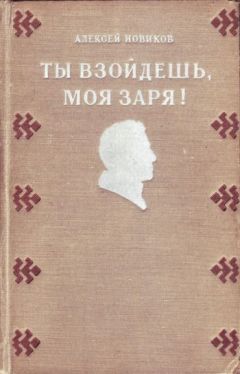
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 44 страниц)
Сергей Александрович Соболевский с утра послал за подорожной, чтобы ехать в Михайловское. Но в тот же день в Демутовой гостинице появился новый постоялец.
Едва переодевшись с дороги, приезжий разыскал номер Соболевского и несколько раз быстро, отрывисто постучал.
– Мочи нет, как рад тебя видеть! – сказал, входя, новоприбывший и троекратно расцеловал Соболевского.
После первых изъявлений радости и тех вопросов, что сами просятся на язык при дружеской встрече, гость снова обнял Соболевского и участливо спросил:
– Как перенес ты свое горе?
– Тяжело, Александр Сергеевич! От тебя не скрою – очень тяжело. Мать была единственным человеком, который меня любил и которому я отвечал тем же. Когда же она заболела, доняли меня приятели: позаботься о завещании! Одним словом, иди к умирающей со стряпчим и свидетелями.
– И ты, презрев советы мудрости житейской, угодил из богачей в нищие?
– Почти так. Незаконнорожденный не наследует в отечестве нашем иначе, как по завещанию. Но если суждено мне свершить что-либо достойное порядочного человека, то я всегда с гордостью буду вспоминать, что не явил умирающей матери алчного подьячего вместо сына… Да, спасибо тебе за присланные деньги.
– Не за что. По счастью, я во-время собрал подушную подать с издателей и рад был тебя ссудить.
– Еще раз спасибо, Александр Сергеевич. Теперь я осмотрелся и намерен составить капитал собственным умом.
– Ты? – удивился Пушкин. – Фальстаф – и капитал! Сам Шекспир не изобрел бы столь неожиданной черты в характере сластолюбца.
– Еще бы! – согласился Соболевский. – Особенно если твой Фальстаф имеет намерение уставить Россию паровыми машинами, учредить фабрики и показать англичанам, что Россия нимало им не уступит. Я и в Петербург приехал для того, чтобы подыскать денежных компаньонов.
Пушкин слушал внимательно, но недоверчиво. Соболевский представил ему картину будущего – ткацкие фабрики, раскинувшиеся на берегах Невы.
– Бьюсь об заклад, Фальстаф, – отвечал поэт, – твои фабрики будут чудотворнее вымысла. Не вмещаются они в моем воображении… А как наши москвичи живут? Все еще не вышли из пеленок немецкой метафизики? Ох, уж эта завозная философия… ненавижу… – не то шутя, не то всерьез перебил себя Пушкин и хитро улыбнулся. – А со страниц долготерпеливого «Вестника» проповедуют ту философию московским просвирням?
– Философы наши действительно витают в эмпиреях, но журнал ждать не может. Если бы ты сегодня в Петербург не приехал, я завтра выехал бы к тебе в Михайловское. Клянут тебя москвичи напропалую: договоры, мол, Александр Сергеевич подписывать горазд, а журнал ничем, кроме имени своего, украсить не желает.
– Поспешил я с договором, – Пушкин смутился, – и за то был сызнова учен властью предержащей. Не волен я печатать свое маранье, как прочие смертные… Да и нет у меня ничего, – поэт вздохнул, – вот ведь беда какая… Что мне с вами делать, коли ничего у меня нет?
– Ну, кто же этому, Александр Сергеевич, поверит, когда ты целую осень в Михайловском сидел! «Онегин» как?
– Скучает помаленьку. Однако не очень проворен оказался. Размышлять вместе с автором охоч, а типографщиков чурается… – Пушкин искоса взглянул на Соболевского, подбежал к нему, обнял. – Не мне с тобой втемную играть, все равно выведаешь. Изволь, тебе первому отчитаюсь. Из «Онегина» кое-что нового привез. Царя Бориса царь Николай в печать не пускает. Должно быть, торчат уши сочинителя из-под колпака юродивого… Ну, что еще? Мелочи не в счет, их альманашники, не заметишь, растащат. Задумал еще небольшой опыт в роде драматическом. Вовсе неотделанное, правда, но бродит мысль. – Пушкин помолчал. – В прошлом году слушал я в Москве у итальянцев Моцартова «Дон-Жуана», и запала мне мысль о гении и об ученых педантах…
– Если ты в музыку ударился, – перебил Соболевский, – тогда приглядись здесь к одному молодому человеку, которому многие – и сам ученейший муж Одоевский – предрекают обширное поприще…
– Кто таков?
– Наших пансионских помнишь? Был среди однокорытников моих Глинка-музыкант.
– Глинка? – Пушкин задумался. – Нет, не помню. Николая Марковича помню, потом Глебова, который…
– Ну да, – подтвердил Соболевский. – Иных уж нет, а те далече…
– А что говорят в Москве о послании, которое отправил я в Сибирь? – быстро спросил Пушкин.
– Те, кто его знает, стараются поменьше говорить, ради твоего спасения. Ох, как ты неосторожен, Александр Сергеевич!
– Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить, – поэт махнул рукой. – Подсвистывал я Александру Павловичу до самой его смерти – и, видишь, жив. Авось, ни Николаю Павловичу, ни графу Бенкендорфу тоже не поддамся… Так что же говорят о послании к каторжанам? Только, пожалуйста, без утайки.
– А чего здесь таить? Говорят, что ты исполнил долг за всю Россию, как и должно первому ее поэту.
– И не ругают?
– Помилуй! За что?
– Да, конечно, – согласился Пушкин в какой-то нерешительности. – Только и трудно же приходится первому поэту России, как величают Александра Пушкина заведомые льстецы и фальстафы. Легче бы всего молчать, а молчать ни по чести, ни по достоинству гражданина нельзя… – Пушкин нахмурился. – Едучи сюда, встретил я на станции в Залазах несчастного Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия, но жандармы нас растащили… Вот тебе еще сцена из трагедии отечественной. Ну, угодил ли я Белокаменной хоть «Онегиным» моим?
– Вот за «Онегина» ругают тебя на чем свет стоит.
– Помилуй! – удивился Пушкин. – За что?
– За то, что испытуешь долготерпение человеческое… Мыслима ли кормить публику в рассрочку?
– А иначе нельзя было. Влез бы в мою шкуру, тогда бы понял. Господин Онегин не терпит суеты, когда предается наблюдениям холодного ума. К тому же засел Онегин в деревне… Какой тут романтизм? Надобно приучить публику к путешествию в эти края, неведомые нашим поэтам. Впрочем, обещаю исправиться. Ныне буду выдавать главу за главой.
– Значит, много привез?
Пушкин утвердительно кивнул:
– А еще имею на руках прозу. Должно быть, лета мои к ней клонят. Разумею роман о царе Петре и предке моем Ганнибале.
– О! – воскликнул Соболевский. – Стало быть, выручай матушка история?
– А не пора ли нам знать, наконец, историю нашу?
– И для того настало время явиться на Руси новому Вальтер Скотту?
Поэт вспыхнул:
– Не успел я сказать тебе о романе историческом – и уже призываешь ты всуе имя Вальтер Скотта! Когда же научимся мерить себя русским аршином?
– Не ожидал, что вызовет твой гнев имя Вальтер Скотта.
– Не в том дело, – отвечал Пушкин. – Ведь не перестали величать меня и русским Байроном, хотя, клянусь честью, хочу быть только Пушкиным. Пусть несовершенны мои создания, однако могли они родиться только от русской жизни. Может быть, не многие умеют ценить, как я, лорда Байрона и сира Вальтер Скотта. Но предстоит нам сказать свое слово. Кстати, сколько ни читаю о модном романтизме – ничего не понимаю. Немецкой чертовщиной мы по горло сыты, фальшивым страстям французов веры не даем, а коли от поэтических сказаний Вальтер Скотта не оторвемся, в русские летописи глядеть разучимся. А без этого назови хоть романтизмом, хоть иначе – не будет словесности.
– И, выслушав вещие сии слова, бессмертные для поучения потомков, смиренно вопрошает Александра Пушкина ходатай от компании московских журналистов: что же будет на шапку «Московскому вестнику»?
– Ничего бы ему не следовало, – отвечал Пушкин, – ибо больше других врут московские философы, познавшие истину на дне чернильницы; врут, и нет конца тому вранью… Однако что-нибудь придется поискать. Дай срок, разберемся.
Поэт озорно глянул на Соболевского.
– Так ругают, говоришь, в Москве ленивца Пушкина? Теперь ты знаешь, как я ленюсь.
…Приятели позавтракали. В беседе незаметно прошел короткий октябрьский день. Последний луч солнца, неведомо откуда ворвавшийся в комнату Демутова трактира, задержался на русой голове поэта; ясно обозначились морщины, начертанные временем на высоком лбу и вокруг глаз. Пушкин встал из-за стола и подошел к окну. Густые мокрые сумерки быстро заволакивали угрюмый двор. Поэт обернулся к Соболевскому.
– Стало быть, намерен ты, Фальстаф, наставить паровики по всей России? Но, меряясь на Англию, думал ли ты о той нищете, в которую ввергли аглицкие фабриканты рабочих людей? Упаси тебя бог перенести к нам вместе с машинами эти алчные нравы! Когда был я в Одессе, сказывал мне один англичанин страшную повесть… Ну, будет время, возьму у тебя справки. Ты на именины к Дельвигу зван?
– Зван, только где это видано – ехать на именины спозаранок?
– А я нарочно гнал лошадей, чтобы приехать на Антона. Впрочем, в самом деле неловко помешать хозяйке… Забыл еще оказать тебе, что набрался песен у Михайловских мужиков. Знатные есть песни, но которым сделал я великое открытие: у мужика своя история, и ведет он счет по собственным царям – по Ивану Болотникову, по Степану Разину да по Емельяну Пугачеву. Вот тебе летопись народная.
– И я на клад наскочил, – подзадорил Соболевский, – рукописное песенное собрание приобрел. По полноте и богатству ничего подобного не встречал. Сопиков, книголюб и книгопродавец здешний, положил ему начало. Ты, надеюсь, от намерения издать песни не отступил?
– Ужо, дай срок. А находку твою немедля покажи! – оживился Пушкин.
– Изволь. Однако не ранее, чем сам увижу весь литературный твой багаж.
Пушкин начал усиленно просить. Как ни крепился Соболевский, наверное бы не устоял, если бы поэт вдруг не спохватился:
– Еду к Дельвигу. Нет мочи ждать!
…Друзья сидели в кабинете Дельвига. Медлительный Антон Антонович едва успевал вставить слово, а Пушкин опять бросался тормошить его и, как обрадованное дитя, восторженно повторял:
– Дельвиг! Дельвиг мой! – и снова теребил его, наводя в кабинете полный беспорядок.
По счастью пришла Анна Керн. Пушкин тотчас выбежал в переднюю и, целуя ей руку, вспыхнул неожиданным румянцем и еще более смутился: не мог преодолеть эту детскую особенность, проявлявшуюся при каждом волнении.
– Должно быть, – сказал в оправдание себе поэт, – я все тот же, когда являюсь перед вами, Анна Петровна.
– Какой же именно? – улыбнулась Керн. – Тот ли вы, каким я помню вас на прогулках по Михайловскому парку, или тот, кто слал мне потом безумные письма?
– А вы их помните?! – обрадовался поэт. – Верьте мне… Нет, не верьте… ничему не верьте! Когда человек теряет голову…
– И в то же время пробует играть сердцем женщины?
– Играть?! – с упреком переспросил Пушкин. – Как могли вы подумать…
Гости, начав съезжаться, составили вокруг поэта неразрывный круг. Здесь были и Орест Сомов, и Соболевский, и лицейский товарищ Пушкина Михаил Лукьянович Яковлев. Приехал Глинка. Соболевский, едва дав ему время приветствовать хозяйку дома и именинника, подвел его к Пушкину.
– Сей однокорытник наш жил в пансионском мезонине вместе с Кюхельбекером. Припоминаешь?
– Теперь очень хорошо помню, – Пушкин приветливо протянул руку Глинке, – был такой юноша молчальник. – Он еще раз крепко пожал руку. – Мне памятно и дорого все, что напоминает собственную юность. Да и брат Лев о вас рассказывал. Так вы и есть тот самый музыкант, который обратил к музыке даже Фальстафа-Соболевского?
В беседу вмешались дамы. Посыпались восторженные аттестации Глинке. Отшучиваясь, Глинка пристально наблюдал за поэтом. Пушкин почти не изменился. Он такой же, как был в то время, когда взлетал по узкой крутой лестнице в пансионский мезонин. Та же живость в движениях, тот же певучий голос… Да, все тот же автор «Руслана», и ничуть не согнули его годы странствий, бед и потрясений.
Но через минуту Глинка готов был переменить мнение: как он возмужал, однако, юный витязь Руслан! Но не печать усталости, а облако раздумий коснулось ясного чела.
Пушкин, сидя с Дельвигом, вел с ним тихий разговор, когда началась музыка. Играла Софья Михайловна. Соболевский поместился около фортепиано, не скрывая восхищения не столько музыкой, сколько музыкантшей. Едва Софья Михайловна взяла последние пассажи, Сомов подвел к фортепиано Яковлева. Пошептавшись с хозяйкой дома, Яковлев обратился к поэту:
– Пушкин, изволь прослушать собственные твои стихи, положенные на музыку, и не прогневись на меня за дерзость.
Певец начал с чувством:
Вчера за чашей пуншевою
С гусаром я сидел,
И молча с мрачною душою
На дальний путь глядел…
«Паяц»;, как звали Яковлева лицейские товарищи, был одаренным музыкантом; отличный певец, он не уступал заправским композиторам и в сочинении музыки.
Пушкин был растроган. На щеках его выступила краска.
– Право, слишком балуют меня музыканты наши, – сказал он, когда Яковлев кончил петь. – Низкий поклон тебе, Паяц!
Наступила очередь Михаила Глинки. То, о чем робко мечталось в пансионе, – выступать перед поэтом, – Глинка исполнил теперь без колебаний.
Глинку слушали такие изощренные музыканты, как Софья Дельвиг, такие бескорыстные любители музыки, как издатель «Северных цветов» и Анна Керн; слушал его талантливый автор романсов Михаил Яковлев. Слушал Глинку и первый поэт России. Но кто из них мог сказать, что присутствует при рождении новой русской музыки, которая станет сияющей вершиной для многих поколений? И тем труднее было об этом сказать, что Глинка уже окончил петь и быстро отошел от фортепиано.
Легко и непринужденно было за именинным столом. Дружно поднимались заздравные чаши. Сердечно весел был Александр Пушкин, деля внимание между всеми, но чаще обращая взоры на Анну Керн. В сердечном внимании поэта уже виделось ей будущее: любовь, чистая, как небо, и вечная, как вселенная. Ведь не только для девчонок и не только под Лубнами цветут и никогда не отцветают бессмертники-иммортели.
– Mille pardons, madame![17]17
Тысячу извинений, сударыня! (франц.).
[Закрыть] – вдруг обратился к ней один из гостей, красавец и ловелас Алексей Вульф.
– Штраф! Штраф, Алексей! – вскричал Дельвиг. – Пора бы тебе знать, что в нашем доме говорят только по-русски.
Под общий хохот Вульф быстро выпил штрафной бокал…
Орест Сомов, сидевший рядом с Глинкой, сказал ему с уважением:
– Вижу теперь, что знаете вы голоса многих песен. И между прочим такими владеете, которых мне ни разу не приходилось слышать. Хвалю за верное ваше направление. Ныне, слава богу, песни наши и у музыкантов в моду входят.
– Только бы не приключилось песням новой от того беды, – отвечал Глинка.
В это время с другой стороны стола на него внимательно взглянул Пушкин и, улыбаясь, поднял бокал.
Именинный ужин шел к концу. Поэт собрался провожать Анну Керн.
– Когда будешь потчевать нас твоей трагедией? – задержал его Дельвиг.
– Назначай день. Тебе, проворному альманашнику, отказа нет.
– А завтра, Александр Сергеевич, я буду у тебя с утра, – вмешался Соболевский, – закончим московский разговор.
Пушкин кивнул головой и быстро пошел из гостиной, догоняя Анну Керн. Глинка подошел откланяться к хозяйке дома.
– Михаил Иванович, – искренне призналась Софья Михайловна, – ваш романс «Разуверение» стал навсегда моим любимым. Я целый день твержу его напев. – Она обернулась к Вульфу. – Как жаль, Алексей Николаевич, что вы не слыхали этой чудесной пьесы! Вам непременно надобно ее узнать… «Не искушай меня без нужды!» – многозначительно продекламировала она и рассмеялась.
Глинка еще раз откланялся, отвлек Соболевского и взял его за пуговицу.
– Не отпущу, пока не расскажешь, что ты у Пушкина узнал.
– Докладывал же я тебе! Как полагается по осени, привез Пушкин целый обоз. Между прочим, представь, на Моцарта целит. Да отпусти, сделай милость, неповинную пуговицу!
Оборвав разговор на полуслове, Соболевский устремился к Софье Михайловне. Глинка обратился за справкой к Дельвигу.
– Пушкин и Моцарт, говорите? – удивился Антон Антонович. – Клянусь небом, ничего не знаю.
Между тем известие, сообщенное Фальстафом, поразило Глинку до крайности.
Глава третьяПушкин читал у Дельвигов трагедию о царе Борисе.
Уже прошли перед слушателями главные события драмы. Поэт читал последнюю сцену.
Кремль. Дом Борисов. Стража у крыльца… Бояре входят к осиротелому семейству скончавшегося царя. В доме поднимается тревога, слышатся крики. Потом снова открываются двери. Мосальский является на крыльце.
– «Народ! – возвысил голос поэт, читая за Мосальского. – Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. Что ж вы молчите? Кричите: «Да здравствует царь Димитрий Иванович!»
Пушкин сделал едва уловимую паузу, потом произнес, ничего не акцентируя, последнюю авторскую ремарку: «Народ безмолвствует», – и отложил рукопись.
– Я замышлял свою трагедию, – устало сказал он, – для реформы обветшалых законов театра. Не знаю, однако, нужны ли эти новшества? – в голосе его послышалось скрытое раздражение, и тень легла на глаза. – С детства привыкли мы к ложным правилам французов И до нового неохочи. Все еще ищем трагедию у Озерова и рукоплещем карикатурам, обряженным в русское платье. Берет и другое сомнение: не учуют ли в древней истории о московских бунтах намек на наши времена?
Поэт рассеянно перебирал рукопись, выжидая откликов.
– Не впервой слышу я «Бориса», – начал Дельвиг, – и скажу без обиняков: много опасного в твоей трагедии, Александр Сергеевич. И хоть выставил ты точные годы древних происшествий, не спрячешь за учеными справками шатания царского престола. Быстрее, чем сцены в трагедии, сменяются на Москве цари. В этом шатании престола и глухой услышит и слепой увидит зримую силу мнения народного.
– На то и дана сочинителем сцена в келье Чудова монастыря, известная нам еще по «Московскому вестнику», – вмешался Орест Сомов. – Не здесь ли, под монастырскими сводами, укрылся гражданин и созидатель?
– Как «дьяк в приказах поседелый… добру и злу внимая равнодушно», – иронически процитировал Дельвиг.
– А это, прошу извинить, бабушка надвое сказала, – не сдавался Сомов. – Пимен сам повествует, что в молодости он воевал под башнями Казани. К старости же только сменил меч на перо и, верша суд над царем Борисом, олицетворяет все ту же силу мнения народного. Так и стояли, не шатаясь, земские люди в самые смутные времена.
– И смотрели на русскую землю из оконца монастырской кельи? – парировал Дельвиг.
– Но кого это обманет? – отвечал Сомов. – Под рясой чернеца еще не износилась боевая кольчуга, а пламенное перо летописца-обличителя стоит булатного меча. История вполне оправдывает сочинителя.
Пушкин слушал, не вмешиваясь. Выждав и видя, что никто не продолжает спора, он обратился к Сомову:
– К мнению вашему, Орест Михайлович, может быть, прислушаются критики. Не мне опровергать вас. Мне казалось, что этот характер и нов и знаком для русского сердца. Здесь нет моего изобретения. Я собрал черты, пленившие меня в наших старых летописях. Однако, господа, почему, выслушав трагедию о царе Борисе, вы сосредоточились на смиренном иноке?
– Хорошо смирение, коли монах ваш, не дрогнув, ратоборствует против царя! – горячился Сомов. – Именно такие смиренники и поворачивают часом судьбы государства. Не знаю, однако, Александр Сергеевич, как может явиться ваша трагедия на театре: ведь предвещает она смерть классицизму и сеет романтическую бурю!
– Если не станет ранее того анахронизмом, – с горечью откликнулся Пушкин. – Писал я, думая о коренном переустройстве драмы, а ныне и французы взялись за ум. Если запоздает моя трагедия явиться в свет, то опять скажут, что русские следуют примеру заносчивых учителей. Учители! Европа в невежестве своем от века относилась к нам с высокомерным пренебрежением. Да и то сказать: не ценим и мы сами первородства своего.
– Возвращаюсь к моему вопросу, – снова взял слово Дельвиг. – Мы видим в трагедии народ либо в бунте, либо в безмолвии. С охотой принимаю картины, набросанные волшебной кистью. Но неужто только в келье Чудова монастыря укрылись созидатели государства?
– Еще очень далек мой труд от полноты изображения народной жизни, – подтвердил Пушкин, – но если зримо представлена в трагедии сила мнения народного, то сочинитель охотно примет твое мнение, Дельвиг, за высокую похвалу. Когда уясним себе, что история принадлежит народу, тогда смело возьмемся за изображение тех, кто был выразителем народных чаяний. Может быть, самым поэтическим лицом нашей истории был Степан Разин, но что подвигло его, как не гнев угнетенных? Во множестве познается характер народный. Так! Но общие черты непременно находят воплощение в лицах. Без этого никогда не уясним ни действий Дмитрия Донского или Ермака, ни подвига Пожарского и выборного человека Кузьмы Минина…
– Прибавьте сюда и Ивана Сусанина, которого вернул потомкам Рылеев, – перебил Сомов.
– Со всей охотой, – согласился Пушкин. – Именно по «Сусанину» я стал подозревать истинный талант в Рылееве… Действия самого поэта, за которые он был повешен правительством, непременно станут предметом внимания будущих писателей. И здесь неминуемо воплотится сила мнения общего. Только цари мнят, что благополучие престола может покоиться на безмолвии народном. Но слепцы и обреченные никогда не чуют подспудных сил. Первая и священная обязанность писателей наших – отдать дань тем, кого ты, Дельвиг, называешь созидателями государства. Еще в колыбели нашей словесности родилась эта мысль. Сошлюсь на повесть о походе Игоревом.
– Но ведь до сих пор для некоторых сомнительна древность этой поэмы, – возразил Сомов.
– Полноте! – вспылил Пушкин. – Отрицатели свидетельствуют только о собственном невежестве и космополитстве. Коли не было, мол, подобных поэм на Западе, как мог явиться поэт-гражданин в древней Руси? Но что из этого? Словесность европейская и позднее питалась от крестовых походов, наша же словесность получила начало от благородной мысли о строении и защите родной земли… Однако далеко унеслись мы мыслью, начав с «Бориса»… Ну, полно о трагедии!
Никто не внял призыву поэта. Разговор все время возвращался к «Борису», а историческая трагедия то и дело оборачивалась злобою дня.
Глинке посчастливилось выйти от Дельвига вместе с Пушкиным.
– Нам с вами по пути? – любезно спросил поэт.
– По пути, – не колеблясь, подтвердил Глинка, – и тем более по пути, Александр Сергеевич, что не хотелось мне говорить о трагедии вашей, не обдумав многого, но теперь, если позволите…
– Слушаю вас!
Они шли по Владимирскому проспекту, в сторону Невского, хотя Глинке надо было повернуть в противоположную сторону. Петербург был побелен нежданно выпавшим снегом. Дожди и туманы еще не успели отнять у Северной Пальмиры этот редкий парчевой наряд. На улицах было светло, как днем.
– Хочу спросить у вас, Александр Сергеевич, – начал Глинка, волнуясь, – если бы Руслан ваш дожил до старости, не взялся ли бы он, радея о правде, за перо летописца?
– Как?! – удивился Пушкин. – Сказочный витязь и монах Чудова монастыря кажутся вам единородны?
– Да, – уверенно подтвердил Глинка. – Имею в виду отнюдь не сказочные обстоятельства Руслановой поэмы. И витязь, размышляющий на поле битвы, и монах-летописец, единоборствующий в трагедии с всесильным царем, – все это и есть строители земли… – Глинка посмотрел на спутника и, решившись, продолжал: – Не Онегину же с его французским лорнетом и аглицким сплином суждено выразить русский дух в художестве?
– Вот как судите вы? – Пушкин явно заинтересовался поворотом разговора. – Стало быть, отрицаете вы русские черты в Онегине?
– Помилуйте, – всполошился Глинка, – как можно отрицать в нем нашу русскую беду? Но были и другие люди на Руси, сами вы изволили многих из них сегодня назвать. Когда же заговорят они, будучи перенесены в поэзию чудотворным вашим пером?
Собеседники все еще шли по направлению к Невскому проспекту. Чем больше горячился Глинка, тем молчаливее становился поэт. Только редкие взгляды его, вскользь брошенные на попутчика, свидетельствовали о глубоком внимании.
– И сонная усадьба Лариных – продолжал Глинка, – и охлажденный в разуверениях ум Онегина, и беспредметные мечтания Ленского – – все это, увы, наше. Но разве не устрашающее безмолвие простерто над усадьбами, в которых они обитают?
– А разве не слышен в романе голос самого сочинителя?.. Не в моих правилах отвечать на критики, но если вы столько требований предъявляете к сочинителю «Онегина», извольте, я прочту вам кое-что из будущих глав.
Продолжая идти, поэт тихо стал читать строки, посвященные героической Москве.
– Кто это говорит? – спросил, жадно выслушав стихи, Глинка.
– Увы! Из героев романа некому так мыслить. Вот и пришлось вмешаться самому сочинителю.
– Так оно и есть! – обрадовался Глинка. – Нет на Руси ни летописцев, ни поэтов, равнодушно внимающих добру и злу.
– Могу лишь повторить, что сказывал я у Дельвигов: далека еще словесность наша от полноты изображения народной жизни.
– В каком же неоплатном долгу находятся тогда музыканты! – с горечью вырвалось у Глинки.
Пушкин еще раз с новым интересом покосился на собеседника.
– Но уже существуют музыканты, – сказал поэт, – которые способны с таким жаром говорить о музыке даже на снежных просторах. Буду рад продолжить разговор, разумеется, не обязательно перед лицом сонного будочника.
Они остановились у подъезда Демутова трактира. Глинка кликнул извозчика.
– В Коломну, – сказал он.
– В Коломну?! – удивился Пушкин и неудержимо рассмеялся. – Нечего оказать, хороший я был для вас попутчик! Надеюсь, однако, что мы сойдемся на иных, более важных дорогах…
Поэт скрылся в подъезде.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































