Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
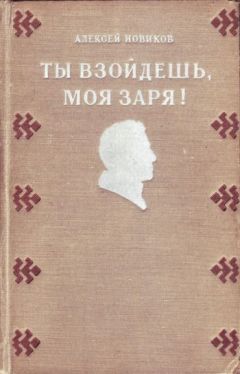
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 44 страниц)
Евгения Андреевна отважилась на зимнее путешествие в Петербург по многим причинам. Надо было хлопотать по тяжбе в сенате. Новоспасское оставалось в закладе. Затянувшаяся тяжба с казной угрожала благосостоянию семьи. Но главное заключалось не в тяжбе, а в сыновней жизни. Со времени пребывания Луизы Карловны и Машеньки в Новоспасском Евгения Андреевна поняла, что Мишель живет в призрачном мире, созданном его любовью. Да и письма Мишеля выдавали его головой. Он превозносил ненаглядную Мари и старательно доказывал, что все недостатки в доме происходят единственно от дороговизны петербургской жизни. А мать, читая эти письма, соображала, сколько денег и провизии посылается в столицу, и приходила к тревожному выводу: мотовка жена может довести сына до нужды, а нужда помешает музыке. Тут Евгения Андреевна ничего и никому не могла простить. Для Мишелевой музыки усердная мать была готова на любые жертвы. Она готова была оборонять сына от всех и каждого.
Итак, рано или поздно надо было ехать в Петербург. А тут пришло письмо от Мишеля: готовится репетиция его оперы. Заботливый сын и в мыслях не имел обрекать матушку на трудную зимнюю поездку. Но любящая мать ни минуты не колебалась.
Евгения Андреевна ехала и раздумывала в пути. Летом сидел Мишель в новоспасской зале и писал на огромных нотных листах. А теперь в столичном театре грянет оркестр и хоры, и люди, наполнившие огромный зал, обратят оттеплевшие сердца к ее Мишелю.
Как ни привыкла Евгения Андреевна к чудесам, происходившим с сыном и в Петербурге и в далекой Италии, как ни привыкла встречать его имя в нотных альбомах рядом с именами Пушкина или Жуковского, теперь она особенно волновалась: шутка сказать – целая опера, и на столичной сцене!
Но, приехав в Петербург, узнала Евгения Андреевна, что до сцены еще далеко. Пока что сын пропадал целыми днями на репетициях у графа Виельгорского. И хоть были репетиции только черновыми, но все больше и больше было у сочинителя забот: он был и дирижер, и учитель пения, и распорядитель сцены. Короче говоря, у пульта в зале Виельгорских действовал не только автор музыки, но воинствующий становитель нового театра.
– Голубчик маменька, – сказал Глинка Евгении Андреевне в день ее приезда, – вы не могли сделать мне подарка лучше и дороже. Никогда не сумею я отблагодарить вас за все ваши заботы. Вот и теперь вы умножаете мои силы в важный час.
Он уже собрался ехать к Виельгорским и, целуя руки матери, смущенно продолжал:
– Сейчас я не принадлежу себе. Вы поймете меня и простите. Дело не только в моей опере. И еще меньше – в моей судьбе. Сын ваш, маменька, ведет битву со многими чудищами.
– Ох ты, Еруслан-витязь! – Евгения Андреевна ласкала сына, как маленького. – Ступай, ступай, вечор поговорим!
Гостья из Новоспасского осталась в обществе Луизы Карловны и невестки.
– Нравится ли вам наша новая квартира? – спрашивала Марья Петровна, которой давно удалось покончить с Конной площадью и премило устроиться на новоселье. Глинки занимали барскую квартиру в Фонарной переулке, неподалеку от Большого театра.
– А не дороговато ли, Машенька, устроились? – вопросом на вопрос отвечала Евгения Андреевна, проходя с Мари по комнатам.
– Приходится идти на расходы, – со вздохом отвечала Марья Петровна, с гордостью оглядывая свое комфортабельное жилище. – Я лучше откажу себе в необходимом, чем соглашусь терпеть положение, унизительное для Мишеля. Судите сами, милая маменька: к Мишелю ездят артисты, что они могут подумать о сочинителе, который дает оперу на театр? Да если бы только артисты! У нас каждый день может быть граф Виельгорский, который покровительствует Мишелю. Он, конечно, ценит способности Мишеля, но нельзя же принимать графа в лачуге.
– А до сих пор тот именитый граф у вас, однако, не был?
– Не был. Но всякий день может приехать.
– Надо охранять честь нашей фамилии, – удачно вмешалась в разговор Луиза Карловна, – и вы первая согласитесь со мной, моя дорогая сватьюшка… Пожалуйста, одну чашку кофе! – Луиза Карловна почти приседала перед гостьей, собственноручно наливала ей кофе, потчевала сливками и угодливо заглядывала в глаза.
– А то был у нас и такой случай, маменька, – продолжала за кофе Марья Петровна, – к нам приехал с визитом князь Юсупов! Вы понимаете, какой фамилии человек? А мы жили на Конной площади… Там селятся лошадиные барышники, чуть не цыгане, и вдруг – князь Юсупов! Но этот благородный человек все-таки приехал.
– Вот какой отчаянный! – усмехнулась Евгения Андреевна. – Даже цыган не убоялся. Так зачем же ты квартиру сменила?
– Ах, маменька, вы, я вижу, охотница до шуток, – Мари даже всплеснула ручками, – но ведь карьеру Мишеля должны составить многие высокие лица. А кроме того, – Мари стала ласкаться к свекрови, – признаюсь вам одной: отсюда совсем близко до театра, и когда опера Мишеля будет принята…
– Не очень рассчитывай, голубушка, на высоких лиц, – отвечала Евгения Андреевна. – У них свой интерес, что им до Мишелевой музыки! Опять какой-нибудь свой расчет блюдут. А пройдет надобность – и глядя на тебя, не узнают. Любопытно мне, как ты об опере судишь?
– Ее все еще готовят к репетиции! Мы с мамашей горим нетерпением скорее поехать к графу Виельгорскому.
– И это будет очень счастливый день, – согласилась Луиза Карловна. – Но подумайте, дорогая сватьюшка! Это есть очень длинная история – сочинять оперу. Кто бы мог подумать? – Произнеся этот монолог, Луиза Карловна с легкой укоризной поджала губы.
– А я уже пою некоторые романсы Мишеля, – похвасталась Мари, – и я непременно вам, маменька, спою. Да ведь их в Петербурге везде поют. Только обидно, что часто даже фамилии сочинителя не знают. Этакая необразованность!
За кофе последовал обед. Потом Евгению Андреевну уложили отдохнуть с дороги. Но ей не спалось. В доме сына было неуютно, квартира была плохо прибрана, прислуга одета кое-как. Даже новоспасские девушки, отправленные в услужение к Марье Петровне и снабженные всем необходимым, быстро обносились. Сыновний дом открывал опытному глазу матери свою тайну: в нем не было хозяйки. А была ли здесь любящая жена и надежная подруга? Сердце Евгении Андреевны полнилось щемящей жалостью к Мишелю.
Глинка вернулся поздно вечером и, едва переступив порог, почувствовал страшную усталость. Евгения Андреевна обтерла ему лоб, пригладила волосы.
– Вконец умаялся. Что же дальше будет?
– А дальше, маменька, как по маслу пойдет. Какие певцы объявились, какие музыканты! Не зря я тружусь, голубчик маменька, не зря!
– Да неужто ты все дело в одиночку поднимаешь?
– Ничуть! Раньше, правда, думалось, что тружусь, иду своей дорогой, а вокруг только косность и невежество да извращенный вкус. А теперь поглядели бы вы, маменька, сколько людей моим делом заняты! Да что я говорю «моим»! Не моим, а нашим общим делом. Сидит, смотрю, в оркестре седой фагот. Ну что ему? Отыграл свое – и делу конец; может быть, десятки лет так играл. А гляну и вижу: глаза горят! Нет, маменька, не одинок ваш беспокойный сын, но безмерно счастлив общим рвением!
В один из таких же вечеров, когда Марья Петровна и Луиза Карловна ушли на покой, а Евгения Андреевна терпеливо дожидалась сына, он поведал ей, как страдает от поэтов.
– Я им, маменька, про Фому, а они мне про Ерему. Да ладно бы про Ерему, так нет, куда выше метят…
– Не пойму я твоих загадок.
– Какие тут загадки! Неужто не понятно им, о чем музыка говорит?
– Музыку свою тоже в покое оставь, сам изволь толком объяснить.
Как мог, Глинка рассказал матери, что во всех художествах происходят баталии. Везде многоликая ложь идет приступом на правду. Вот и с оперой то же случилось.
– А я, маменька, лжи не хочу. Время музыке быть в том лагере, где бьются с чудищами честные люди. Но разве об этом окажешь?
– Что ты! Бог с тобой! – всполошилась Евгения Андреевна. – Или не знаешь: неосторожное слово до Сибири доведет.
– А легче все равно не стало бы, – откликнулся Глинка. – Вот и впадаю порой в полное изнеможение.
– Сомнительные мысли в тайне держи, а действуй, как тебе сердце подскажет. Ты, Михайлушка, в малом ошибешься, а в большом – никогда… Расскажи лучше, как у тебя с Машенькой дела идут?
– А что? – Глинка страшно удивился. – Живем душа в душу. Я на Мари наглядеться не могу, а Мари… – Глинка задумался и встретил пристальный взгляд матери. – Вот я перед ней, точно, виноват.
– А коли виноват, так и кайся.
– Извольте, – с полной охотой согласился сын. – Хотел я Машеньку многому научить. Надобно знания ее пополнить. К музыке хотел ее приохотить.
– Она мне сказывала, что поет твои романсы.
– Ну, какое же это пение! Кое-что мы с голоса разучили, а до нот так и не дошли. Опять же моя вина! Природа Машеньку не обидела, а я плохой помощник оказался.
– Одним словом, по пословице – благими намерениями ад вымощен? – спросила Евгения Андреевна.
– Судите, маменька: когда же мне? – Он что-то вспомнил и сказал с сердечным огорчением: – Пушкина не дочитали, а до Шиллера так и не добрались. Кого же винить?
– Насчет Шиллера я ничего тебе не скажу; может быть, никак нельзя без него обойтись, – Евгения Андреевна добродушно усмехнулась. – В наше время мы книжек тоже не чурались. Папенька твой тоже слал мне книжки с иносказанием. Известное дело, любви разные утехи надобны. Только мы и без сочинителей знали, что любовь да верность – главное в семейной жизни. А книжки, конечно, всегда пользу принесут. Только то мне удивительно, что Машенька сама книжек в руки не берет.
– А вот кончу с оперой, тогда за Машеньку возьмусь и все мои вины искуплю.
– Свои вины ты хорошо видишь, а нет ли перед тобой жениной вины?
– Да чем же может быть виновата передо мной Мари? – спросил Глинка с полным недоумением. – Мари пожертвовала мне своей юностью. Может ли быть большее доказательство любви? Никак не могу уразуметь, маменька, что вы хотели сказать? – Глинка растерялся и был похож на человека, над которым должна разразиться беда, но он не знает, откуда ее ждать.
– А разве спросить нельзя? – продолжала Евгения Андреевна. – Ох ты, огневой! Матери-то, чай, тоже интересно знать, как сын живет. Стало быть, вполне счастлив, Михайлушка?
– Клянусь вам, да! Так счастлив, что одного боюсь: как бы не ушло от меня это счастье. – Он обнял Евгению Андреевну. – Не в моих правилах сентименты разводить, но вам не поколеблясь скажу: люблю всем сердцем, а, признаться, даже не верил в такую возможность… Мари воскресила вам сына.
– А коли так, то и кончен разговор. Иди спать, полуношник.
Глинка нежно поцеловал мать и глянул ей в глаза. Глаза эти, казалось, были счастливы его счастьем.
– Поживете с нами подольше, маменька, тогда еще больше оцените Мари.
На какой-то миг Евгения Андреевна заколебалась и хотела открыть сыну правду. Она давно и по достоинству оценила невестку; она еще раз убедилась в Петербурге в том, что сын живет в обманчивом мире, созданном его воображением. Заколебалась Евгения Андреевна, но сейчас же устрашилась своего намерения: нельзя смущать Мишеля, он людям служит. И улыбнулась сыну усердная мать и еще раз повторила с суровой лаской:
– Ну, иди на покой, полуношник!
Сын пошел было к двери и вернулся.
– Вы, маменька, что-нибудь из Гоголя читали?
– Глаза, Мишенька, слабеют. Избегаю печатного листа. А Людмила, помнится, читала вслух. Это тот, который про старосветских помещиков писал да еще про Тараса Бульбу?
– Тот самый! Как вам Бульба пришелся?
– Глубоко твой Гоголь в материнское сердце заглянул, нельзя глубже. А материнская любовь когда без страдания обойдется? – Евгения Андреевна незаметно вздохнула, думая о своем, и перевела разговор: – Ты, часом, и этого сочинителя знаешь?
– Имею честь! И, представьте, у него скоро на театре удивительная комедия пойдет, сам хлопот не оберется, а когда вырвется, непременно на моих пробах сидит.
– Любитель, значит?
– Мало сказать любитель, маменька. Он среди писателей первый дока по народной музыке.
– Счастлив ты, Мишенька, что этакие знакомства имеешь.
– Как же мне не гордиться, когда Николай Васильевич, надежда русской словесности, изучает мою оперу чуть ли не нота в ноту! А уж если хвастать, маменька, так извольте знать, что был у меня о «Сусанине» с самим Пушкиным разговор. Вот вы меня опрашивали, не в одиночестве ли я тружусь. Как же мне одиноким быть?
Глинка опять сел около Евгении Андреевны.
– И коли зашел у нас с вами такой разговор, – сказал он, – извольте мою смиренную просьбу выслушать…
– Не юли, не юли, выкладывай! Авось и я тебе чем-нибудь послужу.
– Не мне, маменька, а детищу моему.
– Пока ты будешь мне свои присказки сказывать, мы, пожалуй, и до утра с тобой досидим. Говорю, не виляй!
– Извольте. Заключается моя просьба в том, что хочу я пригласить к нам Пушкина, и думаю, что не откажет Александр Сергеевич.
– А я тут при чем?
– А при том, голубчик маменька, что без вас никак не мог я своего намерения осуществить. На Луизу Карловну как на хозяйку дома, сами знаете, надежда плохая. Машенька по неопытности совсем смутиться может.
– Никак с тобой не спорю. Дивлюсь только, как в твою беспутную голову мысль обо мне пришла. Я и сама, милый, растеряюсь. Мы хоть и в Ельне сидим, а кое-что тоже знаем. На него, на Пушкина, вся Россия смотрит. А тут изволь по сыновней прихоти сама перед ним предстань. С ума ты, Михайлушка, сошел!
Глинка смеялся совсем по-детски, глядя, в какое смятение пришла Евгения Андреевна.
– А вдруг бы, маменька, он ко мне без предупреждения пожаловал? Ведь не убежали бы вы тогда?
– А почем знать? Может быть, и убежала бы, – Евгения Андреевна хитро посмотрела на сына. – А потом, конечно, в какую-нибудь малую щелку непременно на него взглянула. Кто тут устоит?
Глинка видел, что Евгения Андреевна уже свыкается с неожиданностью.
– Если бы вы знали, маменька, – сказал он серьезно, – какой важный разговор имею я к Пушкину, никогда бы мне не отказали.
– Насчет оперы разговор?
– Угадали, сразу угадали, маменька!
– Неужто же Пушкин у вас и по этой части судья? Никак не пойму. Тебе бы, думаю, с оперой в театр надо или еще куда повыше.
– Вот я и обращаюсь к тому, кого выше нет. Согласны, маменька?
– Иди спать!
– Значит, согласны?
– Разве я сказала?
– Конечно, сказали! И теперь я спокоен: принять Александра Сергеевича при мудрой моей матери – большей чести я оказать ему не могу.
Глава седьмаяВ одной из петербургских типографий печатался первый номер нового журнала. Сбылась давняя мечта Пушкина. Издаваемый им «Современник» объединит лучшие силы словесности и явит высокую степень русской образованности и русского искусства. Журнал будет противостоять всему бесчестному, вздорному и невежественному, что печатается с благословения начальства. «Современник» будет руководствоваться единственно любовью к России и к народу, непрестанной думой о судьбах отечества.
Первый номер журнала печатался в типографии, а неутомимый издатель усердно собирал материалы для следующих выпусков. Гоголь дал для «Современника» свою статью о движении журнальной литературы и теперь обещал заметки о петербургских театрах.
В этих заметках писатель обозревал драму, балет и оперу, все достойное внимания из текущего репертуара. В театре драматическом Гоголь обрушился на мелодраму, которая состоит из убийств и преступлений и между тем ни одно лицо не возбуждает участия. В музыкальном театре автор называл несколько опер, не сходящих с репертуара, – «Роберта», «Норму», «Фенеллу» и «Семирамиду» – и тут же поставил вопрос о русской музыке.
«В самом деле, – писал Гоголь, – какую оперу, какую музыку можно составить из наших народных мотивов! Покажите мне народ, у которого больше было бы песен! Малороссия кипит песнями. По всей Волге влекутся, звенят бурлацкие песни. Под песни рубятся из бревен избы по всей Руси, метают из рук в руки кирпичи, и подымаются домы. Под песни работает вся Русь. У Черного моря безбородый, смуглый, с смолистыми усами казак любит, заряжая пищаль, петь старинную песню. На другом конце, у Морозного моря, верхом на пловучей льдине русский промышленник бьет острогой кита, затягивая песню… Что? У нас ли не из чего составить оперы своей? Нет, погодите, люди чужеземные!..»
Автор не ссылался в подтверждение своих слов ни на одну из опер, идущих на сцене. Читатель мог бы воспринять эти строки как мечту, как провидение, как клич писателя, обращенный к музыкантам.
Но эти строки появились совсем не случайно в рукописи Гоголя, предназначенной для «Современника». Они родились как раз в те дни, когда автор «Ревизора» вырывал каждый свободный час, чтобы присутствовать на пробах «Ивана Сусанина», происходивших у Виельгорского.
Имя Глинки не было названо в набросках статьи. Это и понятно. Статья готовилась для срочного печатания в журнале, а опера еще не была принята на театр. Но Гоголь был уверен: каждый поймет, о ком идет речь.
Статья писалась урывками, между репетициями «Ревизора», поездками к Виельгорским и посещениями Пушкина.
– Когда же будут готовы заметки о петербургской сцене? – спрашивал поэт.
Гоголь, всегда аккуратный в своих обязательствах перед Пушкиным, виновато разводил руками.
– Давно бы были те заметки готовы, если бы не наехал на них «Ревизор»… Да по вашему же соизволению мне покоя не дают «Мертвые души».
– Я же, выходит, и виноват? – говорил Пушкин.
– А что писать о театре, Александр Сергеевич, когда готовится и вскоре совершится неслыханное чудо? Вы про оперу Глинки знаете?
– Кое-что о ней слыхал, но ясного представления не имею.
– Как же так! – восклицает Гоголь, довольный тем, что может увести разговор от заметок о петербургской сцене. – Вы, Александр Сергеевич, стало быть, главного не знаете, что готовится на театре.
– Кроме «Ревизора»?
– Вместе с ним! Комедия моя трактует о кувшинных рылах, именующих себя Русью. В опере Глинки явится живая Русь, которую не хотят знать кувшинные рыла. Измученный пошлостью и ничтожеством моих героев, я душой возрождаюсь на пробах «Ивана Сусанина». Мы просим русского характера у словесности. А является этот русский характер в опере! И самое удивительное, Александр Сергеевич, – русская стихия с такой простотой и силой выражена в музыке, что словесности остается только позавидовать.
– Насколько мне помнится, – сказал Пушкин, – поэму начал писать Жуковский и передал барону Розену.
– И потому в опере происходит отчаянная сеча, – Гоголь усмехнулся, – Музыка, выхваченная из самых глубин народных, сражается с немецкими виршами, приготовленными для русского царя. Бароновы стихи кажутся в этой опере такой же несообразностью, как если бы костромских баб, которые там действуют, напудрить французской пудрой или затянуть в корсеты. Пудра к ним не пристанет, а корсеты лопнут.
К Пушкину приехал Одоевский и немедля присоединился к разговору:
– На днях будет открытая репетиция. Непременно приезжайте к Виельгорским, Александр Сергеевич.
Собеседники занялись журналом. Гоголь давно был испытанным помощником. Владимир Федорович Одоевский взял на себя многие хлопоты с типографией и с корректурами. Он делал это с тем большей охотой, что накануне выхода в свет первого номера «Современника» Пушкин был отвлечен печальными семейными делами: он ежедневно бывал у матери, давняя болезнь которой угрожала роковым исходом.
Вернувшись домой, поэт до ночи сидел над рукописями, предназначенными для журнала. Да если бы на руках был только «Современник»! Еще больше времени занимал роман о Пугачеве и пугачевцах. Пушкин избрал наконец сюжетный вариант, наиболее надежный для прохождения через цензуру. Невозможно было вывести в одном произведении и Пугачева и пугачевца-дворянина. Дворянин-пугачевец был из романа исключен. Это была жертва цензуре. Она далась поэту ценою многих мучительных колебаний. Зато еще больше утвердился в романе Емельян Пугачев.
Предприятие и при этих условиях оставалось очень рискованным: роман о Пугачеве должен был вызвать самое пристальное внимание властей. Для того, чтобы усыпить это внимание, нужно было обдумать тысячу ловких ходов, выверить каждое слово.
Многие страницы «Капитанской дочки» были написаны. Поэт решил украсить каждую главу эпиграфом из народных песен. И сама песня действенно звучала в романе.
Так работал Пушкин и, вспоминая рассказы об опере Глинки, размышлял: что может сделать из этих песен ученая музыка?
А песни, от которых родилась героико-трагическая опера, прозвучали наконец в роскошной зале графа Виельгорского, где издавна являли свое искусство первые музыканты Европы.
Внешне все было так, как обыкновенно бывало на музыкальных собраниях. Михаил Юрьевич чувствовал себя героем дня. Он, как всегда, покровительствует музыкальному таланту. Для прославления этого таланта собраны лучшие артисты. Даже за пультами оркестрантов сидят выдающиеся музыканты, которые считают честью для себя это скромное участие. В смежных с залой комнатах собрался хор Большого театра. Готовы к выходу первые певцы петербургской оперы. Граф Виельгорский не пощадил ни сил, ни средств. Никто и не вспомнит теперь о жалких попытках князя Юсупова с его доморощенным оркестром.
Михаил Юрьевич сидит в своем обычном кресле в первом ряду и не может преодолеть внутренних сомнений. Всю жизнь он делал карьеру на музыке при высочайшем дворе. Но может ли музыка, которая сейчас прозвучит, способствовать чьей-нибудь карьере?
Граф полувопросительно взглядывает на Жуковского. Жуковский следит за приготовлениями оркестрантов и душевно улыбается знакомым. Неподалеку от него замер в неподвижности автор поэмы. Сегодня барон Розен переступит через тот порог, за которым ждет смертного неумирающая слава. Поглощенный этой мыслью, Егор Федорович не обращает внимания на знакомых, которые заранее спешат поздравить его с победой. Выслушав собеседника, барон пытается благодарственно склонить голову, но это плохо ему удается из-за необыкновенно высокого воротника, подпирающего подбородок.
Только одно кресло в первом ряду оставалось незанятым. Повидимому, из-за этого обстоятельства и не начинали показ оперы, хотя весь оркестр давно был в полном сборе и последний из оркестрантов окончил настройку инструмента.
Зала полнилась шумом голосов. До Евгении Андреевны Глинки долетали только отдельные, неясные реплики. В этой пышной зале, наполненной блестящим обществом, ельнинская провинциалка слегка растерялась. Рядом с ней сидела Марья Петровна. Но и следа растерянности нельзя заметить на ее лице. Среди признанных светских красавиц Мари блистала своей свежестью. Кроме того, за нею были все права новизны. Среди неясного говора Марья Петровна часто улавливала восхищенный вопрос: «Кто это?» Она не слышала ответов. Неужто будут говорить, что она только жена артиста, оперу которого должны исполнять? Словно бы для того, чтобы успокоить ее страдающую гордость, граф Виельгорский несколько раз подходил к ней и, не скрывая, любовался. А ведь Михаила Юрьевича трудно было удивить женской красотой. Издали с душевным добродушием поглядывал Жуковский. Репетиция все еще не началась. Но в душе Марьи Петровны расцветали такие обольстительные надежды, что она стала еще краше.
В залу вошел новый гость. Граф Виельгорский пошел к нему навстречу и провел через зал. Директор императорских театров Гедеонов грузно опустился в единственное кресло, которое оставалось свободным в первом ряду.
Теперь можно было начинать репетицию.
Глинка вышел из внутренних комнат и, приветствуемый публикой, встал к дирижерскому пульту. Репетировали сцену в селе Домнине и польский акт.
От номера к номеру все величественнее и неподвижнее становился барон Розен. Казалось, он на глазах становился выше ростом. Ведь это именно ему и прежде всего ему аплодировал зал, когда костромские мужики заявили о своей пламенной любви к царю. Егор Федорович готов был забыть все прежние неудачи на поприще драматурга, так явственно видел он перед собой заслуженные лавры.
Василий Андреевич Жуковский слушал музыку, опустив глаза долу. Ничто не могло рассеять отшельника-поэта, наслаждавшегося течением бесплотных звуков…
Глинка не помнил, как окончилась репетиция. Было много аплодисментов. Он с кем-то говорил, кто-то жал ему руку и поздравлял. Граф Виельгорский представил его Гедеонову.
– Надеюсь, – сказал директору Михаил Юрьевич, – что наша скромная репетиция будет первым шагом к тому, чтобы театральная дирекция заинтересовалась оперой.
– Дирекция готова рассмотреть оперу со всей благосклонностью к патриотическим идеям ее сочинителей, – ответил Гедеонов, бросив рассеянный взор на Глинку.
Глинку отвлекли. Гедеонов посмотрел ему вслед и снова обратился к Михаилу Юрьевичу:
– А ваше мнение о музыке господина Глинки? Не скрою, отзыв вашего сиятельства будет весьма ценным для дирекции.
– Наш оперный театр еще никогда не имел такой высокой, такой патриотической поэмы, – веско отвечал Виельгорский. – Что же касается музыки господина Глинки, несомненно русской, – и в этом ее бесспорное достоинство, – есть, конечно, некоторое увлечение автора простонародной песней… Но, может быть, и это увлечение оборачивается достоинством. Благодаря искусству барона Розена все эти песни направлены к царскому престолу. – Михаил Юрьевич взял под руку подошедшего Жуковского. – Не прав ли я, многоуважаемый Василий Андреевич?
– Не берусь, никак не берусь судить по части музыкальной, – отвечал Жуковский, – но уверен, что сюжет, разработанный бароном, удостоится благосклонного приёма.
Гедеонов навострил уши. Жуковский никогда не говорил зря и редко сшибался.
Глинка между тем подошел к своим:
– Едем скорей домой. Кажется, сейчас упаду. – Он устало улыбнулся матери и жене. – Едем домой!
– А что сказал тебе директор театра? – спрашивала в карете Мари.
Глинка с трудом оторвался от каких-то мыслей.
– Директор положительно говорил мне, что оперу можно направить в дирекцию. – И он снова замолк.
У Виельгорских еще долго не расходились. В этот день стало складываться общее мнение, и прежде всего выяснился безусловный успех автора поэмы.
– Егору Федоровичу удалось с сердечной правдой показать любовь народа к царствующему дому.
– Он нашел для этого такие искренние, такие трогательные, такие русские слова!
– Но можно ли забыть труд Жуковского! Как жаль, что мы были лишены удовольствия слышать гимн, который он сложил для эпилога оперы!
Так говорили, разъезжаясь от Виельгорского, избранные посетители. Слухи о репетиции у Виельгорских широко распространились по городу. Но в них было нечто такое, что до глубины души поразило Одоевского.
– Престранная вещь, – говорил он Глинке, заехав к нему на следующий день. – Словно сговорившись, все ухватились за поэму и славят Розена. А о музыке – можно ли этому не удивляться! – почти ничего. Неужто никто ничего не понимает?
– Понимают, Владимир Федорович! Может быть, не хуже нас с тобой понимают. Здесь-то и зарыта собака.
– Помилуй, какая собака?
– А та, – объяснил Глинка, – что хотят мою музыку представить как некое музыкальное приложение к поэме Розена и притом, заметь, как несущественное приложение, которое можно терпеть во имя поэмы. А я к триумфальной колеснице барона прикован быть не хочу. Слуга покорный!
– Как прикажешь понимать? Надеюсь, ты приготовил прошение в дирекцию?
– Нет, – отвечал Глинка. – Еще многое надо сообразить.
– Да ты, Михаил Иванович, позволь опросить, в своем уме? Как можно медлить с тем, что уже принадлежит русской музыке и составит славу нашего театра?
Одоевский выходил из себя. Он убеждал и заклинал автора «Ивана Сусанина» не медлить с прошением ни одного дня.
Глинка сидел хмурый. Никакого ответа не дал.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































