Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
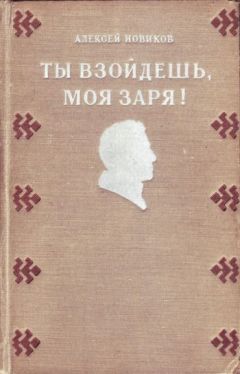
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 44 страниц)
В отзыве о сиротстве русской литературы Николай Александрович Мельгунов по обычаю погорячился. Еще в конце 1830 года вышел в свет, после многих мытарств, пушкинский «Борис Годунов». Демонстративно наградив Загоскина и указав должное направление русской словесности, император разрешил наконец печатать трагедию Пушкина. Но теперь и самый недогадливый из критиков мог наверняка сказать, как надо трактовать «Бориса Годунова». Народ представлен был в трагедии Пушкина без умильных монологов в адрес батюшки православного царя. Народ не произносил витиеватых речей о приверженности к вере православной. Народ не кичился ни щами, ни брагой. Народ не бил царю челом.
Но где же угнаться за Загоскиным! Несведущей рукой Пушкин изобразил в трагедии народ, ожидающий согласия Бориса на царство. Надо бы народу лить слезы восторга, как умеет лить их за народ Загоскин. Вот неиссыхающее перо! У Пушкина же в этот священный миг истории один из толпы просит луку, чтобы вызвать слезы, другой собирается мазать слюной бесстыжие глаза. И это-то богобоязненный, извечно преданный монархам народ!
Короче говоря, сверившись с историческими романами Загоскина или Булгарина, можно было безошибочно громить историческую трагедию Пушкина. Так оно и случилось. Журнальные сороки застрекотали, перья злобно заскрипели.
Наблюдал эту чернильную бурю и Николай Александрович Мельгунов; придя в должность, он объявил со свойственным ему пылом: никто не понимает «Годунова»!
Но и на этот раз оказался не совсем прав незадачливый пророк. Трагедия Пушкина была раскуплена в Петербурге в одно утро. Народное слово поэта с неизменной силой противостояло мутным потокам казенной литературы. Пушкин зорко следил за новыми сочинениями, рождавшимися в усадьбах квасных московских патриотов. Едва вышел в свет «Рославлев», поэт тотчас написал Вяземскому: «Что ты думаешь о «Рославлеве»?» Вяземский отвечал: «Нет истины ни в единой мысли, ни в одном чувстве, ни в одном положении».
Но дело было куда серьезнее. Простодушный московский писатель снова посягал на героическую историю русского народа. Бог, царь и дворяне спасли Россию, – утверждала каждая страница в «Рославлеве». Загоскину надо было отвечать. Ирония, с которой писал Пушкин о «Юрии Милославском», оказалась недостаточной. Воинствующие московские дворяне бахвалились своей доблестью и притязали на монопольное звание спасителей России. Сюда и направил удар Пушкин.
Затеяв невинную с виду полемику о сюжетных линиях загоскинского романа, поэт дал исчерпывающую характеристику тем, кто претендовал на титул спасителей России в 1812 году.
«…Светские балагуры присмирели, – писал Пушкин, – дамы вструхнули. Гонители французского языка и Кузнецкого Моста взяли в обществах решительный верх и гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюрок; кто отказался от лафита, а принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедывать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни».
Пушкин готовил ответ Загоскину для «Литературной газеты». Но «Литературная газета» была закрыта, а флюгеры-критики снова объявили «Рославлева» народным романом.
Николай Александрович Мельгунов попрежнему исполнял скромную должность актуариуса в московском архиве. В глухом переулке за Покровкой стоит древний каменный дом. В его тесных подвалах покоятся документы, завещанные стариной потомкам. В верхнем этаже жил когда-то спесивый боярин, не признававший Петровых новшеств. Теперь в этих горницах с низкими, давящими сводами, с узкими окнами, скупо пропускающими свет, сходятся архивные юноши. Казалось бы, до этой мрачной храмины не достигнет ни один голос жизни. Но ненадежны стали самые толстые каменные стены. Здесь горячо обсуждали молодые москвичи вести об Июльской революции во Франции, о восстании польских патриотов против русского самодержавия. Здесь и витийствовал суматошный актуариус Николай Александрович Мельгунов:
– Свобода есть клич нового мира! Свобода совести, свобода мысли, свобода действия!..
И хоть гаснут под мрачными сводами горячие слова, актуариус продолжает развивать свои проекты. В то время, когда жителям Петербурга было предоставлено право читать «Северную пчелу», а в Москве выходил единственный журнал «Телеграф», безвестный молодой человек, ничем не заявивший своей преданности престолу, вздумал стать издателем нового журнала, да еще какого!
Мельгунову желательно издавать журнал энциклопедический, освещающий все отрасли наук и художеств. Будущий издатель уже подал о том прошение, приложив необходимые справки и программы. Конечно, в программе, поданной по начальству, издатель не говорил о кличах нового мира.
Заглядывая в архив или разъезжая по музыкальным собраниям, Мельгунов уже видел перед собой объемистые книжки «Журналиста». Это видение почти превратилось в явь, когда разрешение на издание было получено.
– А где же сотрудники-энциклопедисты? – вдруг спохватывается Мельгунов и недоуменно соображает: из тех, кто бунтовал в «Московском вестнике» против Погодина и Шевырева, никого нет в Москве. Рожалин уехал, Соболевский за границей, даже Петр Киреевский путешествует и не торопясь охотится за песнями. С кем же издавать журнал?
Правда, по пылкости нрава, Николай Александрович Мельгунов водит знакомство со студентами университета. Есть среди них замечательный юноша – Николай Станкевич, почти энциклопедист по знаниям. У Станкевича собираются студенты, склонные к серьезному обсуждению многих вопросов… Кроме того, Станкевич обожает музыку! Когда он приходит к Мельгунову и Мельгунов играет из Моцарта, студент говорит о музыке так же вдохновенно, как пристало бы молодому человеку говорить о любимой. Впрочем, о чем бы ни заговорил Станкевич, всегда излучает какой-то особенный свет его необыкновенная душа. А он все говорит, говорит и говорит… Станкевич в курсе всех университетских дел. Он рассказывает Мельгунову о необыкновенном событии в университетских номерах, где живут казеннокоштные студенты. Один из них написал драму из русской жизни. В драме представлена страшная язва русской действительности – крепостное право, и каждое слово автора подобно факелу, зажигающему костер. Сочувствует ли автору сам Станкевич? Конечно! Хотя он еще не успел достаточно изучить это произведение, магически действующее на некоторые молодые умы. Впрочем, Николай Станкевич полагает, что первой целью жизни является глубокое познание мира в философском смысле. Кроме того, молодой философ еще не решил вопрос об участии божественного начала в мироздании. А скоро ли решишь такой вопрос?
Но есть в университете и другой кружок. Там студенты Герцен и Огарев, не отрицая необходимости философского познания мира, склонны куда больше думать о преобразовании неприглядной русской действительности.
В университете бурлит жизнь, участники кружков сходятся и спорят, дружат и борются за влияние на молодежь.
Мельгунов охотно прислушивается и приглядывается к новому поколению и с еще большей охотой угощает друзей музыкой. Как ни мало практичен сам Николай Александрович, но и ему ясно, что Станкевич и его друзья больше склонны к речам и спорам, чем к журнальной деятельности. Собирался будущий издатель журнала познакомиться с драмой, которую написал какой-то студент, но отвлекся и даже забыл его фамилию.
С тех пор, как закончил Николай Александрович разработку программы своего журнала, он сам стал охладевать к нерожденному детищу: пойдут хлопоты с типографщиками да с подписчиками, а там денежные расчеты, да бухгалтерия, да векселя, – пусть лучше подождет «Журналист»!
А вот музыка ждать не может и не будет. Самое страстное желание Мельгунова наконец осуществилось: в Москве объявился новый композитор. О том свидетельствует изящно изданная нотная тетрадь «Романсы и песни. Музыка Н. А. Мельгунова».
Здесь напечатаны песни, сочиненные к трагедии «Ермак» (за историю берутся теперь решительно все, и каждый вкладывает историческим героям свои собственные мысли); далее помещены в тетради романсы Мельгунова на слова Пушкина, Баратынского и Дельвига. У Дельвига, так неожиданно скончавшегося после неприятностей с шефом жандармов из-за «Литературной газеты», Мельгунов взял те же слова «Ноченьки», на которые писал музыку и Михаил Глинка. Николай Александрович не думает состязаться со старым товарищем. Но все-таки любопытно бы показать Мимозе эту пьесу.
А от Глинки второй год ни слуху, ни духу. Пронеслась было даже весть, что он умер на чужбине, но потом, к счастью, выяснилось, что кочует Мимоза по Италии и попрежнему болеет. Да странно и начал он знакомство с божественной Италией. Если верить его давнему письму, пришедшему из Милана, то оказывается, что чуть ли не с первых дней в его комнатах собирается какое-то странное, пестрое общество, не имеющее отношения ни к театру, ни к профессиональной музыке. Впрочем, кто же из итальянцев не поет? А русский маэстро заводит все новые и новые знакомства с этими, по его собственным словам, третьестепенными певцами. Можно подумать, что Глинка и отправился в Италию только для того, чтобы завести эти знакомства. Позднее обозначились, впрочем, в письмах имена корифеев итальянской музыки – композиторов Беллини и Доницетти. Но на том Глинка окончательно замолк.
Неизвестно даже, куда послать ему московскую новинку «Романсы и песни Н. А. Мельгунова». Николай Александрович долго раздумывал, собирался навести справки в Новоспасском, но, к счастью, выручил Сергей Соболевский. Странствуя по Европе, он тоже попал в Италию. Новости, сообщенные им о Глинке, были поразительны. Вот бы сообщить эти новости русской публике на страницах «Журналиста»!
Но «Журналист» так и не двинулся дальше своей энциклопедической программы. Вместо него выходит в Москве новый журнал – «Телескоп», с приложением газеты «Молва». Издает их профессор Московского университета Николай Иванович Надеждин, тот самый, который раньше, назвавшись «Недоумкою», хулил Пушкина и советовал ему сжечь «Бориса Годунова». Ныне Надеждин отрекся от прежних взглядов, изгнал со страниц «Телескопа» и фиту и ижицу и объявил свой журнал органом новейшего европейского просвещения. Есть где печататься теперь и Мельгунову. Опытной рукой он делает из письма Соболевского газетную заметку и помещает в «Молве» «Весть из Италии». В заметке сообщается: «Без сомнения, читателям нашим приятно будет узнать, что наш соотечественник, М. И. Глинка, известный музыкальными произведениями, отправившись в Италию, приобрел в классической стране музыки большую известность и славу. Господин Рикорди, первый нотопродавец в Европе и отличный знаток в музыкальной грамматике, признает господина Глинку равным в композиции двум первым в Италии композитёрам: г.г. Беллини и Доницетти, а в контрапункте отдает даже преимущество господину Глинке».
Заметка в «Молве», вышедшей в конце 1832 года, не привлекла внимания читателей. В Москве помнили романсы Глинки и часто их пели, но далеко не каждый знал фамилию автора; мало кто помнил молодого петербургского артиста, когда-то услаждавшего забывчивых москвичей своим искусством.
Даже сотрудники «Телескопа» и «Молвы», навербованные профессором Надеждиным из студентов Московского университета, заняты главным образом философией. Никто не проявил интереса к музыкальному известию.
Прошло много времени. Мельгунов шел на очередное собрание к Надеждину. На улице его догнал молодой сотрудник «Телескопа», недавно уволенный из университета и теперь перебивавшийся переводами из иностранных газет и журналов.
– Над чем ныне трудитесь? – ласково спросил спутника Мельгунов. – Приятель ваш Станкевич на днях сказывал мне, что переводите с французского роман и занимаетесь составлением русской грамматики. Особенно должен похвалить вас за грамматику. Прекрасная мысль! И хоть неблагодарен предпринятый вами труд, но сторицей вознаградится той пользой, которую принесете просвещению.
Молодой человек искоса взглянул на оратора и хотел что-то ответить, но Мельгунов с живостью продолжал:
– Школьные руководства наши держатся мертвой буквы, а молодое поколение невольно усваивает пренебрежение архаистов к законам живого языка.
Николай Александрович мог бы еще с большей полнотой развить затронутую тему, но спутник смущенно его перебил:
– Господину Станкевичу не следовало бы распространяться о моих занятиях, которые далеки от завершения. Иначе могу безвинно прослыть многообещающим талантом, которыми и без меня полна Москва. Но попробуйте воевать с Николаем Владимировичем, когда прекраснодушие является едва ли не главной его чертой!
– Истинно идеальная душа! – охотно согласился Мельгунов.
– И в том многие ему завидуют, – спутник Мельгунова улыбнулся. – Но оставим отвлеченность. Мне давно хотелось спросить вас, Николай Александрович, об одной вашей публикации в «Молве».
– Стало быть, мне нужно прежде всего приветствовать в вашем лице читателя, любознательного к вопросам музыки? – обрадовался Мельгунов.
– Я имею в виду вашу заметку о нашем соотечественнике, путешествующем в Италии.
– Не хочу быть пророком, – перебил Мельгунов, – но верю свято, что мне посчастливилось сказать первое слово в печати о гении отечественной музыки. О если бы вы сами слышали этого волшебника!
– Но точно ли считаете вы Италию классической землей музыки, а хвалебный отзыв итальянского издателя высшей наградой русскому артисту?
– Но кто же авторитет в Европе, если не миланский издатель Рикорди! – воскликнул Мельгунов. – Смею заверить вас, что Италия по праву зовется обетованной землей музыки.
– Мне привелось читать во французских газетах мнение решительно противоположное, – отвечал Мельгунову собеседник. – Автор прелюбопытных писем из Италии с беспощадностью развенчивает музыкальное искусство Италии и приводит неоспоримые тому доказательства.
– Не читал! – с огорчением признался Мельгунов. – Напомню, впрочем, что французы охотно жертвуют истиной в пользу эффекта. Но вы премного меня обяжете, если познакомите с этими письмами. Да не готовите ли вы перевод для «Телескопа»?
– Если редактор пропустит.
– Наш уважаемый Николай Иванович о музыке что угодно пропустит. У нас до сих пор считают музыку прикладным делом для серьезного журнала, вроде картинок с модами.
Спутники подошли к университету, где Надеждин имел казенную квартиру.
– Так когда же позволите мне ждать вас? – спросил Мельгунов.
– Не замедлю быть, только приведу в порядок рукопись перевода, – отвечал молодой сотрудник «Телескопа».
Глава третьяМельгунов занимался устройством в Москве филармонического общества, подобного тому, которое издавна славилось в Петербурге. Сам Гайдн благодарил когда-то петербургских артистов за исполнение его оратории. В Петербургской филармонии впервые в мире исполнялись некоторые произведения Бетховена. Пора было и Москве обзавестись собственной филармонией. Много хлопотал с этим делом беспокойный актуариус, но из хлопот ничего не вышло. Тогда Мельгунов принялся за организацию частных музыкальных собраний с серьезными программами. Артисты, жившие в Москве, обеспечили этим собраниям заслуженный успех.
Успех мог бы быть еще прочнее, если бы Николай Александрович, душа всего предприятия, не ударился вдруг в словесность. Он готовил для печати сборник своих рассказов и работал над большой повестью «Да или нет?» Сюжетом повести автор избрал суд присяжных во Франции, хорошо известный ему по путешествиям юных лет. Повесть, хотя и косвенно, отражала клич нового времени и издали целила в застойное болото русских судов.
Мельгунов охотно читал отрывки будущей повести знакомым. В особняке на Новинском бульваре музыка уступила первое место словесности. Сюда еще охотнее заглядывали теперь сотрудники «Телескопа» из университетской молодежи.
Николай Александрович снова чувствовал себя юным, полным сил. После чтения повести непременно разгорались споры. Спорили не о Франции, конечно. Говорили о российской действительности, и тогда с недоумением прислушивался хозяин к речам университетских гостей: «Да неужто же все так плохо на Руси?»
И опять слушал, как перебирали студенты и администрацию, и суд, и канцелярскую мертвечину, и рабские законы, и мужицкую нищету, и продажную словесность, и университетскую жизнь.
– За что уволили Виссариона Белинского? – в негодовании спрашивал один из малознакомых хозяину студентов. – Этакую-то голову отставить от университета! Да еще в увольнительном билете прописали: «По слабому здоровью и по ограниченности способностей»!
– Не всякому слову, прописанному в билете, верить надо, – отвечал другой студент. – Припомнили ему его драму.
– Позвольте, позвольте! – вмешался Мельгунов. – Не тот ли это студент, который ныне поставляет переводы в «Телескоп»?
– Тот самый, – подтвердил Станкевич. – Редкого, хоть и резкого, ума человек.
– Да ведь я его давным-давно жду! – обрадовался Мельгунов. – Он обещал мне весьма интересную статью и пропал.
– Мы и сами его редко видим, – отвечал Станкевич, – то болеет, то занят. Необыкновенный человек, но страшный нелюдим.
– Будешь нелюдимом, – вмешался студент, который начал разговор, – когда не в чем выйти на улицу!
– Господа! – взмолился Мельгунов. – Если кто-нибудь из вас увидит господина Белинского, передайте ему мою покорную просьбу пожаловать в любой день. Я бы и сам к нему поехал…
– Нет, нет! – перебил Станкевич, – Виссарион не любит неожиданных посетителей. Мне и самому попало, когда я нагрянул в его трущобу. Клянусь, Николай Александрович, никогда не предполагал, что в подобных условиях может жить и работать образованный человек. Однако, если он обещал у вас быть, поверьте, явится непременно. Да чем же так заинтересовал вас Белинский? К музыке, насколько я знаю, он не имеет отношения.
– А между тем, представьте, произошел между нами именно музыкальный разговор.
И стоило помянуть о музыке, как Станкевич стал просить Мельгунова играть.
Мельгунов с увлечением играл Бетховена и еще с большей горячностью пропагандировал триумвират, которому теперь поклонялся. В этом триумвирате числились Гайдн, Моцарт, Бетховен.
Когда гости разошлись, хозяин, несмотря на поздний час, сел за свою повесть. Французские судебные законы были лучше ему известны, чем русская неразбериха, в которой творят расправу над человеком алчные подъячие. Мельгунов опять забыл о переводчике из «Телескопа». Но тот все-таки пришел на Новинский бульвар.
– Заждался, совсем заждался вас, Виссарион Григорьевич, – приветствовал его хозяин и провел в кабинет.
Мельгунов уже знал в подробностях историю этого исключенного студента. На студенческих сборищах все еще читали драму, которую он представил в цензуру и которой досмерти перепугались заседавшие в цензурном комитете университетские профессора-аристархи. Кажется, со времен Радищева не раздавалось на Руси такое страстное и гневное слово против крепостников. Историю с драмой для спасения чести университета кое-как замяли, а студента, выждав время, для спасения той же университетской чести, уволили.
Пока долгожданный гость развертывал свою рукопись, Мельгунов успел прочесть заголовок: «Нынешнее состояние музыки в Италии. Письмо энтузиаста».
– Полюбопытствуем, что сообщает ваш энтузиаст.
– Сделайте одолжение! – отвечал гость.
– «Ты удивлен, любезный друг, – начал читать Мельгунов, – моим молчанием об итальянской музыке и упрекаешь меня, что я забыл в своих письмах искусство, долженствующее составлять главную прелесть очаровательной страны, где я теперь путешествую. Забыть ее! Могу ли я забыть музыку?»
Такое начало очень понравилось Мельгунову. Но вот он пробежал мелко исписанную страницу, быстро перевернул ее, впился глазами в следующую и не мог удержаться от восклицания:
– Какой разрушительный скепсис! Но кто он такой, автор этих писем?
– Молодой французский музыкант Гектор Берлиоз, посланный для усовершенствования в Италию.
– Никогда не слыхал такого имени, – Мельгунов пожал плечами и снова углубился в рукопись перевода.
Путешественник-француз писал о том, как он прослушал во Флоренции оперу Беллини «Монтекки и Капулетти». Тут ему вспомнилось чье-то едкое замечание: в итальянском театре, прежде чем поднимут занавес, оркестр производит некоторый шум, и это называют в Италии увертюрой. «И в самом деле, – продолжал автор писем, – оркестр, хромая то на правую, то на левую ногу, добрался кое-как до конца самой ничтожной ткани общих мест. Между тем разговоры не умолкали, и на оркестр никто не обращал внимания». Потом, когда началось действие оперы, персонажи явились один за другим, и почти все, по свидетельству француза, пели фальшиво.
– Невероятно! – воскликнул Мельгунов.
– Читайте дальше, – сказал, улыбаясь, переводчик.
А дальше взыскательный гость Италии писал о том, как он пошел на «Весталку» Пачини и покинул театр в половине второго действия, воскликнув, подобно Гамлету: «Увы, это полынь!»
Озадаченный Мельгунов снял недавно заведенные очки и потер переносицу.
– Вы музыкант, Виссарион Григорьевич?
– Ничуть, – отвечал бывший студент. – Ученая музыка осталась для меня недоступной. Но уже в родных моих Чембарах я проникся прелестью наших песен.
– Так, – неопределенно протянул Мельгунов и снова обратился к рукописи.
Теперь переводчик излагал впечатления путешественника от посещения других итальянских городов. В Генуе, на родине великого скрипача Паганини, люди не могли сообщить ему никаких сведений о знаменитом земляке. В Неаполе капельмейстер оперного театра отбивал оркестрантам такт, стуча смычком по пюпитру.
«Меня уверяли, – писал автор писем, – что без этого музыканты, которыми он дирижировал, затруднились бы следовать за тактом».
Факты, приведенные в рукописи, были так вопиющи, так сенсационны, что Мельгунов читал и снова возвращался к прочитанным страницам.
– Вы, как я понимаю, сделали выборки, сосредоточившись преимущественно на музыкальном театре?
– Признаюсь вам, Николай Александрович, приверженность моя к театру неискоренима. Опера не составляет исключения. Но, делая перевод, я вовсе не руководствовался личными вкусами. Надо же показать когда-нибудь нашим итальянолюбцам, каков в натуре их идол. И это тем более необходимо сделать, что наши именитые москвичи, бахвалящиеся своим патриотизмом, снова собираются потратить огромные деньги, выколоченные по копейкам с мужиков, на приглашение итальянских артистов.
– Вот вы куда метите?
– Но что же делать, если музыканты наши молчат? Пора объявить войну ложным богам и их жрецам.
Прислушиваясь к славам гостя, Мельгунов жадно листал рукопись.
– А, вот наконец и Рим! – воскликнул он.
Попав в Рим, французский стипендиат вовсе отказался говорить о театре. «Нет ничего труднее, – писал он; – чем повторять одни и те же эпитеты: «Жалко! Смешно! Никуда не годится!» В оперном театре Рима путешественник насчитал всего одного виолончелиста, который одновременно занимался ремеслом ювелира. «Но он еще может почитаться гораздо счастливее одного из своих собратьев, который занимает должность набивальщика соломенных стульев», – с горечью прибавлял автор писем.
– Чудовищно! – воскликнул московский музыкальный критик.
И тотчас прочел в рукописи перевода:
«Увы! Это сущая правда! Рима нет более в Риме! Во всей Европе есть театры, концерты и религиозная музыка, достойная внимания и даже удивления друзей искусства. Везде – кроме Рима! Отыщите между столицами самую антимузыкальную, самую скудную великими артистами, самую запоздалую в искусстве, разве тогда будешь принужден отдать пальму первенства владениям папы».
– Вот куда угодила бомба! – Мельгунов был заметно озадачен. – Пишет господин Берлиоз о музыке, а досталось его святейшеству. Недурной рикошет!
– По-моему, меткое попадание в желаемую цель, – отвечал переводчик писем Берлиоза. – Обратите внимание на одну знаменательную фразу, которую я тщательно сохранил. – Он нашел в рукописи нужное место и многозначительно прочел: – «Вот в каком состоянии нашел я искусство в Италии. Целые томы вышли бы, если бы вздумалось писать о причинах, сделавших его неподвижным в земле столь прекрасной, между тем как исполинскими шагами идет оно в прочих странах Европы».
Переводчик отложил рукопись в сторону.
– Для объяснения причин падения искусства в Италии, – продолжал он, – вовсе не нужно писать целые томы. Кто же не знает, что на севере Италии владычествуют австрияки, в Риме изуверствует наместник Христа, на юге, в Неаполе, сидит карликовый король на картонном троне – и все они боятся одного: как бы не скинул народ чужеземного и церковного ига. В стране, разодранной на части и лишенной национального единства, не может быть высокого искусства. Кто этого не поймет? Итальянская словесность давно и справедливо почитается отсталой. Теперь и музыканты обнажают беспощадную истину.
Исключенный из университета студент говорил с горячностью. На его впалых щеках заиграл румянец.
– Действительно, не завидна политическая участь Италии, – согласился Мельгунов. – Но разве и в рабстве не творит народ? За примерами нам, русским, недалеко ходить.
– Полноте! – с негодованием воскликнул гость. – Не лишайте русский народ того, чего не мог отнять у него ни один деспот. Наше национальное сознание, попираемое доморощенными лжепатриотами, не страдает, по счастью, хоть от иноземного владычества. Да и в Италии не может не творить народ. Делая выборки для перевода, я сохранил все относящееся к народной итальянской музыке. Смотрите, как скупы эти строки, хоть и говорит каждая сама за себя. Вот заслушался путешественник сельской песни, вот встретил бродячих музыкантов, спускающихся с гор. А вот отзвучала где-то в деревне чья-то серенада, и звуки ее показались французу первоначально дикими. Но гляньте, что пишет он далее: «Я так был ею поражен, что до самого утра пробыл без сна, без мечтаний, без мыслей…» Эх, обидно скуп оказался в этой части французский музыкант!
Переводчик стал складывать свою рукопись. Мельгунов следил за быстрыми движениями его рук.
– Спору нет, Виссарион Григорьевич, важную статью избрали вы для перевода. Но в вашем изустном толковании она становится стократ серьезнее.
– Но я бы и не затратил труд на перевод, если бы не был убежден, что он сослужит пользу русским читателям.
– Жаль, что, ознакомившись с этим «Письмом энтузиаста», как значится в заголовке, наши читатели не услышат изустных комментариев переводчика! – Мельгунов взглянул на гостя. – Не большего ли энтузиаста вижу я перед собой? От всей души буду рекомендовать ваш перевод Надеждину. Кстати, соотечественник наш и приятель мой, господин Глинка, о котором я писал в «Молве», сообщил мне из Италии престранные вещи. Перезнакомился бог знает с кем и слушает эти самые народные серенады. Может быть, этак будет больше пользы для музыки?
Гость собрался уходить. Хозяин дружески проводил его и, прощаясь, как будто невзначай опросил:
– Простите за нескромное любопытство, – как называлась написанная вами драма, столь тягостно повлиявшая на вашу университетскую карьеру?
– Я назвал ее «Дмитрий Калинин». – Гость нахмурился. – Но, право, я не люблю вспоминать о ней. Если человек не родился художником, единственное спасение его состоит в том, чтобы осознать свою ошибку и не повторять ее.
Слуга закрыл за Виссарионом Белинским дверь. Мельгунов провел этот вечер в полном одиночестве. Сидел за письменным столом и размышлял. Еще один представитель молодого поколения появился в этой комнате. Сдается, этот исключенный студент не похож на прочих.
Долго пребывал в рассеянности писатель-музыкант, потом разыскал письмо Глинки. Ну да, так и есть: черт знает кто составляет его общество! Да чем же занят он в Италии?..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































