Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
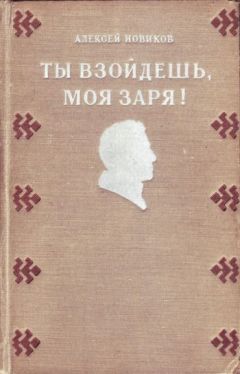
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 44 страниц)
Софья Петровна охотно брала к себе младшую сестру. Она ничего не имела против того, чтобы Мари готовилась к светской жизни под руководством Мишеля. За молодым человеком были все права свойства.
И встречи становились все чаще и чаще. Иногда, когда Глинка уезжал в город, он видел только что приехавшую Мари. Несколько ничего не значащих слов – вот, собственно, и все, что происходило при этих коротких встречах.
Иногда он возвращался совсем поздно. В столовой его ждал одинокий ужин. Все давно разошлись на покой, но вдруг слышатся чьи-то осторожные шаги и в комнату входит полусонная Мари. Тогда одинокий ужин, к которому не хотелось притронуться, превращается в роскошное пиршество. Это пиршество продолжается до тех пор, пока Мари не скажет, собираясь уходить:
– Покойной ночи!
– Еще минутку, – просит Глинка, – одну коротенькую минутку!
Девушка отрицательно качает головой.
– До завтра!
Ее уже нет в столовой, а Михаил Иванович смотрит ей вслед и думает: кажется, он начинает серьезно привыкать к этому милому дитяти?
После музыкального вечера у Демидовых он торопился вернуться домой.
В столовой, как всегда, был накрыт для него ужин. Он долго прислушивался к тишине. Мари не пришла.
Зато утром он увидел ее за кофе. Полковника уже не было дома. Софья Петровна спешила в Гостиный двор. Мари хозяйничала. Кофе показалось в это утро Глинке волшебным напитком. Он с воодушевлением рассказывал Мари, как пела вчера Елена Демидова. Прошедшие годы ничего не отняли у этой необыкновенной певицы.
Мари умеет слушать. А потом она подробно расспрашивает об этой женщине, богаче которой нет, кажется, в Петербурге. Мари хочет знать все: о ее туалетах, о драгоценностях, которые она носит, об ее особняке, о концертной зале…
– Неужто с малахитовыми колоннами? – переспрашивает Мари.
Она никак не может представить себе залу с этими малахитовыми колоннами. Она никогда не слыхала такого слова.
Глинка пристально на нее смотрит.
– Как я мало знаю вас до сих пор! – говорит он. – Мне всегда казалось, что у вас темные глаза, а они, оказывается, совсем светлые, как морская вода.
– А это плохо? – озабоченно спрашивает Мари.
Глинка заверяет честным словом, что можно помириться и с такими глазами на крайний случай. А сам любуется ею и все чаще и дружески болтает с Мари.
Ему лучше работается, когда он знает, что она бродит по соседним комнатам. Даже пение Алексея Степановича теперь пригодилось.
– Я подсунул ему предлинный романс, по меньшей мере на десять куплетов, – шепчет Глинка Марье Петровне. – Теперь мы свободны и надолго.
Они усаживаются на дальнем диване и шепчутся, как заговорщики.
А по вечерам собираются любители музыки, все те же приятели Алексея Степановича. Софья Петровна любезна с этими молодыми офицерами, но с грустью видит, что в ее салоне все остается попрежнему. Из светских знакомых Михаила Ивановича появляется только одна титулованная особа – князь Одоевский. Но и он сошел с ума на музыке. А Софья Петровна по горькому опыту с собственным мужем знает, к чему приводит музыкальное помешательство.
Одоевский, так же как и Глинка, готов проводить время с капитанами и поручиками, и даже с подпоручиками, лишь бы они смыслили в музыке. А на днях в гостиной Софьи Петровны появился совсем странный субъект: крохотного роста, в голубом сюртуке с красным жилетом. Вдобавок этот субъект, отрекомендовавшийся хозяйке дома Александром Сергеевичем Даргомыжским, говорил необыкновенно высоким голосом. Но стоило ему сесть за рояль, и надо было видеть, с каким азартом заговорили о нем Глинка с Одоевским: нашли, мол, чудо-фортепианиста!
Словом, не прошло еще и месяца с приезда Глинки, а голубой сюртук с красным жилетом стал постоянным украшением салона Софьи Петровны. И князь, единственный князь, запросто приезжавший к Глинке, оказался не только музыкантом, но и писателем.
Едва в гостиной стихала музыка, Одоевский снова губил свое княжеское достоинство в глазах Софьи Петровны. Вместо того чтобы начать приличный в салоне разговор, он вытаскивал журнал или газету.
– Ты читал? – спрашивал он у Глинки. В руках его был небольшой газетный листок, а на княжеском лице какая-то растерянность и недоумение.
Еще бы Глинке не читать! Московская газета «Молва» приобрела в Петербурге громкую известность. Ее требовали у книгопродавцев и в кофейнях. Номерами никому раньше не известной «Молвы» ссужали в великое одолжение. Содержатели петербургских кофеен, которые предусмотрительно обзавелись «Молвой» с начала года, собирали обильную жатву. Журналисты, университетские студенты, чиновники из молодых в один голос требовали «Молву». Ее листали до дыр, спорили до хрипоты, а потом спрашивали встречного и поперечного: «Читали ли вы, сударь, московскую «Молву»?» Наиболее горячие головы даже прибавляли многозначительно: «Вот оно! Начинается пробуждение!»
Глинке не было нужды ни ссужаться «Молвой», ни искать ее по кофейням. Николай Александрович Мельгунов аккуратно присылал ему газету с того номера, в котором начали печатать нашумевшую статью «Литературные мечтания».
Имя автора памятно Глинке по московским разговорам. Раньше был Виссарион Белинский скромным переводчиком итальянских писем Берлиоза. Теперь, подобно набатному колоколу, звучит со страниц «Молвы» его голос:
«…Подломились ходульки наших литературных атлетов, рухнули соломенные подмостки, на которые, бывало, карабкалась золотая посредственность».
«Знаете ли, – продолжает автор «Литературных мечтаний», – что наиболее вредило, вредит и, как кажется, еще долго будет вредить распространению на Руси основательных понятий о литературе и усовершенствований вкуса? Литературное идолопоклонство».
Автор статьи, начав борьбу с литературным идолопоклонством, не щадит ни единого мнимого авторитета. И в каждом номере напечатаны многообещающие слова: «Продолжение будет». Удивительно ли, что «Молву» читают нарасхват? О литературе теперь спорят и те, кто никогда ею не интересовался.
Даже Мари, зайдя в комнату Глинки, с любопытством смотрит на аккуратно сложенные номера «Молвы».
– Читайте, читайте, Мари! – с горячностью говорит Глинка. – Или, хотите, будем читать вместе?
Мари развертывает статью и начинает читать, водя пальчиком по строке:
– «…Мы спали, и видели себя Крезами, а проснулись Ирами». – Она с недоумением поднимает глаза на Глинку. – Какие непонятные слова!..
– Я все вам объясню, Мари. Это из древних преданий…
Девушка снова заглядывает в газету.
– «Мы так гордились настоящим, так лелеяли себя будущим и, гордые нашей действительностью, а еще более сладостными надеждами, твердо были уверены, что имеем своих… – Мари чуть-чуть запинается, – своих Байронов, Шекспиров, Шиллеров, Вальтер Скоттов».
– Надеюсь, здесь вам все понятно, Мари?
Мари конфузится. Ей смутно представляется, что речь в газете идет о чем-то таком, о чем, может быть, и не следует знать порядочной девице.
В этот час Марья Петровна сделала признание, вероятно самое знаменательное за всю свою жизнь.
– Мишель, – сказала она, поборов смущение, – ведь я ничего, просто ничегошеньки не знаю.
Она сидела у стола, низко опустив головку…
– Вы рассказываете о каком-то Моцарте, вы слушаете какие-то симфонии, – в голосе ее послышались слезы, – а меня никогда ничему не учили… Если бы вы только знали, как бедно мы живем!
Эффект от признания получился совершенный. Никакая сцена на театре не могла бы так потрясти: юная красавица снизошла с пьедестала и раскрыла перед чутким другом прекрасное, страдающее сердце. Глинка побледнел и впервые взял ее похолодевшие ручки в свои.
– Говорите, Мари, и помните: как бы ни была печальна ваша повесть…
– Но разве вы не знаете, как мы перебиваемся с мамашей? А мне так тяжело притворяться… – Она улыбается ему сквозь слезы. – У нас на Песках нет малахитовых колонн.
Слово за словом перед Глинкой развернулась нехитрая летопись ее жизни. Уже не он, а она ведет его в неведомый мир: петербургская окраина, жалкая квартира во дворе, унизительная бедность и оскорбительные шутки подгулявших жильцов…
– Мог ли я предполагать! – вырвалось у Глинки. Тридцатилетний мужчина, испытавший все превратности любви и закаленный в неудачах, сострадает девушке всей душой. – Мы будем вместе, Мари, – говорит он с пылом юноши. – И все, что я знаю, будет вашим достоянием.
Слезы еще дрожат в ее глазах, а он дарит ей неожиданное признание:
– Клянусь, вы достойны того, чтобы украшать людям жизнь.
Никто и никогда не говорил с ней так нежно, и ей захотелось продлить эти минуты. Мари продолжала свою повесть, в которой все больше и больше раскрывалось униженное сердце. Мишель узнал очень много о жизни неведомых жильцов неведомой квартиры. Но зачем было знать ему о том, как не раз пытался обнять Мари в коридоре подгулявший ловелас! Мари рассказывала о том, как она рвалась из этого ада к Софи. Однако не было никакой нужды рассказывать другу о том, как пялят на нее глаза офицеры и штатские, когда она едет на извозчике через весь город. Мари обошла молчанием и гвардейских юнкеров, которые подкарауливают ее у подъезда. Обездоленное сердце девушки просило только участия и потому раскрывало только горести и печали.
– Но дайте мне слово, Мишель, что вы никогда, никому, даже Софи, не проговоритесь, что я доверилась вам…
Глинке хочется осушить ее слезы, первые слезы юности, но, растроганный до глубины души, он не смеет ее приласкать. Он только клянется ей, что отныне они будут вместе и он приобщит ее к просвещению.
Можно было бы хоть сейчас приступить к делу. Он уже обвел взором полки с книгами, но жестокая действительность напомнила о себе боем часов. Ему надо было во что бы то ни стало ехать в этот вечер к Жуковскому.
– Во дворец?! – глаза Мари вспыхнули новым блеском. Во дворце Мишель непременно увидит императора или императрицу, или хотя бы фрейлин, усыпанных бриллиантами.
– Не совсем так, – Глинка смеется от души, плененный ее детской болтовней. – К тому же, если бы дело было только в этом, Мари, я бы никогда не променял вашего общества. Но я вернусь и расскажу вам о событиях гораздо более важных, чем те, что совершаются в царских покоях.
Молодые люди, заключившие союз дружбы, простились так, как никогда не прощались до сих пор. Глинка почтительно поцеловал протянутую ему руку. Рука чуть дрогнула, попробовала сопротивляться и… подчинилась.
Мужчина впервые целовал руку Мари. Это было совсем как в романе. Как жаль, что Мишель не ездит к императору! Но о каких же важных событиях он говорил? Трудно водить дружбу с мужчиной… Мари вздохнула и внимательно посмотрела на свою руку: сказать или не сказать сестре о том, что было?
Она медленно побрела к себе. Проходя через гостиную, остановилась перед зеркалом. Из зеркала смотрела на нее девушка, чуть-чуть взволнованная, может быть чуть-чуть чем-то опечаленная.
– Как ты хорошеешь, Мари! – Софья Петровна подошла и глядела на нее так, будто с сестрой произошло что-нибудь необыкновенное.
– А ты? – Мари обернулась к Софье Петровне с искренней укоризной. – Ведь с тобой, а не со мной говорил император!
Софья Петровна погладила сестру по голове. Вероятно, только глупышка Мари еще хранила память о таких давних событиях.
– Ты была у Мишеля? – перевела речь Софья Петровна.
– Разве это нехорошо? – Мари смотрела на старшую сестру ясными глазами.
– Нет, почему же? Вы с ним почти свои.
– Но ты опять все наврала, – вспомнила Марья Петровна. – Мишель вовсе не ездит во дворец.
– Я никогда этого и не говорила, – спокойно ответила Софья Петровна. – Ты вечно что-нибудь нафантазируешь. Просто он ездит к Жуковскому.
– А кто он такой?
– Жуковский? Пишет стихи. – Более подробно Софья Петровна объяснить не могла.
– Вроде Пушкина, значит?
– Да. Только Жуковский гораздо важнее. Алексис говорит, что он облечен доверием императора… Что же рассказывал тебе Мишель?
– Разве все упомнишь! Ах, да! Он рассказывал мне про Демидовых. Как ты думаешь, нет ли там у него амура?
– А тебе что?
– Разумеется, ничего. Вот если бы я была музыкантшей…
– Кажется, все вы скоро помешаетесь на музыке, – возмутилась Софья Петровна. – Выдумаешь тоже! С такой красотой, с такой фигурой, моя девочка, ты будешь и так в золоте ходить… Надо только уметь.
– Вот ты меня и научи.
– Изволь! Если будешь меня слушаться и не влюбишься без спросу в какого-нибудь пустышку… Знаю я тебя, ветреная голова!
Мари мысленно проверила себя: не совершила ли она какого-нибудь промаха с Мишелем?..
– Кажется, приехал Алексис, – – сказала она, прислушиваясь.
Софья Петровна сделала недовольную гримасу.
– Ох, уж этот Алексис! Дослужится когда-нибудь до генерала в отставке, и на том кончится моя карьера. Смотри, детка, не повторяй моей ошибки.
В гостиную вошел Алексей Степанович. Он сочно расцеловал жену и чмокнул свояченицу в лоб.
– Где Мишель? – осведомился полковник.
– У Жуковского, – ответила Софья Петровна.
– А-а! – многозначительно протянул Алексей Степанович. – Высоко метит! А коли оперу свою напишет, тогда, пожалуй, в придворные артисты выйдет.
Мари слушала болтовню полковника без особого внимания: она ни разу в жизни не видела оперы и имела самое неопределенное представление о людях, которые эти оперы сочиняют. Впрочем, последние слова Алексея Степановича заставили ее насторожиться: Мишель может стать придворным артистом.
– А разве есть такие? – спросила она.
– Непременно есть, – отвечал полковник. – А бывали и такие, что сами плевали на королей и герцогов. Гению все простится! К Бетховену, например, коронованные особы на поклон ходили, даром что старик был совсем глухой.
Алексей Степанович излагал историю жизни великого музыканта, руководствуясь не столько фактами, сколько собственным вдохновением. Но именно эта вдохновенная импровизация поразила младшую дочь Луизы Карловны.
– А Мишель-то наш каков! – продолжал Алексей Степанович. – На днях он мне Пушкина стихи показывал, вроде как испанский романс… Стихи еще нигде не напечатаны, но сам Пушкин передал их Мишелю. Сочинит Мишель музыку, опять будут повсеместно петь. Да и с Пушкиным лестно теперь водиться. Не прежний вертопрах, а камер-юнкер высочайшего двора! И жена при дворе блистает. Сам государь император отличил ее среди многих придворных дам.
Софья Петровна слушала мужа, скрывая свои чувства. Уж очень что-то часто говорят про эту Пушкину. Младшая сестра смотрела на старшую сочувственно и готова была сама возненавидеть выскочку Пушкину. Разве не с Сонечкой говорил государь?..
– Ты думаешь, Алексис, что Мишель имеет виды на будущее? – спокойно спросила Софья Петровна. – Но когда же музыканты делали карьеру?
– А слава-то?! – воскликнул Алексей Степанович. – Славу ты в грош не ставишь?
Софья Петровна ничего не ответила.
Глава шестаяУ Жуковского попрежнему собирались поэты, литераторы, художники и музыканты. И сам Василий Андреевич был все тот же: верный слуга царю, когда бывал в императорских апартаментах, и любвеобильный друг искусства, когда принимал у себя друзей.
Глинка застал у поэта большое общество. Среди гостей шел оживленный разговор все о той же нашумевшей статье «Литературные мечтания».
– Так оскорбить священную память Карамзина! – желчно говорил князь Вяземский. – Где же предел дерзости? Хорошо еще, что помиловал борзописец «Историю государства Российского». Зато о прочих сочинениях великого мужа прямо сказано, что они умерли и никогда не воскреснут! Недоучившийся мальчишка призывает беречь от Карамзина наших детей, иначе, мол, Карамзин растлит их чувства приторной чувствительностью… – Вяземский оглядел слушателей. – Вот как действуют в словесности резвые молодчики! Они размахивают кистенем, а мы знай дивимся неслыханной дерзости, вместо того чтобы кричать «караул»… И вам, Василий Андреевич, досталось: кончился, мол, Жуковский!
– Мыши кота хоронят! – Жуковский улыбнулся и мягким движением расправил руки. – А не рано ли? Не семинаристы, собранные кутейником Надеждиным, будут вершить суд. А умен же старый словоблуд: выпустил молодца – круши, мол, все и вся, – но на всякий случай, чтобы не вышло неприятностей ни «Молве», ни «Телескопу», вписал в разбойную статью кое-какие благонамеренные тирады. – Жуковский обратился к Одоевскому: – Вы, Владимир Федорович, не знали ли в Москве этого Белинского?
– Нет, – отвечал Одоевский, – и признаюсь: с трудом могу говорить о статье, поскольку отпущена мне изрядная похвала. Хотя мог бы, конечно, и я возразить: изобразили меня ненавистником светского общества и ниспровергателем основ… Благодарю покорно!
– Да ведь и мне оказана милость! – воскликнул Вяземский. – Однако избави бог от этаких похвал!
Вяземский заговорил о необходимости объединения литературных сил. Он видел опасность в статьях «Молвы», рождающихся в Москве, и брезгливо морщился, вспоминая «Библиотеку для чтения», начавшую выходить в Петербурге. В журнале «Библиотека для чтения» подвизался профессор Сенковский, он же «барон Брамбеус», он же критик с шутовской кличкой «Тютюнджи-оглу». Сенковский, как и Фаддей Булгарин, возмущал Петра Андреевича Вяземского отсутствием всяких убеждений. Однако неизвестный критик «Молвы» отстаивал весьма определенные и бескомпромиссные убеждения. Именно в нем и чувствовал Вяземский опасного врага. Имя Белинского все чаще срывалось с его уст.
– А Пушкин… – Одоевский склонился к Глинке и продолжал с каким-то нерешенным для себя сомнением: – Пушкин, представь, перечитывает «Литературные мечтания» и допытывается у всех об авторе. А мне и право неловко: расхвалил московский критик мою повесть «Княжна Мими» и записал меня чуть ли не в якобинцы.
– Читал, – откликнулся Глинка. – Должно быть, по молодости погорячился критик «Молвы».
– А мне как быть? – продолжал Одоевский. – Задумал я повесть о Себастьяне Бахе, и, конечно, кое-кому из музыкальных богов не поздоровится. Но вдруг меня за то опять Робеспьером объявят?
Среди общего шума раздался голос Жуковского.
– Николай Васильевич! Ждем, с нетерпением ждем! – воскликнул он и пошел навстречу новому гостю.
В гостиную вошел молодой человек в щегольском платье, в ярком жилете. Он медленно обходил собравшихся, дружески здоровался со знакомыми и как-то не то строго, не то недоверчиво присматривался к незнакомым.
– Рекомендую вашему вниманию, Николай Васильевич, – обратился к нему Одоевский, знакомя с Глинкой. – Михаил Иванович Глинка, несомненно, найдет в вашем лице столь же бескорыстного ценителя его музыки, как и сам Михаил Иванович уже объявил себя поклонником вашего таланта.
Гоголь терпеливо выслушал витиеватую аттестацию, пристально посмотрел на Глинку.
– В доме графа Виельгорского мне не раз привелось слышать исполнение ваших пьес. Рад желанному знакомству. – В чуть-чуть прищуренных глазах Гоголя вспыхнули затаенные искорки смеха. – Теперь-то и возьму у вас справки, на которые так скупы ваши собратья музыканты.
Гоголя отвлекли. Посредине гостиной был поставлен небольшой стол и на нем две свечи под зелеными колпачками. Жуковский бережно положил на стол портфель, взятый им у Гоголя.
Гоголь раскрыл портфель, не торопясь достал рукопись, бросил быстрый взгляд на слушателей. Все было готово к чтению последних глав «Тараса Бульбы».
Человек с птичьим носом, с прищуренными глазами, читавший рукопись, казалось, ничего не делал для того, чтобы представить своих героев. Едва поведет бровью или сделает чуть заметное движение рукой, а сам сохраняет вид почти безучастного постороннего зрителя. Но персонажи повести уже сходят со страниц рукописи и облекаются в плоть и в кровь.
И кто бы ни являлся перед слушателями, старый запорожец или молодая польская панна, шел ли буйный спор в хмельном казацком курене или горел от любовного хмеля Тарасов сын – каждый являлся со своей хваткой, со своей речью, то протяжно-медлительной, то лукавой, то быстрой, идущей от глубины горячего сердца.
Каждый характер раскрывался не только в ярком слове, но и в неповторимой, выхваченной из жизни манере речи. Один говорил с частыми восклицаниями. У другого голос шелестел, будто ветер. Третий с трудом ворочал слова. Немыслимо было бы перечесть все эти интонации, из которых ткал Гоголь живую речь.
– «След Тарасов отыскался…» – читал он, и чем дальше читал, тем зримее вставало казацкое войско, поднявшееся на защиту родной Украины. Это действительно была целая нация, терпение которой истощилось.
– «Прощайте, паны-браты, товарищи!» – раздалась последняя Тарасова речь.
Гоголь сделал короткую паузу. Казалось, он даже не возвысил голоса, но так был силен сейчас голос старого Тараса, что не могли не услышать его не только казаки, но и сама мать Запорожская Сечь.
О прочитанной повести заговорили. Ее сравнивали с эпопеями Гомера, что вызвало у Гоголя едва заметную лукавую улыбку. Хвалили кисть живописца, широкую, размашистую, резкую и быструю. Повесть называли поэмой, проникнутой возвышенным лиризмом.
Разговор перешел на историю Украины. Гоголь слушал, не вмешиваясь. Казалось, он совершенно углубился в себя и только порой быстро оборачивался к говорящему.
Глинку поражало, что в спорах не касались характера Тараса, хотя именно этот характер был живой действительностью. В словесности рождались именно те народные герои, которых искал он для будущей оперы.
– Уж не попал ли ты сегодня на желанный тебе сюжет? – спросил у Глинки Одоевский.
– Я не желал бы лучшего, – отвечал Глинка, – если бы только владел музыкальным искусством Украины. Но уверен, что повесть о Тарасе не умрет ни на Украине, ни на Руси. Живописцы найдут здесь программы для своих картин, а музыканты… О какое смешение стихий, какие характеры, какие необъятные просторы ждут здесь музыканта!
Глинка говорил с таким жаром, что не заметил, как подошел Гоголь.
– Дивное дело, – сказал Гоголь, прислушиваясь, – вы говорите о музыкантах, а я с охотой признаюсь вам, что именно песни навеяли на меня ясновидение прошлого больше, чем все летописи.
– Недаром же с таким ясновидением написали вы и статью о песнях Украины, – откликнулся Глинка.
– Малая капля того, что должно сделать, – Гоголь дружески улыбнулся Глинке. – Покаюсь вам, что, собрав немалое количество песен Украины, я собираю русские песни с еще большей настойчивостью. – Он стал рассказывать о своем песенном собрании, по обычаю раззадоривая собеседника, у которого собирался брать справки. – К слову, – закончил Гоголь, – мне сказывал Одоевский, что замышляете оперу?
– Опера, достойная нашего времени, – отвечал Глинка, – должна утвердить вашу мысль, Николай Васильевич: ничто не может быть сильнее народной музыки. Но, разумеется, и сюжет должен быть столь же народен и силён… А здесь-то и испытываю я немалые затруднения.
– Престранное обстоятельство! – удивился Гоголь.
– Нет, почему же? – продолжал Глинка. – Идея мне ясна: это народ, его история, его славные дела, это народные характеры, выраженные в большом и малом. Имея эту программу, артист уже может воплотить в звуках разные стороны народной жизни. Сюжет объединит приуготовленное.
В разговор вмешался Жуковский.
– Да неужто же так трудно изобрести подходящий сюжет для оперы? – Окутанный клубами дыма, Василий Андреевич впервые заговорил после долгого молчания. – Я давно твержу, но почему-то уклоняются наши писатели. Михаил Романов и костромской крестьянин Иван Сусанин, спасающий богоданного царя, – вот сюжет, равного которому нет в истории России.
Глинка быстро повернулся к Жуковскому, выжидая развития мысли. Далеко не в первый раз вставало перед музыкантом имя Сусанина. Сборник рылеевских «Дум», в котором была напечатана дума об Иване Сусанине, много раз был перелистан за последнее время.
– Героическая история всегда содержит в себе драму, необходимую для театра, – продолжал между тем Жуковский. – Но в каждой ли драме видим назидательную идею? Можно ли было лучше представить запорожцев, чем это сделал Николай Васильевич? – В голосе Жуковского послышались особо сердечные ноты. – Кто не уронит горячей слезы над этой повестью? Однако, – Жуковский вздохнул, – кто скажет, за что бились запорожцы? Против чужеземного гнета? Всей душой согласен. За родную землю? Пусть так. Но где священный символ этой земли? Если я заговорил о Сусанине, то позвольте представить вам все преимущества этого сказания. Сусанин тоже любит родину больше своей жизни. Он тоже защищает отечество от иноземцев. Но что вдохновляет его на подвиг? Идея царской власти, то есть та извечная идея, которая хранила, хранит и будет хранить Россию. – Василий Андреевич сделал короткую паузу, готовясь к главному выводу. – И вот, господа, Россия Сусаниных жива, а Запорожская Сечь Тараса Бульбы давно стала преданием. Не высшая ли идея заключена в подвиге Ивана Сусанина? И если не берутся за этот сюжет наши писатели, тем почетнее была бы задача для музыканта.
– Но ведь существует и до сих пор не сходит со сцены опера господина Кавоса? – вмешался кто-то из гостей.
– Помилуйте, – Жуковский развел руками. – Мы высоко чтим талант господина Кавоса, но кто же не видит, что при всех музыкальных достоинствах его произведения сюжет лишен трагической силы! История говорит, что Сусанин пожертвовал жизнью за царя! Драматург и музыкант согрешили против истории и лишили россиян высокого поучения.
Гости разъезжались. Одним из первых уехал автор «Тараса Бульбы». Жуковский задержал Глинку.
– Вот что, Михаил Иванович, мне в ум пришло. О вас сейчас много говорят. Сам граф Виельгорский готов причислить вас к высокому рангу ученых композиторов. Действуйте-ка, коли чувствуете силу. Пишут из Москвы, что Верстовский трудится над «Аскольдовой могилой». У него будут древние времена святого Владимира, у вас – первовенчанный Романов… И да прославится Русь в своих князьях и державных монархах… Хотя, к сожалению, – добавил поэт, – нельзя вывести на сцену великого предка наших государей.
– Вы считаете запрет безусловным? – опросил Глинка.
– Не сомневаюсь.
– Стало быть, с этим запретом безусловно придется считаться… – Глинка на минуту задумался. – Но тем больший простор открывается сочинителю? – с живостью спросил он, проверяя какую-то свою мысль.
– Так, так! – подтвердил Жуковский. – Автор поэмы разовьет сюжет, а вам представится счастливая возможность дополнить движение драмы музыкой. – Жуковский подымил трубкой. – Что вы скажете, если я тряхну стариной? – Поэт еще раз с наслаждением затянулся. – Ей-богу, напишу для вас поэму!
Было совсем поздно, когда Глинка, покинув квартиру Жуковского, вышел на набережную Невы. И небо и воды – все было скрыто в ночной темноте. Только в окнах некоторых особняков светились яркие огни: там давали балы. Пешеход свернул на Исаакиевскую площадь: здесь редкие масляные фонари пытались бороться с кромешным мраком.
Каждый раз, когда Глинка проходил через эту площадь, в памяти вставал ненастный декабрьский день, когда перед ним раскрылась тайна заговора. Но угас тот памятный декабрьский день и над Россией опустилась непроглядная тьма. Уже целых десять лет длится ненастная ночь! А он, Михаил Глинка, до сих пор ничем не послужил отечеству!
Вспомнилось обещание Жуковского. Какую поэму может он сложить? На сердце стало тревожно, но он себя успокоил: полно, музыка поведет за собой поэта.
В столовой у Стунеевых был приготовлен холодный ужин. Но есть совсем не хотелось. Глинка чего-то ждал, хотя ждать было решительно нечего. В задумчивости он передвинул тарелку. Под нею оказалась свернутая в трубочку записка: «Мишель, вы ужасный человек!»
Оставалось бережно спрятать милые каракульки и ждать объяснения до утра.
Он пошел к себе, зажег свечи, раскрыл «Думы» Рылеева, потом потянулся к перу… И совсем забыл о несчастной, покинутой на целый вечер Мари.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































