Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
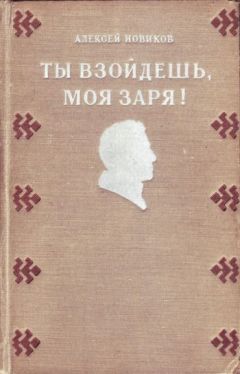
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 44 страниц)
В плавное течение музыки неожиданно ворвался громкий бой часов.
– Семь? – с недоумением спросил Глинка, обрывая игру на рояле. – Неужто, Александр Сергеевич, в самом деле семь?
– Нам остается наверстывать пропущенное время, не глядя на часы, – отвечал хозяин дома. – Едва приехав в Петербург, я много был о вас наслышан. Но все, что вы говорили мне сегодня о музыке, считаю откровением, которое, может быть, только когда-нибудь до конца постигну.
– Мне остается повторить в свою очередь, – сказал Глинка, – что я ценю расположение автора «Горя от ума» как высокую честь. Музыкальное же искусство ваше доставило мне истинное наслаждение.
Разговор происходил в петербургской квартире Грибоедова, выходившей окнами на Морскую улицу. В комнатах было почти пусто. Видно было, что только временно живет в них российский посол, назначенный ко двору персидского шаха. Ни единого признака роскоши не ощущалось в жилище молодого дипломата. Скорее можно было заключить, что квартирует здесь заезжий артист. Великолепный рояль занимал почетное место в кабинете.
Грибоедов зажег свечу, закурил сигару и подошел к роялю, за которым все еще сидел гость.
– На днях, – начал автор «Горя от ума», – довелось мне, будучи за городом, услышать песни, занесенные с берегов Волги… Но попутчикам моим эти звуки были невнятны… Все, что слышали мы, казалось им дико… Каким же черным волшебством, – с горечью продолжал он, – сделались мы чужими народу?.. Вот вам недавние мои мысли! Теперь вы поймете, с какой жадностью внимал я вашим пьесам и мыслям о будущем народной музыки. – Грибоедов усмехнулся, поймав себя на горячности. – Кажется, сам я уподобляюсь герою моему Чацкому?
– Недаром герой ваш обладает драгоценной способностью зажигать сердца!
– Увы! – Грибоедов вздохнул. – Мне кажется, что я рисовал портрет нашей молодости, воспламененной любовью к отечеству. Но ныне ненавистен правительству обличитель Фамусовых и Скалозубов. – Грибоедов отбросил погасшую сигару. Вокруг губ его обозначились резкие складки. – Остается завещать «Горе» потомкам.
– Но и без сцены будет жить «Горе» ваше на радость людям!
– Престранная судьба произведения, писанного для театра! Однако и автор его испытал не меньшие злоключения в жизни.
Грибоедов позвонил и приказал подать свежий чай.
– На откровенные мысли музыканта позвольте ответить вам тою же откровенностью человека, принадлежащего словесности, – продолжал он, разливая чай. – Вот вам поучительная справка о сочинителе «Горя». Собирался я служить наукам и, думаю, был к этому приуготовлен, прослушав курс двух университетских факультетов. Но по вине Бонапарта отложил книги, чтобы взяться за оружие… Мечтал о совершении подвигов, а волею начальства провел всю кампанию в тылу, готовя резервы.
– Необходимое дело, Александр Сергеевич! – утешил Глинка.
– Нет в том сомнения, – согласился Грибоедов. – А попробовали бы вы прозябать в гарнизоне… На этом не кончились, впрочем, мои злоключения. С детских лет не расстаюсь я с фортепиано, но выстрел на поединке искалечил мне руку.
– Однако вы преодолели это препятствие упорным упражнением. Судьба не отнимет от вас звания первоклассного фортепианиста.
– Если буду рассчитывать на вашу и на общую снисходительность… Не в том моя беда… Едва осознал я в себе силы для театра и не успел слуга возвестить Софье Фамусовой о прибытии Чацкого в Москву – и увы, уже опоздал мой герой.
– Как так опоздал? – удивился Глинка. – Речи Чацкого учат наизусть и повторяют в повседневной жизни.
– Но вы не представляете себе, – возразил Грибоедов, – той зажигательной силы, которой обладает слово, произнесенное на театре. Не опоздай вовремя явиться Чацкий на сцене, он много бы помог делу патриотов. Ведь с той же страстью к отечеству проповедовали лучшие из нас, хотя нас и было не много… Я еще продолжаю хлопоты о комедии, хотя не имею надежды; веду с цензурой постыдный торг и за то сам себя ненавижу. А явись Чацкий на сцене, станет он не живым героем времени, но только воспоминанием о нашей бесплодной молодости. Памятные события 1825 года повернули нас от доверчивого прекраснодушия к скрытной деятельности ума…
Часы пробили еще раз. Но Глинка уже не собирался покидать гостеприимный кабинет.
– Может быть, нужны нам другие герои? – продолжал размышлять вслух Грибоедов. – Есть у меня замысел, – посвященный войне против Бонапарта. Долг словесности – представить в правдивом виде тех европейских просветителей, которые несли нашим отцам мысли энциклопедистов, а к нам пожаловали с энциклопедией варварства. Но это не мешает нашим жалким мудрецам сызнова лакействовать перед Европой. Доколе будем терпеть надругание над честью и славой нашего народа? Вы со мной согласны?
– Решительно согласен!
– Да-с… Вот и предстал моему воображению русский воин из среды крепостных крестьян. Что может быть характернее для изображения победителя Наполеона? Но кончилась война – и возвращается воин к помещику и вновь терпит ужасы рабства.
– Мне на Смоленщине привелось узнать о многих подобных случаях, – подтвердил Глинка.
– Повсеместно то же было… Но что делать воину, возвращенному в рабство? Как противостоять торжествующему злу?.. Отчаяние охватывает его, и он кончает жизнь самоубийством. Сама жизнь диктует сюжет драмы.
Глинка вздрогнул.
– Какая страшная участь!
– Скажите лучше: какая гнусная действительность! Куда укрыться честному человеку от Фамусовых и Скалозубов? Вот они не опоздали, но благоденствуют. Можно сказать, полковник Скалозуб даже на царский трон воссел… Не ожидал я, что жизнь опередит самые мрачные мои предчувствия. Впрочем, трагикомедия продолжается. Вам известно, что я был схвачен и подвергнут следствию по делу тайных обществ? А ныне автор запретного «Горя» возведен в ранг полномочного посла его величества, и в Коллегии иностранных дел сочиняют для него бездарные инструкции, понятия не имея о том, что представляет собой Персия. Я, будучи на Кавказе, многое понял, а сейчас перечитал все, что касается истории Ирана. Фантазия романиста не угонится за тамошней деятельностью англичан. Вот интриги, вот коварство, вот алчность ненасытная! Россия должна противостоять Альбиону по естественному положению своему, но разве я получу в том помощь от российского правительства? У англичан повадки и ловкость спрута, у нас руководят политикой пустоголовые немцы, которые годились бы разве в конюхи. Могу ли я не понимать, что за назначением моим кроются какие-то тайные интриги?.. Вот вам краткое обозрение российской действительности. Но вернемся к художеству.
– У меня из памяти не идет задуманная вами пьеса, – сказал Глинка. – У вас победитель Наполеона обречен на самоубийство, потому что нет жизни человеку в рабстве. А писаки наши до сих пор блудословят. На днях читал я в «Путевых записках» некоего господина, как радостно видеть общую признательность крестьян к добрым помещикам. А ведь книжица нынешним годом мечена!
– Какой вывод вы делаете?
– С вашим талантом, – горячо откликнулся Глинка, – я бы непременно написал задуманную драму. Но, прославляя народ, я не обрек бы народного героя смерти от собственных рук!
– Стало быть, – иронически улыбнулся Грибоедов, – направить его в хоровод, славящий доброго помещика? Шутки в сторону, нет у нас хода на театр народным героям.
– Но живут на сцене и Дмитрий Донской, и Минин, и Сусанин, – возразил Глинка.
– Особенно хорош Сусанин, распевающий в опере свои куплеты! – с негодованием откликнулся Грибоедов.
– А каково мнение ваше о музыке «Сусанина»? – заинтересовался Глинка.
– Дивлюсь невзыскательным меломанам, – отвечал Грибоедов, – слушающим этот жалкий дивертисмент второе десятилетие. Ложные понятия всесильны в музыкальном театре. Если же суждено родиться национальной музыке, – а в том нельзя не разделить вашей веры, – тогда и музыканты обратятся к драме народной.
– И не смерть героя, а бессмертие народа будет главным содержанием этой драмы!
– Искренне верю вместе с вами… И тем более верю, что являются среди нас музыканты-патриоты… За примером недалеко ходить…
Глинка стал прощаться.
– Вы всюду опоздали, – удержал его хозяин дома. – Хотите послушать народные напевы Грузии, почерпнутые в моих странствиях?
Грибоедов сел за рояль и проигрывал песню за песней. Глинка особенно заинтересовался одним напевом.
– Редкой красоты напев! – сказал он.
– На моих дорогах много наслушался я, – говорил Грибоедов, продолжая играть.
– Я тоже бывал на Кавказе, – сказал Глинка. – Поразительно, как роднятся песни разных народов. К сожалению, ни один контрапунктист не заглянул в этот безбрежный океан.
– Прелюбопытно… А вам удалось заглянуть?
– Может быть, одним глазом. Но не сомневаюсь, что в этой стихии таятся новые пути к симфонизму, если понимать симфонизм не как форму только, но как систему мысли.
– Весьма любопытны предположения ваши. В симфонизме и есть главное завоевание новой музыки, – подтвердил Грибоедов.
Глинка подошел к роялю.
– Послушайте, какие возможности развития таит в себе ваша песня…
Он часто повторял и варьировал полюбившийся напев, словно поворачивал его с разных сторон и глядел на него по-разному.
– Стоит груда, – сказал он, вставая, – чтобы этот грузинский напев стал музыкой, известной всем народам. Но позвольте наконец откланяться. Когда едете, Александр Сергеевич?
– С отъездом меня очень торопят. Должно быть, есть для того свои причины у наших медлительных дипломатов…
Грибоедов вышел провожать гостя в переднюю.
– Кстати, – вспомнил Глинка, – как попало в вашу комедию учебное заведение, в котором я воспитывался?
И он прочел:
Нет, в Петербурге Институт
Пе-да-го-гический, так, кажется, зовут:
Там упражняются в расколах и в безверьи
Профессоры!!..
– Сколько талантов вам отпущено! – сказал Грибоедов, любуясь актерским искусством Глинки. – А разве вы в Педагогическом институте обучались?
– Нет, в Благородном при нем пансионе. Но профессоры у нас были одни. Позвольте же от имени тех, кто не угодил княгине Хлестовой, поблагодарить за память о наших наставниках. Точно, учили лучшие из них любви к отечеству и ненависти к тем, кто презирает отечество и народ. Но почему именно наше учебное заведение удостоилось высокой чести?
– Мне много рассказывал о нем Кюхельбекер, будучи со мною на Кавказе.
– А, Кюхельбекер! – тихо сказал Глинка. – Он более всех других учил нас мыслить.
Глава третьяНеподалеку от столицы, в Павловске, обитает вдовствующая императрица, подарившая России двух императоров. Эту великую заслугу более всех и оценили, конечно, сами царственные сыновья. Лучшие зодчие и художники были призваны к тому, чтобы соединить усилия в украшении дворца и парков. Под нежный лепет ручейков здесь можно грезить о несбывшемся или предаться воспоминаниям о былом. Впрочем, вся павловская пастораль предназначена именно для того, чтобы в благоухающие рощи никогда не возвращались воспоминания о неприятном. Иначе вспомнится, пожалуй, августейшей владетельнице Павловска давняя мартовская ночь, когда неожиданно для нее на российском престоле вместо обожаемого супруга Павла Петровича оказался царственный сын Александр Павлович. А то привидится перепуганной царице хмурый декабрьский день, когда второму царственному ее сыну, Николаю Павловичу, пришлось командовать артиллерией, выставленной у Зимнего дворца.
Но зорко охраняют покой царицы тенистые парки и бельведеры с приятными для сердца девизами; веют в рощах зефиры и неумолчно журчат ручейки. Нет доступа в Павловск проклятым воспоминаниям!
Мирно отцветает короткое петербургское лето. В уединении стоит царский дворец. По вечерам в общественном Павловском воксале играет музыка. В антрактах публика заполняет аллеи. Но в шумной толпе нет ни светского великолепия, ни единства стиля. На воксальные концерты съезжается много любителей музыки разных чинов и званий. Летние концерты в Павловском воксале соперничают с зимними собраниями филармонического общества.
В Павловске же по праву, даваемому не только знатностью, но и капиталом, живет кузнецова правнучка Елена Дмитриевна Демидова. Потянуло наследницу демидовских заводов к сельской тишине, и приказала она отделать роскошное палаццо. Сельской тишины не получилось, но музыкальные вечера кузнецовой правнучки не уступают концертам в воксале.
Когда Штерич привез Глинку в Павловск, здесь и повстречала Елена Дмитриевна пропавшего с глаз ее автора «Разуверения». Простодушная красавица легко выведала у музыканта о написанном им итальянском квартете с голосами. Лучшие артисты столицы разучили новую пьесу. Елена Дмитриевна, мусоля карандаш, собственноручно написала на аглицком картоне приглашение счастливцам.
Глинка долго убеждал деву-чаровницу присоединить к квартету свой божественный голос. Елена Дмитриевна отвечала с обычной ленцой:
– Спеться с вами, Михаил Иванович, мы, должно быть, никогда не споемся, – она будто невзначай глянула на Глинку, – так давайте будем слушать вместе. Авось не соскучимся.
Квартетное собрание состоялось при огромном стечении публики. Сам граф Михаил Юрьевич Виельгорский взялся доказать, что молодой музыкант блестяще овладел квартетной формой. Похвала графа Виельгорского быстро разошлась по Павловску. Даже мать камер-юнкера Штерича стала благосклоннее смотреть на молодого человека, к которому так нежно привязался ее сын. Пусть лучше будет этот музыкант, чем вертопрах Голицын. Правда, Фирс Голицын пожалован в камер-юнкеры. Но он попрежнему шокирует госпожу Штерич репутацией картежника и повесы.
А Фирс забыл и о картах и о кутежах. Едва привезет Штерич Глинку в Павловск, Фирс не покидает дачи Серафимы Ивановны. Почтенная мать будущего камергера не может скрыть неудовольствия, но она понятия не имеет о событиях, происшедших в жизни Фирса. Писал он между делом лирические стихи – и вдруг…
В один из вечеров, гостя у Штерича, Глинка сел к роялю и исполнил новый романс:
Скажи, зачем явилась ты
Очам моим, младая Лила!
И вновь знакомые мечты
Души заснувшей пробудила…
Окончив романс, Глинка равнодушно выслушал восторги Голицына и Штерича.
– Имею для тебя второй сюрприз, – обратился он к озадаченному Голицыну и снова запел:
Один лишь миг все в жизни светит радость,
Все: слава, юность, дружбы сладость, —
Один лишь миг…
Голицын опять едва узнал собственные стихи, положенные на музыку. Нельзя сказать, впрочем, что он опьянел от предвкушения поэтической славы. Неугомонного устроителя пловучих и прочих серенад воодушевляла возможность новых, самому ему не ясных предприятий.
Фирс широко распространил романсы Глинки среди любителей и артистов. Романсы сразу вошли в музыкальный обиход.
А граф Виельгорский, встретив Глинку в Павловском парке, оказал ему особые знаки внимания.
– Вы исчезаете, словно призрак, подарив общество шедевром… Из ума не идет ваш замечательный квартет!
Взяв Глинку под руку, Виельгорский пошел с ним по аллее, словно бы нарочито подчеркивая дружескую близость к мелкому отставному чиновнику. Граф говорил о собственных композициях, расспрашивал Глинку, где учился он теории, и, видимо, не поверил, когда Глинка признался, что обязан не столько учителям, сколько собственным размышлениям и труду.
– Предлагаю вам состязание в сочинении канона, – Виельгорский испытующе взглянул на спутника.
Честь была велика. Не каждому музыканту сделал бы столь дружеское предложение негласный министр изящных искусств. Не каждый музыкант и решился бы состязаться с сановным артистом.
Встреча была назначена на царскосельской даче Виельгорского. Вездесущий Фирс Голицын, не выходя из кабинета, сочинил стихи для будущего канона:
Мы в сей обители святой,
В молитвах дни проводим;
Не зная суеты мирской,
Здесь счастие находим…
– Любопытный текст! – Глинка с недоумением глядел на Фирса, обнаружившего столь неожиданный монашеский вкус.
Фирс смиренно указал на массивные шкафы, стоящие по стенам кабинета. Там хранились, скрытые от посторонних глаз, коллекции крепких вин, которыми постоянно пользовался сиятельный хозяин, а также редчайшее собрание картин и книг с весьма нескромными сюжетами. Стихи Голицына о святой обители приобретали игривый смысл.
– Не терпится начать, – говорил между тем Михаил Юрьевич.
Он любезно показал место Глинке и, сев за письменный стол, углубился в работу.
Фирс вышел на балкон и оттуда наблюдал за состязающимися.
Граф Виельгорский усердно писал, временами откидываясь в кресле. Глинка все еще не прикасался к перу. Голицын делал ему предостерегающие знаки; он явно терял дорогое время, пустив противника вперед. Но сколько ни старался Фирс, Глинка, уйдя в мысли, не видел его сигналов. Голицыну надоело собственное безделье. Он отправился в сад. Но и в пустынном саду, овеянном вечерней тишиной, ему решительно нечего было делать. Он повернул к дому и стал подниматься на балкон.
– Готово! – сказал Глинка, вставая.
Виельгорский удивленно обернулся.
– Что вы хотите сказать, Михаил Иванович? – недоуменно спросил граф. – Что готово?
– Канон готов, – объяснил Глинка.
Граф медленно опустил перо, подошел к Глинке и взял нотные листы. На них действительно был записан весь канон в сложном сплетении голосов.
Голицын, ничего не понимая, с интересом наблюдал.
– Заранее и навсегда отказываюсь состязаться с вами, – сказал граф с полупоклоном в сторону Глинки. – Никогда не поверил бы глазам своим, если бы не имел удовольствия присутствовать при происшедшем. – В голосе Михаила Юрьевича проскользнула легкая зависть, но он скрыл ее за светской любезностью: – Поднимем чаши во славу победителя!
Вышколенный лакей сервировал в кабинете стол. Граф направился к шкафам и самолично выбрал заветную бутылку.
– Mon cher[20]20
Мой дорогой (франц.).
[Закрыть], – говорил он Фирсу, – ты никогда не поймешь, что здесь произошло. Я объехал всю Европу, я беседовал с выдающимися представителями музыкальной науки Германии, Италии и Франции… Каждый артист подтвердит, что сочинение канона требует глубоких знаний полифонии. А тут, – граф снова взял в руки нотные листы, исписанные Глинкой, – не угодно ли: экспромт! И какой! Ты понимаешь, mon cher, что это значит?
Фирс слушал и пил букетное вино.
– Мне бы хотелось послушать, как это звучит, – скромно объявил он, памятуя о коварных стихах.
– Невежда! – провозгласил граф. – Неужто ты не слышишь? – и он стал размахивать нотами перед Фирсом.
На следующий день Виельгорский снова встретил Глинку в парке, взял его под руку и подвел к скамейке, на которой сидел довольно полный господин.
– Василий Андреевич, – сказал Виельгорский, – рекомендую вам, первому поэту России, молодого музыканта, которому суждено стать, может быть, первым нашим композитёром.
Василий Андреевич Жуковский добродушно усмехнулся и протянул Глинке мягкую, пухлую руку.
– Впервой слышу, чтобы ваше сиятельство кого-нибудь рекомендовало в подобных выражениях. Но кому, как не министру изящных искусств, знать будущее.
Поэт подвинулся, радушно пригласив артистов разделить его одиночество.
– Грешный человек, – говорил он Глинке, – ничто не действует на меня так сильно, как музыка. Бесплотные звуки будят в душе сладостное представление о том совершенном мире, куда вернемся мы, расставшись с бренным существованием на земле. – Поэт вздохнул и неожиданно закончил: – Но следует ли торопиться в тот неизвестный мир?
Вернувшись на дачу к Штеричу, Глинка рассказал о новом знакомстве.
– Чертовски небесная душа! – аттестовал Жуковского Фирс.
– Как ты сказал? – переспросил Глинка.
– Не правда ли, c'est le môt![21]21
Вот это словечко! (франц.).
[Закрыть] – продолжал Голицын. – Но не воспользуюсь чужим добром. Это Пушкина слова.
Василий Андреевич Жуковский действительно любил музыку. Трудно, правда, было понять, чем питается эта любовь. Было похоже, что поэт воспринимает музыку как лакомое блюдо, и чувства его походили на восторги гастронома: он с охотою вкушал и от немецкой, и от итальянской и от французской кухни. Василий Андреевич жмурился от удовольствия и красно говорил о счастливом существовании бесплотных душ в надзвездном мире. Но стоило опуститься поэту на грешную землю – и эта чертовски небесная душа проявляла не меньшую осведомленность в делах житейских. Воспитатель наследника престола как нельзя лучше берег и укреплял придворные связи и с той же охотой отдыхал среди литературных друзей. Никто не замечал кропотливой и тонкой работы. Всеобщая любовь и уважение сами собой давались поэту. А стоило Василию Андреевичу взяться за перо – каждый мог увидеть в его сладостных стихах всю тщету человеческих желаний, усилий и борьбы. Поэт ни в чем не отступил от краеугольной своей мысли, давно выраженной в его первой русской поэме:
Рай – смиренным воздаянье,
Ад – бунтующим сердцам…
Едва разразились события на Сенатской площади, Василий Андреевич откликнулся на них уже не стихом, но гневной прозой. «Чего хотела эта шайка разбойников?!» – возмущенный, спрашивал Жуковский.
Успокоившись, поэт вернулся к пленительным стихам и звал русских людей в неземное и прекрасное далёко. Он снова обещал рай тем, кто проявит смирение и покорность на грешной земле.
Но среди непокорных оставался Александр Пушкин. Ох, сколько хлопот доставил былой арзамасский Сверчок придворному поэту! Сколько наставлений послал Василий Андреевич опальному Пушкину в Михайловское! А Пушкин отправил послание в Сибирь, тем самым каторжанам, которых Жуковский звал шайкой разбойников. Едва допущенный в Петербург, он снова оказался под следствием из-за подозрительных стихов. Еще не ускользнул он от этих подозрений, а уже вызвал праведный гнев митрополита!
Фирс Голицын привез в Павловск столичные новости и рассказывал Глинке:
– Представь, выплыла на свет давняя поэма, в которой повествуется о похождениях архангела Гавриила. Стихи – прелесть! Руку Пушкина каждый узнает. А похождения для библии, конечно, не годятся. Можешь вообразить, какая заварилась каша, если на защиту архангела Гавриила поднялся сам митрополит Серафим… Нелегко будет выпутаться Пушкину… Но послушай, Глинка, доколе мы будем жить без предприятий? Помнишь наш спектакль у княгини?
– Очень помню, – Глинка усмехнулся. – К чему вы, аматёры, годны?
– Не о нас, о тебе речь. Твои романсы повсюду распевают.
– Обязан твоему усердию!
– Не отрекаюсь, и впредь буду усердствовать. Однако и без меня достают любую твою пьесу…
– Как это достают?
– На то собственные твои музыканты существуют, тобою же обученные. Твой Алексей так руку набил, что с любого манускрипта копию снимет и за скромную мзду кому хочешь вручит.
– Ах он, каналья! – возмутился Глинка. – Ах, продувная бестия!.. А может быть, это не так уж плохо?
– Даже очень хорошо, – одобрил Фирс. – Нельзя держать сокровища под спудом. Но зачем довольствоваться случаем или ловкостью Алексея? Пора взяться за тиснение твоих пьес!
– Рано, – отозвался Глинка. – Сочинитель, который может представить лишь разрозненные пробы, не имеет права на внимание публики.
– В таком случае ты бы мог украсить своими сочинениями какой-нибудь альбом избранной музыки. Выходят же у нас литературные альманахи? А твое имя – ручательство за успех.
– Знай меру, Фирс! Ты говоришь обо мне, словно альманашник о Пушкине… Кстати, что ты о нем слыхал?
Положение Пушкина была гораздо опаснее, чем это представлял себе сам поэт. На руках у царя было письмо несостоявшегося царя – Константина. Константин, сидя в Варшаве, заклинал: ни в чем не потакать Пушкину, ни тем, кто придерживается одинаковых с ним взглядов!
В это время Пушкин несколько раз приезжал к Жуковскому в Царское Село.
Василий Андреевич покоится на мягком диване, курит трубку за трубкой и поучает гостя если не истинам христианской веры, то достодолжному к ним уважению и советует покаяться в «Гавриилиаде». Жуковский добродушно поглядывает на Пушкина, пересыпает речь витиеватыми шутками, потом снова пыхтит трубкой.
– Истинная любовь к тебе, Александр Сергеевич, руководит моими помышлениями… К тому же…
Клубы табачного дыма скрывают маститую фигуру поэта-царедворца, и, пока медленно расходится дым, мысли Жуковского летят с необыкновенной быстротой: Пушкина должно обратить на служение трону. Правда, монарх никогда ничего не поручал по этой части придворному поэту. Перевоспитывать безумца будет сам Николай Павлович с помощью графа Бенкендорфа. Но образумить Пушкина – не значит ли тонко сыграть в масть самодержцу? Мысли Василия Андреевича приобретают полную ясность. Он лениво помахивает рукой, разгоняя остатки дыма, и говорит гостю с прежним добродушием:
– Быть тебе орлом и летать мыслью по поднебесью, а ты до сих пор школьничаешь. Смотри, как бы не истощилось у царя долготерпение. Возьмись за сюжеты, достойные зрелого ума…
Пушкин хмурится. Давно тягостны ему эти наставления, но юношеская привязанность к побежденному учителю-стихотворцу не позволяет разорвать дружеские узы.
– Каковы же намерения царя? – спрашивает Пушкин.
Жуковский неторопливо разводит руками: если бы он хоть что-нибудь знал!
– Представится случай – непременно замолвлю слово, только сам-то ты, Александр Сергеевич, не будь себе враг.
Пушкин нетерпеливо встает и прощается.
– Куда ты? – всполошился Жуковский. – Как к ночи поедешь? Оставайся ночевать.
Гость отказывается. Василий Андреевич провожает его с сердечной лаской, ложится на любимый диван и закуривает свежую трубку. Мыслящая Россия будет знать, что он никогда не отказывает в участии строптивому безумцу. Далеко видит сквозь клубы табачного дыма Василий Андреевич, видит не только в туманных эмпиреях мистицизма, но и в изменчивых обстоятельствах жизни.
Вечером он говорил собравшимся гостям:
– Только что был у меня Пушкин. Душевно сожалею, что не мог удержать его для всеобщего удовольствия.
В Царском Селе, как и в Павловске, все было предназначено для безмятежной утехи взоров. Как нельзя более кстати звучали здесь и туманно-сладостные стихи Жуковского. Они струились и переливались, как хрустальные ручьи, предназначенные для жаждущих забвения.
Глинка возвращался от Жуковского в Павловск вместе со Штеричем и Голицыным. Августовская луна и ночная свежесть манили идти пешком. Когда они проходили мимо дачи, скрытой в глубине сада, послышались звуки фортепиано. Молодые люди замедлили шаги. Мужской голос пел:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты…
То был модный романс, написанный на слова Пушкина композитором Титовым. Вялая музыка тщетно состязалась с пылким словом поэта.
– Постойте, – сказал Фирс, – наверное, будет продолжение.
Оно и в самом деле последовало. Тот же голос чувствительно пел «Черную шаль» Верстовского. Приятели хотели было двинуться в путь.
– Ни с места! – заявил Фирс.
Он чего-то ждал, поглядывая на Глинку. Но на веранде раздались голоса, смех, и концерт прекратился. Глинка с улыбкой посмотрел на Фирса.
– Чего же ты ждал?
– Ничего не ждал, – угрюмо ответил Фирс.
Друзья свернули в парк. Лунный свет боролся с причудливыми тенями. Все казалось призрачно в этом призрачном жилище ночных видений. Голос, доносившийся издалека, не только не нарушил таинственной тишины, но образовал с ней неожиданную гармонию. До путников долетели знакомые слова романса:
О, память сердца, ты сильней…
– Что ты теперь скажешь? – Фирс Голицын наступал на Глинку, торжествуя победу.
– Непостижимо! – отвечал Глинка. – Как могла попасть сюда моя пьеса?
– Сама ночь внушила ее певцу, – серьезно сказал Штерич, прислушиваясь к пению.
– Однако не без помощи твоего Алексея, – продолжал наступать на Глинку Фирс. – Неужто и теперь ты будешь против музыкального альбома?
– Составителям его придется столкнуться с малым количеством достойных пьес и трудностью выбора. – Глинка в нерешительности посмотрел на Голицына. – Впрочем, мысль твоя, кажется, может привести к пользе.
Штерич, поняв, в чем дело, неожиданно оживился:
– Каждый сочтет за счастье быть в одном альбоме с тобой, Глинка. Если же пригодятся и мои скромные опыты…
– Браво, Штерич! Начало есть! – Фирс обернулся к Глинке. – Видишь, дело только за тобой.
– Надобно так составить альбом, Фирс, чтобы он был зеркалом музыкальной жизни, – размышлял вслух Глинка. – Как бы не попасть нам впросак, – продолжал он, – не впасть бы в излишнюю ученость и педантство, но и не превратить альбом в мусорную корзину. А кто возьмет на себя хлопоты с изданием?
– Положись на меня! – уверенно воскликнул Голицын.
– Не подведешь, аматёр? – Глинка недоверчиво покосился на Фирса.
– Никогда еще никого не подводил! По рукам, маловер?
Глинка секунду подумал и ответил крепким рукопожатием.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































