Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
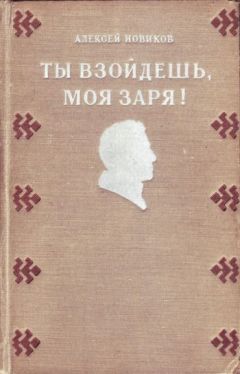
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 44 страниц)
Во всех трех комнатах холостой квартиры Соболевского стоял дым коромыслом. Столы были раскинуты не только в столовой, но и в спальне. В кабинете варили жженку. Ветхий дом, прикорнувший на углу Собачьей Площадки, ходил ходуном, а гости все прибывали.
Душевные разговоры мешались с отчаянными спорами. Называли имена Гёте и Шиллера, Вольтера и Байрона. И все это происходило между жженкой и переборами гитарных струн.
Еще только скрестили шпаги поклонники Запада со словено-россами, как в средней комнате лихо грянул цыганский хор:
Мы живем среди полей…
Верстовский аккомпанировал цыганам, то и дело подзадоривая певцов:
– Наддай!
Прославленный музыкант был заметно под хмельком, но это еще более придавало ему вдохновения. Гости громко рукоплескали артисту и требовали продолжения. В круг вышла таборная знаменитость цыганка Стеша.
Ах, когда б я прежде знала,
Что любовь творит беды…
Хористки и хористы не спускали с нее глаз, ожидая своей очереди. Цыган-гитарист подошел к ней совсем близко, струны отозвались вздохом-перебором:
Я б с веселым не встречала
Полунощные звезды!..
Голос Стеши замер на последней ноте, и тогда откликнулся ей весь хор. Но повел глазом гитарист, щипнул струны, и грянула плясовая, а Стеша, которая только что надрывалась от любовной тоски, пошла по кругу мелким, дробным шагом.
За то и любят в Москве цыган, что под лихую таборную песню каждый непременно прихлопнет в ладоши или сам подтянет. А коли пойдет по кругу цыганка, поводя плечом, да пустится за ней на перевертках цыган, – тогда уже никто не удержится на месте, будь хоть чиновный дворянин или университетский профессор. И пойдет за плясом перепляс, полетят разноцветной стаей ассигнации, а юркий червонец, пущенный ловкой рукой, угодит прямо под бусы плясуньи. Эх, жги-говори!.. Сам черт не разберет, где кончается цыганское кочевье, где начинается московская гульба… Еще шире раскрываются сердца, еще скорее пустеют кошельки. Эх, жги-говори!..
Среди общей кутерьмы Глинка разыскал Соболевского, который любезничал в кабинете с молодой цыганкой. Стеша слушала его, чуть перебирая плечами, словно сторонилась горячих признаний. Едва подошел Глинка, цыганка легко скользнула от Соболевского и скрылась.
– Хороша? – спросил Соболевский, смотря ей вслед.
– Даже очень! Однако, как я разумею, напрасны, Фальстаф, твои ухищрения.
– Да это я по наследству должность правлю. Пушкин в бытность в Москве целую родомантиду с ней развел, однако далее Платонова учения не преуспел… Кстати, получил на днях от него письмо. Что там у него с Анной Петровной приключилось?
– Откуда же мне знать!
– Эх ты, младенец! – Соболевский снисходительно поглядел на Глинку. – Одним словом, режь меня, жги меня! – напел он.
– У Верстовского в романсе иначе писано, – улыбнулся Глинка.
– Ну и пойдем к нему, – вспомнил Соболевский. – Надо же вас как следует познакомить.
– Алексей Николаевич, – продолжал он, разыскав Верстовского, – еще не знаком ты с однокашником моим Глинкою, о котором, надеюсь, слышал.
Верстовский быстро и зорко оглядел Глинку.
– Еще бы не слыхать! – Он крепко пожал руку новому знакомцу.
– А я до сих пор не имел возможности отблагодарить вас за ваше искусство, Алексей Николаевич! – отвечал Глинка.
– Теперь вам только и начинать дуэт, – Соболевский встал, – а мне надо цыган поить.
В соседней комнате снова вспыхнула плясовая песня, и туда хлынули гости.
Верстовский с охотой занял освободившееся место.
– Когда мы услышим ваши произведения? – обратился он к Глинке. – Мне о них все уши прожужжали, а я, помнится, слышал единственный ваш романс… Если не ошибаюсь, «Разуверением» зовется. Но и по этой единственной пьесе видно, что дан вам изрядный талант.
– Если только новыми разуверениями не кончу…
– Полноте! Игранные вами импровизации из отечественных напевов уже составили вам известность в Москве. Говорят, каждая из них в своем роде поэма…
Глинка молча поклонился.
– Вы готовящуюся оперу мою слыхали? – перешел на новую тему Верстовский.
– Не преминул быть на репетиции.
– Смею спросить мнение ваше? Только покорно прошу без похвал, но положа руку на сердце.
– Если вы готовы оказать мне столь лестное доверие, я охотно изложу вам мысли дилетанта, – начал Глинка. – Позвольте говорить, однако, издалека. Нашей отечественной опере не хватает связи с действительной жизнью. Беспредметная фантастика, чуждая нашим нравам, не может вдохновить артиста.
– Жму вашу руку! – горячо согласился Верстовский. – Вы словно читаете в моих мыслях. Счастливы были бы мы, музыканты, если бы поэты обратились к русской фантастике.
– Почему же только к фантастике? Если нет героического в нашей современности, то богаты мы героическими былями.
Верстовский настороженно покосился на собеседника.
– Музыка, – сказал он, – если только я правильно понимаю ее назначение, более всего склонна к поэтической легенде. Я бы сказал – к тому романтическому вымыслу, которым питается поэзия.
– Никак не согласен! Но если говорить о вымыслах, то почему автор поэмы заимствовал для вашей оперы все, кроме родных легенд? Сие тем более странно, что господин Загоскин, кажется, принадлежит к стану коренных москвичей и любителей отечественного.
– Позвольте уклониться от споров о поэме и спросить вас о музыке «Пана Твардовского». Ощутили ли в ней наличие народных напевов? Некоторые горячие головы готовы кричать, что с «Паном Твардовским» является на свет наша первая русская опера… Но, разумеется, в таких суждениях видна более любовь к матушке Москве, чем справедливое суждение о моей опере… – Верстовский приостановился, выжидая мнения собеседника.
Глинка молчал. Тогда автор «Пана Твардовского» закончил свою мысль:
– Стремление мое – вложить характер национальной русской музыки в европейскую форму.
– Но не ведет ли такой путь к пленению нашей национальной мысли? – вопросом ответил Глинка. – Немало имеем тому примеров в прошлом. Бортнянский даже ратовал за отечественный контрапункт, а писал свои оперы по-итальянски. Верю, что именно от народных напевов суждено родиться русской опере, только путь этот долог и, признаться, весь впереди.
– То есть как впереди? – удивился Верстовский.
– Извольте, поясню. Думается, что народные напевы наши несут в себе, как доброе зерно, весь состав будущей ученой музыки. Но зерно никогда не произрастет или превратится в хилое создание, если не возьмется выращивать его искусный, пытливый и смелый земледелец…
– Стало быть?
– Стало быть, – продолжал Глинка, – нам и нужны такие музыканты, которые, постигнув природу наших напевов, не побоятся ни опытов, ни проб. Тогда во всей полноте раскроются и умножатся первородные качества наших песен.
– В таком случае вы не откажете познакомить меня хотя бы с некоторыми из ваших проб.
– Да вы гляньте вокруг себя, – Глинка указал ему на окружающих, – видите, сколько уже произведено здесь пуншевых и прочих проб. Но сочту за честь посетить вас, как только приеду в Москву.
– А ныне?
– Еду в Петербург, иначе просрочу отпуск…
Хозяин сзывал гостей на новую жженку, но его никто не слышал. С гиканьем и присвистом пели цыгане…
На следующий день Глинка вел прощальную беседу с Мельгуновым.
– Эх, Мимоза! – вздыхал Мельгунов. – Едва успел я вкусить твоей музыки и не остыли еще слезы восторга – и вот опять расстаемся. Еще и еще говорю тебе: хоть в утешение мне поручи выдать в свет в Москве твои создания.
– Обождем! Более всего боюсь я поспешности.
– Опамятуйся! Чего ждать! Мне и так отбою нет, твою «Память сердца» из рук рвут.
– А ты не будь податлив. Та «Память сердца» только тебе на память выдана. Кстати, что ты думаешь о «Пане Твардовском»?
– А что ты вчера Верстовскому говорил?
– Мы беседовали о земледелии и агрономах.
– Что?! – опешил Мельгунов. – Но ведь сегодня я совсем не пьян!
– А между тем я дал тебе точную справку. Ну, в самом деле, что нам, музыкантам, с песнями делать? Собирать их для музея или низать одну к другой, как бусы? По-моему, написать оперу в русском духе сможет только тот, кто, достаточно напитавшись народными напевами, переработает их в себе и представит публике собственное свое создание. Однакоже ни кулачные бои, ни сарафаны тут делу не помогут…
Дорожная коляска ждала у подъезда. Глинка еще раз крепко обнял друга.
Лошади бойко тронули. Побежали мимо московские бульвары. С бульвара коляска свернула на Тверскую.
Улица была полна гуляющих. Как пышные маки, цвели на щеголихах летние шляпки, опутанные вуалью и лентами. Московские львы, из тех, что украшают гостиные, фланировали между дам, изысканно раскланиваясь. Многие спешили на Остоженку, в модное заведение минеральных вод доктора Лодера, чтобы умножить там почетные ряды посетителей, прозванных лодырями по фамилии медика. В диковинной колымаге проехала куда-то старая барыня с мопсом на руках… Вот она, Москва!
Но чем ближе к заставе, тем меньше встречалось нарядной публики в экипажах. На смену магазинам и кондитерским явились неказистые домишки да дырявые заборы. Дорожную коляску провожали босоногие ребята, суетившиеся в пыли, да хриплый лай бездомного пса. Скоро и совсем не стало гуляющих. Здесь давно ушел на работу стар и млад… Вот она, Москва!
Началось путешествие из Москвы в Петербург. И чем дальше позади оставалась застава, тем больше переходил путешественник от тревоги к надеждам: должны ждать в Петербурге добрые известия из дому о Поле.
Пути-дороги…
Глава перваяПомощник секретаря Главного управления путей сообщения прибыл из отпуска в срок и с усердием взялся за дела. Но генерал Гарголи, заменивший больного графа Сиверса, смотрел на него по-прежнему косо.
– Титулярного советника Глинку… – Следовало многоточие – и далее как команда на плацу: – Ко мне!
Глинка не делал ни малейших попыток посетить дом генерала Горголи, где девицы на выданьи продолжали занятия музыкальным рукоделием. Неисправный чиновник был занят делом. Он заканчивал итальянский квартет, работал над сонатой и размышлял над романсами.
В романсах все отчетливее звучал голос современника, словно рассказывал о себе молодой человек, много переживший и передумавший.
Так рождались романсы-монологи. Работая над ними, сочинитель не предвидел бури. А гроза все-таки разразилась. Молния, направленная в помощника секретаря, прочертила красные зигзаги на полях бумаги, возвращенной генералом Горголи без подписи.
Глинка присмотрелся к генеральским молниям: писец, переписывавший бумаги, опять пропустил в тексте запятую!
Ну что ж, настала пора действовать!
На следующий день помощник секретаря не пошел с очередным докладом. Он отправил генералу Горголи несколько бумаг с курьером. Генерал взял первую из них и прочел: «… Прошу уволить от службы его величества по болезненному состоянию и домашним обстоятельствам… Титулярный советник Глинка».
Генерал Горголи еще раз перечитал. Сомнений быть не могло: строптивый чиновник не сдавался. Тогда генерал дополнительно исследовал знаки препинания, но они были на местах. Пришлось отложить рапорт для домашнего совещания.
Прошло несколько дней. Титулярный советник по-прежнему не обнаруживал намерения к мирным переговорам. В сущности, и ссылка его на болезненное состояние не была ложной. Окулист Лерхе снова ездил к своему пациенту. Чаще всего он заставал Глинку склонившимся над нотными листами, испещренными мелкими значками.
– Но ваши воспаленные глаза! – в ужасе восклицал врач.
А на смену медику неожиданно заехал к больному дальний родственник, полковник Стунеев, никогда ранее у Глинки не бывавший.
– Явился к вам, Михаил Иванович, чтобы поздравить с новорожденным племянником, нареченным Николаем.
Глинка так обрадовался, что даже не подумал в первую минуту о том, почему пришла новость таким кружным путем. А гость сообщал все новые подробности:
– Несмотря на трудные роды, все обошлось. Ребенок – богатырь.
– А мать?
Громогласный полковник неожиданно замялся:
– Не имею права приукрашать истину. Пелагея Ивановна… Не пугайтесь однако, все питают надежду…
Тогда Глинка понял, почему явился к нему нежданный гость.
– Прошу вас, – сказал он, собрав силы, – не скрывайте ничего.
И правда открылась. Поля была в смертельной опасности. Болезнь приобрела стремительное течение. Глинка хотел выехать немедленно, но, пока хлопотал, пришло письмо из Новоспасского. Он сразу узнал почерк матери и дрожащими руками вскрыл конверт. Перед глазами поплыли неразборчивые строки: «Волею божией… сего восьмого июня… преставилась наша страдалица, оставив сиротку сына…» После подробностей о болезни и похоронах стояла знакомая подпись: усердная мать.
Между тем генерал Горголи успел провести семейное совещание. Баловница Поликсена, насытившаяся местью, теперь все предоставила решению отца.
– К тому же, – сказал генерал, – в свое время титулярный советник Глинка якшался со злодеями и, как видно из его поведения, ни в чем не раскаялся… – Фраза, наполненная паузами, приобрела к концу решительный характер: – Отставить!
Участь чиновника была решена.
В конце июня 1828 года был объявлен приказ об увольнении титулярного советника Глинки. Отставка преуспевающего помощника секретаря вызвала недоумение среди чиновников. Едва Глинка, совсем больной, явился для сдачи дел, сослуживцы забросали его вопросами:
– Как это случилось, Михаил Иванович? По какой причине?
– Из-за запятой, – отвечал Глинка. – Уверяю вас, только из-за запятой.
В канцелярии долго рассказывали этот анекдот, а отставной чиновник лежал дома в приступе злокачественной лихорадки. У постели больного сменяют один другого медики. Доктор Лерхе лечит пациента от тяжелого воспаления глаз. Доктор Гасовский сражается с лихорадкой, воспалением нервов и прочими недугами, которым не находится даже названия.
– Не приходилось ли вам жить в Азии? – допрашивают медики.
– Мне довелось бывать на кавказских горячих водах, – едва может ответить пациент.
Медики переглядываются.
– Азиатские лихорадки обладают убийственной силой, и далеко не все виды их известны науке, – утешает доктор Гасовский.
В комнате опускают шторы. Непрерывно топят печи. На столе накапливаются лекарства.
Прошел почти месяц. Глинка, едва передвигая ноги, с дурманом в голове, мог совершить прогулку в Летний сад, и первый, кого он встретил, был камер-юнкер Штерич.
– Михаил Иванович, что с вами?
Глинка подозрительно посмотрел на Штерича.
– Разве я плохо выгляжу?
– Ну… – развел руками камер-юнкер, догадавшись о плачевном состоянии Глинки, – где мне судить, почти год не виделись. А помните, как славно мы музицировали?
– Помню, – подтвердил Глинка, – и как все разбежались, тоже помню. Но не примите этого воспоминания в укор, Евгений Петрович. Я знаю вашу великую приверженность к музыке.
– Не в моих силах изменить этой неутолимой страсти. Если бы не мундир камер-юнкера, я давно бы жил в деревне. Одиночество, стихи и музыка – чего еще желать отшельнику?
– Отменное желание! – согласился Глинка. – Где-нибудь на лугу перед домом пастушки любезничают с пастушками, а отшельник услаждает себя флейтой.
– Разве вы забыли, что я не играю на флейте? – напомнил Штерич. – Моя страсть – фортепиано.
– Ничего не забыл, и игру вашу хорошо помню. А флейту я для полноты картины прибавил. Мечтать, так мечтать… Ну, что нового в постылом свете? Где Фирс Голицын? Братья Толстые?
– Все на дачах. Фирса часто у нас в Павловске вижу.
Штерич начал рассказывать новости. Глинка слушал, кутаясь в теплое пальто. Лихорадка давала себя знать.
– Когда позволите увезти вас в Павловск? – закончил Штерич.
– Когда хотите, я теперь свободный человек.
– Живете на прежней квартире?
– Нет, переехал на Невский проспект, в дом Барбазана. Квартирую у школьного товарища, господина Чиркова.
– Итак, решено, завтра в полдень я у вас буду.
– Нет, нет, – испугался Глинка. – Хотя я и выздоровел, однако порядочно ослаб. Милости прошу дней через пять.
Но слабость не помешала ему направиться на поиски тех людей, к которым он давно рвался. На даче Анны Петровны Керн, у Крестовского перевоза на Неве, первая встретила его Катя. Чуть-чуть повзрослевшая, она присела перед ним по всем правилам этикета.
– Я знала, что вы непременно приедете, раз мама взяла меня из института, – сказала девочка и быстро побежала к дому. – Мама! Отгадай: кто приехал?
Пока Глинка приветствовал Анну Петровну, Катя куда-то скрылась и снова вернулась, неся в руках маленький портфель.
– Ну, где вы видели такие кусачие ноты? – она протянула Глинке когда-то присланную ей картину. – Таких вовсе не бывает! – Она смешно наморщила нос. – Я теперь не маленькая, чтобы в таких кусачек верить!
– Катюша, иди к своим куклам, – остановила ее Анна Петровна. – Как странны наши встречи! – продолжала она, обращаясь к Глинке. – Только объявитесь и опять исчезаете, и никто не знает, где вы, что с вами…
– Я был в Москве, потом вышел в отставку и, как полагается отставному чиновнику, болел…
– Ай-ай-ай! – вмешалась Катя, которая и не думала уходить. – Такой молодой – и в отставке! Что же вы будете делать?
– Поступлю в шарманщики.
– Но ведь я теперь совсем не маленькая, – засмеялась Катюша. – Я и тогда не верила, когда вы играли за шарманщика на фортепиано, а теперь мне десять лет!
– Вероятно, вы первый знакомый моей дочери, – сказала Анна Петровна, – который произвел на нее такое сильное впечатление, а ей приходится видеть немало людей.
– Так ведь то люди, а это Глинка, – ответила матери Катя и с бесцеремонностью, свойственной общей любимице, увлекла Глинку в комнаты, к фортепиано.
– Вы эту гамму знаете? – Пальцы девочки побежали по клавишам, кое-где изрядно спотыкаясь. – Как ее зовут?
Гость ответил удачно.
– А эту? – продолжала Катя.
Глинка, к вящему удовольствию юной собеседницы, стал безнадежно путать.
– Си-минор! – заливалась Катюша. – Спутаете еще раз – будете стоять в углу.
– Катенька! – взмолилась Анна Петровна. – Никогда не даст поговорить… – беспомощно пожаловалась она.
– Смилуйтесь над нами, Анна Петровна! – вступился Глинка. – Во-первых, мы старые друзья, а во-вторых…
– Вы настоящий кавалер! – с восхищением подтвердила маленькая хозяйка. – Блаженски хорошо, когда у девицы есть свой кавалер!
Подъехали новые гости: Ольга Сергеевна Павлищева, рожденная Пушкина, сестра поэта, ее муж Николай Иванович Павлищев и общий знакомый Алексей Николаевич Вульф.
Произошли взаимные представления. Катя долго выжидала, потом шепнула Глинке:
– Отпроситесь в сад!
Но в саду, едва присев на скамейку, Катя вдруг пригорюнилась.
– О чем, Катюша? – ласково спросил Глинка.
– Мама у меня часто плачет. – Девочка сдвинула брови, что-то соображая. – Как приедет этот Вульф, так мама непременно потом плачет. А знаете, какой он противный! Зачем он только к нам ездит? – Катя вздохнула и задумалась. – А вот Пушкин никогда теперь к нам не ездит, и мама опять плачет.
Катя посмотрела на Глинку, ожидая разгадки столь странных обстоятельств. Он усиленно старался шутками отвлечь ее внимание. Девочка сочувственно улыбалась, но оставалась печальной. А на Глинку напал озноб. Он никак не мог согреться и дрожал так, что стучали зубы.
– Что с вами? – удивилась Катя.
– Холодно, Катюша!
– Холодно?! – Катя всплеснула руками. – Вот так кавалер. Недаром вы теперь отставной.
– Михаил Иванович, – окликнула Глинку с террасы хозяйка дома, – вас ждут к чаю.
– Идем! – отвечал Глинка и хотел предложить руку юной даме, но Катя шмыгнула, в кусты.
За чаем Глинка узнал, что Дельвиги еще не думают возвращаться с Украины. Должно быть, таинственные комиссионеры всё еще сводили счеты с медлительным издателем «Северных цветов». О Пушкине почти не было речи. Ольга Сергеевна коротко сказала, что у брата неприятности. Никаких подробностей она сама не знала.
Общество занимал преимущественно Николай Иванович Павлищев. Этот петербургский чиновник говорил только о коммерции. Среди гостей Анны Петровны эта тема не встречала никакого сочувствия, но Николай Иванович обстоятельно рассказал о необыкновенном случае на золотых приисках, потом перешел к запутанной истории из летописей совестного суда. Монотонный голос Павлищева, начавшего повествование о земельных скупках на юге, довел Глинку до исступления. А Николай Иванович уже исчислял вероятные проценты на затраченный капитал.
Хозяйка дома бросала умоляющие взгляды на Глинку. Надо было спасать Анну Петровну.
– Не смею представить вам по нездоровью даже подобие певца, – сказал Глинка, – но фортепианист получит, надеюсь, ваше снисхождение.
Общество перешло с террасы в гостиную.
Катя больше не появлялась. Девочка сидела в спальне, смежной с гостиной, и слушала. Сквозь тонкую перегородку до нее доносился каждый звук исполняемой пьесы. Временами девочке казалось, что музыка вместе с ней ополчилась на Алексея Вульфа. А то вдруг принималась уверять ее музыка, что никакого Вульфа нет и мама никогда не будет плакать…
– Блаженски хорошо! – прошептала Катя и снова прислушалась. Может быть, незаметно для нее приехал Пушкин? Увы, никто не приехал. Просто играют на фортепиано… И все-таки блаженски хорошо!!
Катя проснулась от тишины. Гости давно разъехались. Анна Петровна сидела у туалета, готовясь ко сну.
– Мама, ты опять плачешь?
– Ничуть! Спи, Катюша!
– А ты не плачь! Он непременно будет к нам ездить…
– Кто, детка?
– Как кто? – Катюша села на кроватке и потерла сонные глаза. – Глинка, конечно! – Она помолчала, вспоминая. – А почему ему холодно, мама?
– Ах, детка, на свете так часто бывает холодно людям.
– Это летом-то?! Мамочка, ну что ты говоришь? – И Катюша мигом очутилась на коленях у матери, чтобы вывести ее из заблуждения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































