Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
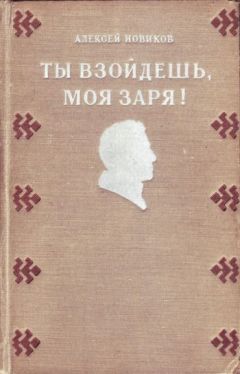
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 44 страниц)
– Странное дело, – говорил Глинка Соболевскому, вернувшись в Милан. – Берутся итальянские оперисты за любой бродячий сюжет: тут тебе и аглицкая история «Анны Болены», и немецкий «Фауст», и древняя «Весталка», и таинственная «Сомнамбула»… Можно насчитать десятки опер, а национального сюжета не найдешь.
– Запретная, Мимоза, для итальянцев тема: нельзя дразнить гусей.
– В особенности римских? – Глинка улыбнулся. – А поговори с любым итальянцем – так и сверкнет глазами при одном имени отечества.
– Кстати, – перебил Соболевский, – разыскал я на днях редчайший документ. Здешние карбонарии тайно расклеивали его на улицах Милана. – Соболевский достал из бокового кармана подпольную, пожелтевшую от времени прокламацию и прочитал: – «В Милане появился человек, который, к общему удивлению, имел наглость назваться не миланцем, и не сардинцем, и не пьемонтцем… Он заявил, – о, ужас! – что он просто итальянец!..» Самое страшное преступление карбонариев в глазах австрияков!.. – – заключил Соболевский.
– И главная дума, которой живет итальянский народ! – горячо откликнулся Глинка. – Не удивительно, что в Милане чтут заветы вольнолюбивых «угольщиков». Народная мечта об Италии, освобожденной от чужеземного ига, непременно осуществится… Когда-нибудь и музыканты Италии придут к национальным сюжетам. А до тех пор надобно бережно собирать те крохи народной музыки, которые появляются у итальянских оперистов.
– Уж не тем ли ты и занят?
– Отчасти, – коротко подтвердил Глинка.
Он, конечно, был занят итальянской музыкой. Отсутствие национальной героической темы в итальянском искусстве было поразительно, но понятно. Австрийский император, римский первосвященник, неаполитанский король и другие мелкие властители были в союзе против итальянского народа. Искусство, лишенное идейной, патриотической основы, должно было неминуемо зайти в тупик. Музыка не составляла исключения. Народ-воин, народ-гражданин, народ-созидатель, народ, готовый к защите своего бытия против хищников, – такой народ, не появлялся на оперной сцене.
Глинка, начавший свое путешествие по Италии с глубокого знакомства с народной музыкой, хорошо видел, как далека от жизни народа ученая музыка. Но он не отмахнулся от нее с пренебрежением. Он отмечал в операх итальянских маэстро все, что связано с народными напевами, и, бережно собирая эти крохи, верил в будущее. Когда-нибудь и итальянская музыка заговорит языком народных героев.
Русский маэстро старается представить себе, каков будет этот музыкальный стиль. А воображаемое ложится на нотные строчки. Сергею Соболевскому, единственному другу на чужбине, пришлось первому из русских услышать новую итальянскую арию, сочиненную Глинкой:
В суде неправом
Решен мой жребий…
И столько мощи и ненависти к насильникам было заложено в этих звуках, что Соболевский с удивлением развел руками.
– Никогда не слыхал ничего подобного в здешних театрах, – сказал он, – и, признаюсь, вряд ли услышим.
– Не мы с тобой, так другие услышат, – уверенно отвечал Глинка. – Не всегда будут глухи музыканты Италии к песням, которые поют в народе, когда нет поблизости начальства. Ты здесь вот этакую песню слыхал?
И он напел:
О, милая! Дай мне эту ветку!
Я спрячу ее на сердце.
Когда пойду в бой за отчизну,
Твой талисман спасет меня
От австрийских пуль.
Глинка снова вернулся к фортепиано и повторил сочиненную им арию.
– На мое ухо, – сказал Соболевский, – ничуть не похожа твоя ария на эту песню.
– Еще бы! – Глинка засмеялся. – Я бы и сам не мог тебе сказать, какие песни и сколько их отлилось в моей арии. Думается, однако, что ни в чем я от итальянского духа не отступил. Разве что вперед глянул.
Но все-таки эти пробы не были главным занятием русского маэстро. Главное еще не отражалось на нотных листах. Но пребывание в Италии еще больше убедило Глинку в том, что будущая его опера, которой он послужит отечеству, будет прежде всего национальна и народна. Музыка не может существовать без коренных идей, которыми живет народ. Тут ему приходилось судить не только итальянских оперистов. «Волшебный стрелок» Вебера не многим больше приблизился к воплощению главного в народной жизни. Михаил Глинка еще раз готов отдать все оперы Моцарта за одного «Фиделио» Бетховена. Почему? Ответ ему ясен. В заключительных хорах «Фиделио» ожил подлинный народ, с его страданиями, борьбой и вольнолюбивой мечтой. Но как еще тесно народу и в этой опере, построенной на любовной интриге!
И Глинка переходит к собственным замыслам.
Единственный собеседник – все тот же Сергей Соболевский. Он слушает горячие речи Глинки, потом задумчиво говорит:
– Когда мы встречались с тобой в Петербурге, Мимоза, и в недавние годы у нас в Москве, клянусь, я не мог допустить и мысли, что ты, тишайший человек, готовишься к этаким бурям. Но все, что ты видишь и слышишь в наших песнях, еще больше меня подмывает. Изволь глянуть, какие я новые гостинцы посылаю Пушкину.
Глинка читал новые тексты древних русских песен, найденных Соболевским в библиотеке Воронцова, а Соболевский говорил о том, как великолепен будет песенный свод, который издаст Пушкин.
– Вот когда ахнет старуха Европа, вот когда объяснится неиссякаемый корень нашей словесности, – заканчивает Соболевский.
– Такое дело только Пушкину и по плечу, – подтверждает Глинка, отрываясь от списков. – Ну, а мы, музыканты, той же старице Европе еще один неведомый ей мир звуков представим.
– Что-нибудь нового приготовил?
– Коли соизволишь слушать, угощу.
Сергей Александрович Соболевский слушал, вникал и нередко после таких встреч писал друзьям в Москву: «Глинка задумал чудеса в роде отечественной музыки».
Так встречались они на чужбине и, беседуя о народном русском искусстве, все чаще и чаще называли имя Пушкина.
Но все, о чем так проникновенно говорил музыкант, оставалось тайной для пестрого общества, окружавшего его в Италии.
В портфеле Глинки было немало сочинений на избранные темы итальянских опер, а в дорожных тетрадях множились имена новых знакомых. Рядом с именем известного певца умещаются имена нотариусов и медиков, оказавшихся изрядными музыкантами. Глинка запишет о встрече с прославленной певицей Гризи, а рядом появится заметка о первоклассном, хотя и непризнанном фортепианисте. И непременно отметит зоркий гость Италии: знаменитая певица мяукает порой, как кошечка, а талантливый фортепианист вынужден торговать декоктом собственного изобретения. Глинка умеет восторгаться голосом Пасты и тут же запишет, что некий миланец, не имеющий отношения к театру, поет в совершенстве.
Растроганный разлукой с друзьями, он подарит им свой романс «Желание», написанный в итальянском духе, и охотно согласится на просьбу оперной примадонны сочинить для нее арию в духе Беллини. Он напишет эту арию, соображаясь с голосом певицы, избегая некрасивых у нее средних нот. Но примадонна капризничает: ей кажется, что именно средние ноты являются украшением ее голоса. Добродушный русский маэстро пытается объяснить истину певице. Она капризничает еще больше. Тогда Глинка дает себе зарок никогда не писать для итальянских примадонн.
Но он будет попрежнему вдохновляться непосредственным искусством самородных талантов. Так возникает его секстет. Он был посвящен девушке, обратившей внимание Глинки своей игрою на фортепиано. В доме у миланских друзей происходит первое исполнение. Фортепианистку поддерживают лучшие оркестранты из театра Ла-Скала, горячие поклонники русского маэстро. Увы; фортепианистка не вполне справляется со своей партией. Но кто обвинит ее?
Во всей итальянской музыке не было произведения, которое можно было бы сравнить по идейной глубине и по сложности, по богатству формы с пьесой русского маэстро. Виновата ли была безвестная фортепианистка в том, что ей было суждено заглянуть далеко в будущее и оказаться беспомощной перед этим будущим? Секстет, которому суждено занять почетное место среди выдающихся произведений, требовал иного мастерства, другой культуры исполнения.
Неудача с секстетом не останавливает автора. Увлекшись голосом безвестной дочери безвестного синьора, он пишет для нее каватину на тему новой оперы Беллини.
Как всегда, Глинка опережает итальянского маэстро. Никто не понимал, что он опять творит будущее, открывая итальянским музыкантам новые пути. Но было в этой музыке столько жизненной прелести, что слава русского музыканта следует за ним по пятам. В Милане, когда он проходит по улицам, встречные показывают на него друг другу:
– Смотрите – вот идет русский маэстро!
В Милане Глинку разыскал Феофил Толстой. Даже этот светский музыкант оказался желанным гостем на чужбине. Толстой без умолку рассказывал петербургские новости, перебирал общих знакомых. Глинка жадно слушал: хоть какие-нибудь свежие известия из России!
Вечером они гуляли по затихшим улицам и наслаждались благоуханием ночи.
– Можно ли передать эту негу, эту поэтическую картину в звуках?! – воскликнул Феофил Толстой.
– Можно, – отвечал Глинка. Он залюбовался дремлющим городом. – Можно, – еще раз подтвердил он. – Если не самую картину, то впечатление от нее.
– Бьюсь об заклад, – настаивал Толстой, – тут спасует сам Россини… Кстати, ты слыхал? Париж без ума от его новой оперы «Вильгельм Телль».
– Кое-что слыхал. Честь ему и слава! Не вечно же кормиться музыкантам от пройдох нотариусов и влюбленных девиц. Когда-нибудь явится и в Италии свой Вильгельм Телль.
– Пустое! – не согласился петербургский меломан. – Италии суждено услаждать мир гармонией, а вовсе не тревожить его диссонансом политических страстей.
– Тебе, петербургскому аматёру, о том, конечно, лучше знать, – Глинка не собирался продолжать спор.
Толстой снова предался упоению волшебной ночи.
Совсем поздно они вернулись на квартиру Глинки. Гость долго расспрашивал, чем занят Михаил Иванович. И Глинку вдруг прорвало. Сказалось, должно быть, долгое одиночество.
– Представь себе невозможное, – он подошел к фортепиано. – Представь, что опера наша обратится к истории народа…
– А! – откликнулся Феофил Толстой. – Ты тоже романы Загоскина читал? Волшебное перо! Вся Россия гордится!
– Вся ли? – Глинка нахмурился. – Меня по крайней мере, сделай милость, исключи… И вовсе не о том речь, если хочешь слушать.
– Молчу, молчу!
– Представь себе, что в опере нашей предстанет народ. – Глинка стал играть, потом оборвал: – Напевы останутся наши, а насчет музыкальной премудрости скупиться не станем.
– Стало быть, ты задумал целую оперу? – спросил Толстой.
Глинка кивнул головой, продолжая импровизировать.
– А сюжет, Михаил Иванович? Нам, музыкантам, знаю по собственному опыту, так трудно найти достойный сюжет.
– Чего же проще? – Глинка перестал играть. – Народ – вот тебе и сюжет!
– То есть как это народ?
– В мире нет сюжета более достойного, – сказал Глинка. – Всё в народе. История и будущее, высокая трагедия и героическая поэма… Это ли не сюжет для музыканта? – И спохватился, что слишком разоткровенничался: – Впрочем, ничего дельного у меня, ей-богу, еще нет. Вот с итальянскими пьесами, если угодно, охотно познакомлю.
Так и не узнал ничего толком Феофил Толстой, а Глинка вскоре уехал в Венецию.
Здесь шли репетиции новой оперы Беллини. В театре состоялось знакомство русского музыканта с миланским издателем Рикорди.
– Наша фирма сочла бы за высокую честь познакомиться с произведениями синьора Глинки, – сказал Рикорди. – Я уже давно состою поклонником вашего таланта и глубокой учености. Ваш соотечественник, который, как фокусник, извлекает древние манускрипты из наших хранилищ, наверное, вам об этом говорил? Я имею в виду синьора… синьора… Ох, как трудны у вас, русских, имена!
– Вы имеете в виду господина Соболевского?
– Конечно! – Синьор Рикорди хотел повторить забытую фамилию и в отчаянии махнул рукой. – Кто же может это запомнить! Однако когда позволите посетить вас?
– Я не премину сам быть у вас, как только вернусь в Милан.
– Буду счастлив принять высокочтимого маэстро!
Синьор Джиованни Рикорди, основатель крупнейшей нотоиздательской фирмы в Италии, составил себе имя на издании оперных клавиров. Фирма выпустила все оперы Россини и была бы готова выпускать их впредь, но блистательный Россини покинул родину.
Меломаны Парижа восторгаются его новой героической оперой «Вильгельм Телль», но господин Рикорди не думает, что издание этого клавира может быть осуществлено в Милане. Недаром и сам Россини переселился в Париж. В опере, написанной по трагедии Шиллера, швейцарцы восстают против владычества немцев. Аналогии, которые могут возникнуть у жителей Милана, находящихся под пятой австрийского императора, пагубно отразятся на судьбе фирмы. Пусть лучше за пределами родины пишет свои новые оперы сладкозвучный Россини.
Фирма Рикорди издает безопасные клавиры Беллини, Доницетти и других авторов, но как ни плодовиты эти маэстро, дела преуспевающей фирмы требуют дальнейшего расширения. Почему бы и не издать пьесы русского маэстро, о котором столько говорят?
Господин Рикорди смутно представляет себе страну, из которой прибыл синьор Глинка. Впрочем, если судить по торговым книгам, издания фирмы охотно покупаются в России. Значит, в стране вечных снегов есть ценители искусства. Но есть ли в России композиторы? Предания говорят, что еще в прошлом веке в Италии побывали русские музыканты, а в театрах Венеции, Ливорно, Модены и Неаполя шли написанные ими оперы. Именно так говорят предания и хранят даже имена русских маэстро. То были Петр Скоков, Дмитрий Бортнянский и Максим Березовский. А потом русские музыканты, умевшие так глубоко постигнуть дух итальянской музыки, снова уезжали к себе на родину. Может быть, в какой-нибудь библиотеке еще сохранились пожелтевшие листы партитур, а может быть ветер давно истрепал последний их клочок.
«Эх, издать бы во-время те оперы! – мечтает энергичный издатель и спохватывается: когда итальянцы бросались в театры на представления этих опер, самого Джиованни Рикорди еще не было на свете. – Итак, будем ждать синьора Глинку», – решает глава фирмы.
А Глинка, вернувшись в Милан и верный данному слову, посетил господина Рикорди и предложил его вниманию несколько своих сочинений.
Опытный издатель и сведущий музыкант не мог не заметить: в этих пьесах разработаны многие мелодии из тех, что звучат не только в оперных театрах, но особенно охотно распеваются в музыкальных собраниях. Словно бы хотел русский маэстро представить в своих пьесах живую Италию, отраженную в музыке.
– Это, несомненно, будет иметь успех, – объявил господин Рикорди и с уважением взглянул на гостя.
– Но я буду просить, – сказал Глинка, – чтобы предложенные мною пьесы были изданы общей тетрадью. Смею думать, что, отобрав и разработав наиболее характерное для итальянской музыки, я посильно отплачу за гостеприимство, оказанное путешествующему артисту.
– Но вы сами, синьор Глинка, делаете честь Италии своим искусством. Поверьте, в Италии умеют об этом судить.
– Не сомневаюсь, в добрых чувствах ваших соотечественников, но не буду от вас скрывать… – Глинка говорил по-итальянски совершенно свободно, но теперь, приступая к главному, сделал короткую паузу. – Мне кажется, – продолжал он, – что именно в части контрапункта и изобретения в Италии наблюдается застой. Для вас не тайна, что одна и та же счастливо найденная мелодия повторяется чуть ли не в десяти операх.
– Бывает, – согласился Рикорди. – Но если публике нравится, то какой маэстро будет ей перечить? Не так ли, синьор Глинка?
– Я полагаю, – продолжал Глинка, – что музыканты Италии, не довольствуясь достигнутым, могут найти новые гармонические возможности, которые избавят их от утомительного для артиста повторения. Если мои скромные опыты привлекут к себе чье-нибудь внимание, я буду вполне вознагражден.
Господин Рикорди сочувственно поддакивал, но вряд ли постиг мысли артиста, изложенные с такой лапидарностью.
В тетради, предложенной к изданию, Глинка, пользуясь достижениями европейской ученой музыки, щедро рассыпал дары своего провидения.
Русский музыкант сумел разглядеть и оценить в итальянском искусстве ростки, идущие от плодоносной народной музыки. Итальянскому народу и принес в дар свою миланскую тетрадь Михаил Глинка.
На Красной площади
Глава перваяВ Новоспасском подолгу ждали писем от Мишеля. И хоть накопилась за прошлые годы немалая пачка писем, их все-таки ждали и ждали с каждой почтой.
Нетерпеливее всех ждал известий из далекой Италии сам Иван Николаевич. Он теперь никуда не ездит, Болезнь подступила незаметно, но весной 1833 года сразу уложила его в постель. Медики рассуждали о сердечных и прочих неполадках, а Иван Николаевич лучше медиков понял: кончена жизнь.
Об этом говорило решительно все и прежде всего заброшенные дела, словно бы и всю жизнь прожил байбаком новоспасский хозяин. Кое-как он распродал конский завод, остановил белильни, махнул рукой на судебные кляузы, накопившиеся по откупам, и только в одном остался верен себе: призовет садовника и требует в кабинет новых цветов.
А потом опять лежит на диване, то впадая в легкое забытье, то прислушиваясь к мертвой тишине, воцарившейся в новоспасском доме. Куда же ушла былая жизнь? А жизнь следом за детьми ушла. Наташа выдана за соседнего помещика Гедеонова. Востроглазая Машенька перебралась в Смоленск и зовется по мужу госпожой Стунеевой. Одна Лиза осталась в невестах, да и той никогда нет дома. Живет почти безвыездно в Русскове, и не поймешь, кого больше нянчит: глухонемого племянника Николеньку или горемычного вдовца? Подрос в Новоспасском сын Андрюша, да и тот отправился в Петербург, в артиллерийскую школу.
Полежит на диване Иван Николаевич, придет в силу, протянет пожелтевшую руку к заветным письмам из Италии, а строчки прыгают перед глазами и поднимается кружение в голове.
Тогда берется он за колокольчик и тихо говорит вошедшему слуге:
– Пригласи ко мне барыню.
– Барыня к хлебным амбарам отправились. Сегодня большой обоз пойдет.
«Ишь ты, – удивляется про себя Иван Николаевич, – да когда же это Евгеньюшка в дела вошла?»
– Покличь ко мне Людмилу Ивановну, – говорит он слуге.
Повзрослевшая Людмила чинно входит в кабинет отца.
– Звали, папенька?
Иван Николаевич оглядывает дочь с гордостью и с опаской: пожалуй, и Людмила не сегодня-завтра заневестится, и тогда поминай ее, как звали!
– Почитай-ка мне вот это, – он подает Людмиле отобранное из пачки письмо, полученное еще в прошлом году из Неаполя. Иван Николаевич знает все письма наизусть, и читаны они по многу раз. – Сдается, писал здесь Мишель о важном, да я запамятовал, – хитрит Иван Николаевич. – Читай отсюда, да внятно!
– «В декабре, – читает Людмила, с трудом разбирая почерк брата, – я с Ивановым отправился на Везувий, чтобы видеть поток… поток…»
– «…лавы», – подсказывает отец.
– «…лавы, – повторяет Людмила и продолжает: – В Неаполе шел дождик, а когда мы стали взбираться на Везувий, нас встретила сильная русская снеговая метель…»
Людмила недоуменно смотрит на отца: ей еще из детских уроков географии у братца Мишеля хорошо известно, что в жарких странах никаких русских метелей не бывает. Но в письме ясно написано «метель».
Иван Николаевич молчит. Он помнит, что подъем на Везувий оказался невозможным, на обратном пути факелы погасли, и путники едва не угодили в пропасть. Мишель после этой вылазки серьезно заболел.
– «Но я от намерения своего не отступил, – продолжала читать Людмила. – Оправясь от болезни, я снова отправился на Везувий в ясную зимнюю ночь, и мне вполне удалось видеть поток раскаленной лавы…»
– Молодец, Мишель! – прерывает чтение Иван Николаевич. – Я бы тоже нипочем не отступил. Путешествие сие можно счесть за поучительную аллегорию… Да где тебе понять! – с трудом заканчивает Иван Николаевич.
Отпустив дочь, он снова перебирает дорогие письма. Сын писал из Милана, из Рима, из Неаполя, из Генуи и Венеции и опять из полюбившегося ему Милана. Нет такого письма, в котором не описывал бы Мишель достопримечательности природы или создания искусства, а вот о музыке своей ни гу-гу.
А кажется, наживет Мишель большие неприятности, если не от химеры-музыки, то от пустоголовых музыкантов.
Певчий Иванов, которого отправил Иван Николаевич для сопровождения сына, стал в Италии прославленным артистом. Мишель не сообщает батюшке, сколько трудов положил он сам на этого певчего и как разыскал для него настоящих учителей. А впрочем, и не обратил бы внимания на всю эту историю Иван Николаевич, если бы не пришло позднее новое письмо.
«К огорчению моему, должен сообщить вам, батюшка, печальную новость, – писал Глинка. – Певчий Иванов, которому вы выхлопотали заграничный отпуск, оправдал многие мои надежды как певец, но оказался несолидным человеком. Я советовал ему ехать в Россию, он пренебрег моим советом, решив навсегда покинуть отечество. Вообще он оказался человеком трудным, с черствым сердцем, неповоротлив и туп умом. Когда мы расстались в Неаполе, то прекратились все между нами сношения».
И снова раздумывает над письмом Иван Николаевич: коли хватится беглого певчего русское правительство, будет тогда музыка Мишелю…
Отношения с музыкой у самого Ивана Николаевича давно не отличались былой ясностью. По собственному его заказу приходят из Петербурга разные ноты. Там напечатаны романсы Мишеля на слова Пушкина, Жуковского, Дельвига, какого-то князя Голицына и даже на слова Мишелева пансионского товарища – Римского-Корсака.
«Ну, этот-то совсем пустой человек», – размышляет Иван Николаевич, листая альбом, и опять тянется к романсу «Не пой, красавица, при мне».
На печатном листе стоят рядом имена Пушкина и Мишеля. Стало быть, и первый поэт России считает за дело Мишелеву музыку.
Иван Николаевич закрывает глаза и видит, как эти нотные тетради расходятся по России. Былой размах все еще не покидает новоспасского предпринимателя. Но он не может представить, как звучат Мишелевы романсы. Приходится терпеливо ждать приезда Наташи.
А Наташа не часто ездит к родителям. Вскоре после замужества она стала недужить. Медики говорят об операции, но такой сложной, что рекомендуют везти Наташу в Берлин, к тамошним светилам.
– Ну, справилась ты с хворями? – с надеждой спрашивает Иван Николаевич, едва Наташа заглянет в Новоспасское.
– Справлюсь, папенька, непременно справлюсь, – отвечает Наташа. Но весь ее вид – и впавшие щеки и отяжелевшая походка – противоречит словам.
Вечером Иван Николаевич приказывает перевезти себя в зал и, отдышавшись от трудного путешествия, выжидательно посматривает на дочку.
Наташа садится к роялю и, аккомпанируя себе, с трудом поет один за другим приходящие из Петербурга романсы. А когда распоется, попрежнему свежо звучит ее голос.
Наташа поет, и музыка Мишеля творит чудеса в новоспасской зале. Вот уже появился былой нежный румянец на Наташиных щеках. Даже тогда, когда слова говорят о печалях человеческих, об оскорбленных чувствах, о попранных надеждах, музыка спешит утешить: посмотри, как хороша может быть жизнь!
Слушает Иван Николаевич и не замечает, что сыновняя музыка вернула его к собственной молодости. Взглянул на Евгению Андреевну – и у нее, голубушки, та же молодость в глазах. А Наташа возьми да и споткнись.
– Что ты? – недовольно спросил Иван Николаевич.
– С аккомпанементом не управлюсь, – отвечала Наташа, переигрывая незадавшиеся такты.
– Не пеняй на Наташу, мой друг, – говорит Евгения Андреевна, видя, как огорчился муж. – Если бы мы в свое время держали хорошего музыкального учителя…
– Но кто же мог предвидеть… – неуверенно перебивает Иван Николаевич. – Наташенька, – обращается он к дочери, – сделай милость, повтори!
Преодолевая усталость, Наташа еще раз запела «Ноченьку». Потом отошла от рояля и села рядом с матерью.
– Опять неможется, маменька… – и от боли закрыла глаза.
И только покинула залу химера-музыка, тотчас увидел Иван Николаевич свои иссохшие руки и седую голову Евгении Андреевны, склонившейся над дочерью. Хотел было Иван Николаевич приласкать Наташу, но не смог даже приподняться из глубокого кресла. Лишь услышал, как медленно, будто в последний раз, ударило сердце.
К лету сердечные припадки стали чаще и продолжительнее. Евгения Андреевна не выходила из кабинета мужа.
– Может быть, еще какого-нибудь медика из Смоленска выпишем? Или в Москве поищем?
Иван Николаевич слабо махнул рукою.
– Не нам с тобой, Евгеньюшка, в прятки играть. Я не трус, да и ты не робкого десятка. Жизнь с тобою прожили – каждому давай бог, а ежели со мной и случится…
– Помилуй! Что ты говоришь?
– От слова хуже не будет. А тебе надобно наперед знать. Об имении я так располагаю… – Иван Николаевич говорил долго и обстоятельно. Устал и мягко улыбнулся жене. – Ну, полно о делах! Вижу, что ты и так все хлопоты на себя взяла. Вот только с сенатской кляузой тебе трудно будет… Положи-ка мне подушку повыше.
Он долго собирался с силами, потом сказал:
– Что-то от Мишеля известий нет.
– А я тебя опять спрошу: не пора ли отписать ему, чтобы ехал восвояси? Четвертый год странствует. Доколе его ждать?
– Ему, Евгеньюшка, виднее. Не нам о том судить. Не думали, не гадали, а вышел из Мишеля заправский артист. А коли так, то артисту свои науки надобны. А то как у нас? Все в полдела, а потом и ахают: ах, просвещенные французы! вот, мол, немцы! Нет, не надобно Мишеля в его занятиях беспокоить. Коли хочешь, Евгеньюшка, мою волю исполнить, ни слова не пиши ему о моей напасти.
И хоть толкает Ивана Николаевича болезнь к верной могиле, а он все отсрочки берет. Не успел человек за всю жизнь книг начитаться, теперь выписывает их и из Петербурга и из Москвы. То почитает излюбленного своего поэта Жуковского, то снова вернется к повестям Белкина, изданным А. П. Впрочем, кто же не знает, что подарил этими повестями русскую литературу Александр Пушкин. К Пушкину У Ивана Николаевича с некоторых пор особое отношение: он как бы и сам свел с ним знакомство через сына. Пришли еще из Петербурга замысловатые «Вечера на хуторе близ Диканьки». Москва слала романы Загоскина. К «Юрию Милославскому» и «Рославлеву» прибавилась последняя новинка – «Аскольдова могила».
Все бы перечитал Иван Николаевич, но все чаще отбирает книгу заботливая жена.
– Отдохни, друг мой, утомительны для здоровья книги.
– Какие как, Евгеньюшка. Bo-время не успел – теперь торопиться надо.
– Ишь ты, прыткий! – ласково ворчит Евгения Андреевна. – Изволь, однако, помогу… От которого места тебе читать? – И возьмет книгу, а сама скажет как бы невзначай: – Вчера Федот из Смоленска вернулся, сказывает – большой спрос на льняное волокно будет. Из столиц будто бы скупщиков бессчетно понаехало. Не прикупить ли и нам загодя, как укажешь?
Иван Николаевич начнет расспрашивать, а потом махнет рукой.
– Ты сама теперь лучше меня разумеешь, Евгеньюшка, – и опять повернет разговор на книгу, словно отрешенный от жизни человек.
Евгения Андреевна принимается за чтение, и голос ее звучит твердо и спокойно, хотя и надрывается сердце, глядя на спутника жизни, готовящегося ее покинуть.
А если уйдет Евгения Андреевна на свою половину, опять нельзя дать волю слезам. Здесь до ночи толкутся теперь конторщики и приказчики. Евгения Андреевна ведет разговоры с заезжими купцами. А когда разойдутся люди, тогда помолиться бы ей для услады сердца, а времени опять нет. И придвинет поближе конторские счеты бывшая шмаковская барышня или начнет писать собственноручный наказ приказчику, отправляющемуся с хлебным обозом.
Деньги нужны в Новоспасском до зарезу. Наташа едет в Берлин. Вот куда теперь за здоровьем шлют. Но ни перед чем не остановится мать, потерявшая старшую дочь. Пусть едет Наташа хоть в Берлин, была бы только здорова. Правда, по путешествию предстоят большие расходы, а с зятя что спросишь? Сами выдали за небогатого.
Евгения Андреевна справила Наташу в дальнюю дорогу. Иван Николаевич едва мог поднять руку, чтобы благословить дочь, но и ей дал строгий наказ:
– Коли свидишься с Мишелем, ничего ему о моей болезни не сказывай. Пусть странствует да упражняет себя, доколе надобность ему есть.
После отъезда Наташи Иван Николаевич заскучал еще больше. Некому утешить его сыновней музыкой. И писем от Мишеля нет.
Впрочем, письма приходили, только Евгения Андреевна их скрывала. Как покажешь эти письма, если не избавился Мишель от своих страданий и пишет родителям, что живет уже не надеждой на исцеление, но мыслью о том, что привычкой к болезни вырвет у судьбы возможность трудиться?
По счастью той же осенью пришла из Милана посылка. Дрожащими руками распечатала ее Евгения Андреевна. Ноты! Увесистая тетрадь, и на обложке – едва разобрала Евгения Андреевна – фамилия сына.
– Смотри, отец! – Евгения Андреевна вбежала в кабинет мужа. – Должно быть, новые Мишелевы сочинения.
– Послать немедля за братцем Иваном Андреевичем! – неожиданно бодрым голосом распорядился Иван Николаевич.
Склонив над тетрадью головы, мать и отец глядели на дорогое имя, непривычно выглядевшее на итальянском языке. Через минуту Иван Николаевич приказывал нарочному не забыть объявить в Шмакове в первых же словах, что прибыли в Новоспасское итальянские сочинения Михаила Ивановича.
– Теперь-то не замедлит братец явиться, – уверенно сказал Иван Николаевич.
Шмаковский дядюшка Иван Андреевич не был в Новоспасском с давних пор. После похорон старшего своего брата, Афанасия Андреевича, обошел он весь барский дом и даже флигели и ценою этого утомительного путешествия убедился в печальной истине: прошедшие годы давно сглодали и двусветную, и боковую залу, и портретную галерею, оставив на будущее лишь считанные комнаты.
– Признаюсь, – сказал после этого обхода Иван Андреевич тетушке Елизавете Петровне, – неважно мы хозяйствовали с покойным братцем. Надобно спасать фамильные остатки.
Бывший петербургский аматёр музыки переселил Елизавету Петровну вместе с черепаховым ее лорнетом в уцелевший гостевой флигель, продал большую часть земель, снес старый дом и построил для себя скромный домишко на противоположном берегу шмаковского озера. Здесь и живет теперь Иван Андреевич с подругой жизни Дарьей Корнеевной и растит сыновей, которыми наградил его бог на склоне лет. Смутно вспоминается Ивану Андреевичу прежняя петербургская жизнь и первая супруга. А подойдет Иван Андреевич к окну, глянет через озеро – и там нет следов прежней жизни. От барского дома и фундамента не осталось, а вместо версальского парка стоят одни пни. Но ничуть не жалеет о прошлом Иван Андреевич. Теперь в его тесном домишке вольно живется музыке. Отойдет Иван Андреевич от окна к роялю, и зазвучит бетховенская соната или сам Себастьян Бах разделит счастливое уединение разорившегося помещика. А за стеной тихо ходит Дарья Корнеевна да строжит сыновей:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































