Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
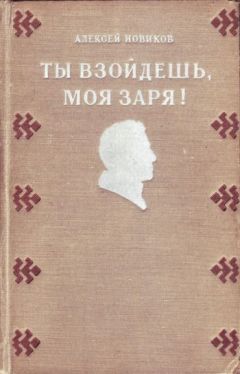
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 44 страниц)
Император был знатоком по женской части и весьма многогранен во вкусах. Для мимолетных «васильковых дурачеств» его величества отбирались воспитанницы театрального училища, достойные особого внимания. Между дел государственных император был непрочь вкусить от чуть-чуть неспелого плода. Для более продолжительных и солидных связей он пользовался фрейлинами высочайшего двора. Но монарх вовсе не ограничивал свой выбор фрейлинской половиной дворца или театральным училищем. Николай Павлович был страстным любителем маскарадных интриг, которые позволяли заводить короткие знакомства с верноподданными россиянками из самых широких кругов. Впрочем, эти маскарадные интрижки его величества доставляли столько хлопот графу Бенкендорфу, что он решительно предпочитал направлять чувства императора по более изученным и безопасным каналам.
Жена полковника Стунеева, командующего кавалерийской ротой в Школе гвардейских подпрапорщиков, была сочтена шефом жандармов кандидатурой весьма подходящей.
Не имея никакого понятия об этих высоких государственных соображениях, Софья Петровна ждала и мечтала. Когда император заехал в школу на очередной бал и снова увидел Софью Петровну, он с завидной находчивостью повторил ей тот же самый комплимент.
Разговоры о Софье Петровне вспыхнули с новой силой. Даже Луиза Карловна сочла возможным поведать своим жильцам о чести, которой удостоилась ее фамилия. Жильцы, хорошо помнившие Софочку еще в девичестве, ответили дружным смехом: давно ли этот чертенок Софочка бегала для них за папиросами, а тут на́ тебе – император! Почтенная вдова, очевидно, врала, как сивый мерин.
Разговор происходил за обедом, накрывавшимся в комнате Луизы Карловны. Еще не отзвучал оскорбительный смех нахлебников, как Машенька вскочила со своего места, пылая от гнева.
– Мамаша! – закричала она. – Не смейте рассказывать им про нашу Софи!
Девочка хлопнула дверью и убежала в кухню. Кухарка возилась у плиты. От чада слезились глаза. Мари села у кухонного стола, опустила нежные руки на засаленную доску и, едва сдерживая рыдания, прошептала, оборотись к столовой:
– А все-таки сам император говорил с Софи!
Так началась сладостная пора грез. Первые девичьи мечты всегда смутны. Трудно сказать, что тревожит сердце, которое еще вчера билось так спокойно. Машенька никогда не была влюблена. История сестры была первым романом, который всколыхнул ее воображение. Девочке, родившейся на Песках, не хватало красок, чтобы представить себе волнующие тайны, связанные с именем монарха. Тогда Машенька пристрастилась к чтению. Она выпрашивала у жильцов очередной номер «Северной пчелы» и сидела с ним до поздней ночи. Боже, как описывает «Пчела» дворцовые балы!
Но один бальный сезон сменялся другим, а император по неведомым причинам не шел дальше комплимента, который стал историей.
Софья Петровна ждала и заметно полнела. Зеркало перестало быть ей другом, оно превратилось в придирчивого наблюдателя. А Машенька, достигнув шестнадцати лет, еще больше напоминала Софье Петровне о попусту растраченных годах.
– Какая ты красавица, Мари! – Софья Петровна целовала ее и вздыхала. Может быть, старшая сестра навсегда расставалась с несбывшимися надеждами; может быть, при взгляде на Мари у нее рождались какие-то новые предчувствия. – У тебя есть шанс, детка, – вслух заканчивала свои размышления Софья Петровна.
– Что такое шанс? – переспрашивала Мари.
Софья Петровна приходила в отчаяние. Подготовка Мари к вступлению в свет подвигалась очень медленно. На всякий случай Луизе Карловне было предложено расстаться с жильцами. Для Мари были сшиты приличные выездные туалеты, было решено учить ее французскому языку.
Именно в эту пору, осенью 1834 года, в Петербург приехал очень дальний родственник, а ныне и свойственник полковника Стунеева. Софья Петровна не имела о нем ни малейшего понятия. Мысли, связанные с ним, были скорее неприятны. По нотам, сочиненным этим родственником, Алексей Степанович распевал романсы и пел их так громко и так долго, что у Софьи Петровны частенько болела голова.
Но когда сочинитель романсов явился с визитом к Стунеевым и оказался увлекательным собеседником, рассказывавшим и об Италии, и о Москве, и о Смоленщине, откуда он только что приехал в столицу, Софья Петровна присоединилась к горячим просьбам мужа: поселиться, хотя бы временно, у них.
– И по родству и по свойству, – объявил Алексей Степанович, – буду рассматривать отказ ваш, Михаил Иванович, как кровную обиду.
Глинка не решился отказать Софье Петровне.
Молодой человек поселился в отведенном ему кабинете Алексея Степановича, который никогда не заглядывал в этот кабинет, и зажил своей жизнью. Квартира Стунеевых наполнилась, как по мановению волшебной палочки, молодыми офицерами, любителями музыки, которых, как на лакомое блюдо, стал звать к себе Алексей Степанович. Среди гостей объявились и теноры, и басы, и даже сочинители музыкальных пьес. Но все они оказались послушными и усердными учениками заезжего родственника.
Столь неожиданное превращение тихой гостиной Софьи Петровны в музыкальный салон скорее удивило, чем заинтересовало хозяйку. Но собственный муж заставил ее взглянуть на происходящее совсем с новой точки зрения.
– Представь себе, – сказал Алексей Степанович жене за утренним кофе, – вчера Михаил Иванович был у графа Виельгорского, облеченного особым доверием их величеств.. Вот что могут сделать музыкальные занятия!
Сообщения следовали одно за другим. Смоленский родич, едва появившись в Петербурге, побывал у Василия Андреевича Жуковского. И снова объяснял супруге полковник Стунеев:
– Поэт-то он, Жуковский, поэт, однако пользуется монаршим благоволением и живет при дворе.
Далее стала мелькать в этих рассказах фамилия какого-то князя Одоевского, потом Демидовых. У Демидовых не было княжеского титула, но слухи об их царской роскоши доходили даже до Песков.
Софья Петровна стала приглядываться к новому родственнику с затаенным вниманием: кто знает, может быть, благодаря ему в ее гостиной соберется весь цвет высшего общества. И тогда…
Мечты вернулись к Софье Петровне. Но теперь забывчивый император не играл в них никакой роли. Пора было посчитаться с жестокой действительностью. Это было тем более своевременно, что важные дамы из военной среды, когда-то приезжавшие к ней с визитами, стали появляться тем реже, чем дальше отходила в прошлое эпоха незабвенного царского комплимента. Можно сказать, пожалуй, что эти визиты и совсем прекратились. Но как луч света, проникая в кромешную тьму, оживляет ее бесконечной игрой светотеней, так в доме Стунеевых возобновились разговоры о великосветских знакомствах.
Софья Петровна ожила и зачастила к Луизе Карловне.
– Наш милый родич Михаил Иванович знаком положительно со всей знатью, – рассказывала она. – Представьте, маменька, он уже был во дворце!
В волнении Софья Петровна забыла сказать, что Глинка бывал только на запасной половине Зимнего дворца, где жил Жуковский.
– Во дворце?! – воскликнула Мари. – Какое тебе счастье, Сонька!
Младшая сестра все еще делала промахи в светском обращении, когда приходила в восторженное состояние. Но на этот раз Софья Петровна ничего не заметила.
– А каков он из себя? – расспрашивала Мари.
– Сама увидишь, как только поправится maman и ты приедешь к нам.
Луиза Карловна сидела обложенная грелками: у нее начались осенние прострелы. Почтенная вдова плохо понимала, о чем стрекочут дочери, но сочла долгом их образумить:
– Вы кричите, как простые русские бабы. Но вы совсем не есть простые бабы. Надо беречь честь нашей фамилии!
Положительно Луиза Карловна делала большие успехи в светском обращении, чем Машенька. А Машенька опять не выдержала:
– Уж молчали бы вы со своими прострелами! – прикрикнула она на мать.
Застарелые прострелы Луизы Карловны превращались в неожиданное препятствие: нельзя вырваться к Софи!
Как только уехала старшая сестра, Машенька отправилась в кухню. Вечером, когда кухарка уходила со двора или чесала язык с дворниками у ворот, а жильцы либо тоже расходились, либо сидели по своим комнатам, в кухне можно было неплохо помечтать.
Мари сидит у засаленного стола и смотрит в убогое кухаркино зеркальце, а видится ей невесть что. Еще вчера, когда она читала придворную хронику в «Северной пчеле», весь этот манящий мир был так от нее далек, как луна или небесные звезды. И вдруг оказывается – у Стунеевых живет молодой человек, который ездит во дворец.
Из зеркала смотрят на Мари чьи-то глубокие, полные блеска глаза. Если бы не болезни Луизы Карловны, она бы хоть завтра могла увидеть этого молодого человека!
За зеркальцем пошевелил усами рыжий таракан и, помедлив, пополз вверх.
– К счастью! К счастью! – шептала Мари и, пристально следя за тараканом, приложила руку к бьющемуся сердцу.
Глава третьяСообщения о великосветских знакомствах Глинки не были особо преувеличены.
Началось с любезного приглашения к графу Виельгорскому.
В доме Виельгорских часто пели романсы Глинки. Дочери Михаила Юрьевича ловили каждую музыкальную новинку, едва она выходила в свет. До графа доходили слухи о длительном путешествии русского музыканта по Европе. Наконец Михаил Юрьевич хорошо помнил состязание в сочинении канона. У просвещенного мецената, весьма чуткого к чужим успехам, родилось законное желание узнать, что сталось с его случайным, но счастливым соперником.
Встреча состоялась в кабинете Виельгорского, где произошло их первое знакомство. Со стены попрежнему сурово взирал Бетховен. Коллекция картин и бронзы обогатилась многими униками. Та самая Европа, которую недавно покинул Глинка, безраздельно властвовала в жилище неофициального министра русских искусств.
Граф был отменно любезен. Он больше высказывался сам, чем расспрашивал гостя. Со свойственным ему остроумием он посвящал Глинку в закулисные тайны оперного театра, говорил о выдающихся концертах Петербургской филармонии. Михаил Юрьевич рассказывал много и живо. Но как-то выходило так, что Глинке пришлось отвечать на разные вопросы, заданные совершенно невзначай. Больше всего графа интересовало, у кого учился многоуважаемый Михаил Иванович в Италии и у кого прошел он высшую школу на родине Бетховена.
Имя Зигфрида Дена ничего не сказало Михаилу Юрьевичу, но он принял во внимание, что Глинка общался со всеми знаменитостями Италии и около года совершенствовался в Германии. Граф готов был признать за гостем все права маэстро и с большой охотой обещал познакомиться с его новыми сочинениями. Тут же, впрочем, Михаил Юрьевич указал на кипу нотных листов.
– Моя новая симфония, – сказал он. – Великие музыканты Германии открыли нам законы этой совершенной формы. Счастлив музыкант, который пойдет дорогою великих учителей. И нам и потомкам нашим все дано в откровениях титанов. Так вот, – дружески закончил граф, – покорно прошу вас почтить первое исполнение моей симфонии.
Глинка молча поклонился.
– Кстати, – вспомнил Михаил Юрьевич, – наш милейший князь Одоевский сказывал мне, что вы намерены посвятить свой талант сочинению большой русской оперы. Правильно ли я понял Владимира Федоровича?
Глинка отделался несколькими общими фразами. Ни роскошный кабинет, ни сам любезнейший Михаил Юрьевич не располагали к сокровенным излияниям.
Не то было у Одоевского!
Едва встретились после долгой разлуки друзья, Глинка поведал Владимиру Федоровичу о всех своих замыслах. И не только поведал, но и многое сыграл по каким-то разрозненным листам. И хоть были эти записи разрозненные, понял Владимир Федорович, что воздвигает Глинка стройное здание, в котором хочет собрать все, что веками копила в напевах Русь. Кое-что Глинка и напел. В распоряжении автора не было никаких текстов, но опять понял Одоевский, что русские песни творят у Глинки музыкальную драму небывалой силы. Даром, что все это только намечалось на разрозненных нотных листах.
Глинка выслушал страстную речь Одоевского, а потом изрядно удивил Владимира Федоровича, заговорив без всякой видимой связи о словесности:
– Слушал я, будучи в Москве, одну повесть. Трагическая история артиста-раба. Не знамение ли времени, что написал эту повесть человек, сам вышедший из крепостных? Почему же не пишут у нас о душевной силе народа, который сумел сохранить себя и под игом монгольских орд и под плетью отечественных рабовладельцев? Неужто невдомек, глядя на мужика, что таятся в нем другие силы, кроме долготерпения и безответной покорности.
– Ты это к чему?
– Московские романы господина Загоскина с ума не идут. А ныне и Верстовский черпает в них вдохновение для оперы, «Аскольдову могилу» пишет.
– Слухи о том и сюда дошли, – неопределенно отозвался Одоевский. – О неведомой опере судить не берусь, а вот Загоскин и нас, грешных, душит. В театре чуть не каждый день «Юрия Милославского» дают вперемежку с кукольниковской драмой. Этакий дурной тон и невежество! Но в утешение я тебе могу сообщить другую новость. Ты повести Гоголя успел прочесть?
– Еще в Новоспасском одним дыханием кончил.
– Так вот, на днях читал Гоголь у Жуковского первые главы новой повести. Называется «Тарас Бульба», а повествует о героической истории Запорожской Сечи. Признаться, удивил нас Николай Васильевич: этакую картину развернул и смешал в ней и трагическое, и смешное, и великое, и все это дышит вольным простором Украины. Теперь и Загоскину не поздоровится.
– При чем тут Загоскин?
– Сначала и я не понял. Да и сочинитель «Тараса Бульбы» не речист, когда заходит речь о его произведениях. А вспомни: ведь в «Юрии Милославском» тоже запорожец действует, как, бишь, его? Он всюду боярина сопровождает… А, вспомнил: Кирша-запорожец! Тот Кирша отказывается у Загоскина даже в родную Сечь вернуться, потому что нет, мол, места доброму человеку в гнезде разбойников. Вот Гоголь и показал теперь, каково было то гнездо народной вольности.
– Стало быть, не явись «Юрий Милославский», не было бы и «Тараса Бульбы»?
– Этого никто не говорит. Впрочем, борение противоположностей – на том вся новейшая философия стоит. А Пушкин слушал повесть Гоголя, потом подошел к нему и говорит: «И ты, Брут?» А Николай Васильевич глаза на Пушкина прищурил. «Где же мне, говорит, с господином Загоскиным состязаться, коли от него даже дамы в восхищении». Ну, Пушкин и залился смехом. Одним словом, поняли друг друга. Загоскин, конечно, – продолжал Одоевский, – совсем стыд потерял и собственное бесстыдство выдает за историю народа. А Пушкин на него Пугача выпускает. Уже окончил историю бунта. Признаюсь, однако, не понимаю я Александра Сергеевича: нельзя же из одной крайности впадать в другую.
Одоевский взял листы, по которым играл Глинка из будущей оперы, и долго перебирал их, как великое сокровище. Потом поднял глаза на Глинку.
– Надобно быть и вдохновенным поэтом, и дерзновенным ученым, чтобы объять твой замысел. А напевы твои каждый поймет. Вот куда песни привели! Кстати, покажу тебе одну удивительную статью. Говорится в ней об украинских песнях, а мысли куда шире. – Одоевский разыскал книжку журнала и передал Глинке. – Прочти на досуге. Утверждает автор: ничто не может быть сильнее народной музыки.
– Кто таков автор?
– Все тот же Гоголь. Признаюсь, Михаил Иванович, если бы я был мистиком, увидел бы сверхчувственное. Можно подумать, что подслушал Гоголь все то, что ты мне сегодня говорил. Но когда же родится твоя опера? Кто будет твой герой? Надеюсь, не Пугач? – пошутил Одоевский.
– Я уж докладывал тебе, – серьезно отвечал Глинка: – не знаю имени моего героя, но знаю его характер. А если к русскому характеру присмотреться, все в нем найдешь: и отвагу пугачевцев, и неустрашимость запорожцев, и многое другое. Обрадовал ты меня, Владимир Федорович, известием, что ополчается на брехунов словесность наша. Не гоже и музыке ходить в банкротах…
Глава четвертаяМари вбежала в гостиную, не ожидая встретить никого из посторонних. Она была одета по-домашнему и даже не причесана. Увидев чужого мужчину, девушка легонько вскрикнула и мгновенно скрылась во внутренних комнатах. Все это произошло так быстро, что у Глинки осталось только мимолетное впечатление от зарумянившихся девичьих щек, всплеска рук и легких, быстро удалявшихся шагов.
– Вы еще не знакомы с нашей Мари, – объяснила Софья Петровна, – но, надеюсь, отдадите должное малютке. Право, она совсем еще дитя и нуждается в снисхождении.
Мари снова появилась к обеду, и теперь Глинка увидел редкую красавицу в пору первого ее цветения. Девушка была невысокого роста. Она походила на миниатюру, которая вышла из рук тонкого живописца. Художник, задумавший воплотить мечту о прекрасной деве, добился и полной гармонии и божественных пропорций. Дыхание, вернее – предчувствие жизни придавало Машеньке особую прелесть.
Обед был без посторонних. Глинка привычно завладел общим вниманием. Мари слушала молча. Только иногда украдкой вскидывала глаза на нового знакомого и, встретив его взгляд, смущалась. Каждый раз, когда девушка поворачивала голову или улыбалась, а на лицо ее капризно ложились тени от свечей, Глинка почти терял нить разговора. Ни один живописец не мог бы передать подвижной прелести этих губ и спокойной ясности взора.
Расцветающая красота Мари была такова, что старшая сестра вовсе перед ней тушевалась. Присутствие Мари заполняло унылую столовую Стунеевых неведомо откуда ворвавшимся светом.
А едва кончился обед, Алексей Степанович потребовал музыки.
– Мари, – сказал он, – ты ведь до сих пор не слышала, как поет Михаил Иванович.
В гостиной Глинка подошел к роялю и на минуту задумался: что бы такое спеть? Девушка устремила на артиста глубокие темные глаза, и в этих глазах он почувствовал еще дремлющую, но неотразимую власть. Теперь он знал, что будет петь.
Певец ни разу не глянул на Мари, которая приютилась далеко от рояля. Но он пел для нее и о ней:
Не называй ее небесной
И у земли не отнимай.
Припев прозвучал в последний раз. Несмотря на все просьбы, Глинка отказался продолжать. Он подошел к Мари. Она не проронила ни слова.
И теперь дорвался наконец до вожделенного мига Алексей Степанович. Он пел и пел под неуверенный аккомпанемент жены.
– Не довольно ли, Алексис? – спросила Софья Петровна. – Вы знаете, Михаил Иванович, – обратилась она к Глинке, – юнкера про мужа даже стихи сложили. Сказать? – Она, улыбаясь, ждала разрешения Алексея Степановича.
– Сделай одолжение, коли хочешь, – продолжая рыться в нотах, отвечал полковник.
И Софья Петровна прочла напамять:
Пускай в манеже
Алехин глас
Как можно реже
Тревожит нас…
Алексей Степанович повернулся к Глинке:
– Есть у меня в роте юнкер Михайла Лермонтов. Это он пашквиль сочинил. Надо было бы его хорошенько цукнуть, но так как ни в чем предосудительном не замечен, а к музыке привержен, то простил каналью, но под условием, чтобы бумаги больше отнюдь не марал. А тем более, что вскорости будет произведен в офицеры.
Разговор перешел на юнкерские дела, и полковник опять увлекся. Потом супруги Стунеевы собрались ехать в театр.
– Поручаю малютку вашему попечению, Михаил Иванович, – сказала Софья Петровна.
– Я весь к услугам Марьи Петровны.
Молодые люди сидели в гостиной. По просьбе Мари Глинка повторил для нее недавно петый романс. Девушка слушала, то стараясь что-то понять, то будто хотела о чем-то опросить.
– Как это можно сочинять музыку? – наконец решилась она и глянула на Глинку. – Я еще никогда не видала сочинителей. Вы первый.
– Пусть же мне и будет предоставлена честь ввести вас в этот мир.
Он с жаром заговорил о музыкантах, о поэтах, о живописцах, о всех тех, кому дано воплощать в художестве жизнь. Он говорил, применяясь к ней и ею вдохновляясь. Неожиданно Мари доверчиво к нему склонилась.
– Идемте в столовую. В буфете у Софи есть чудесные конфеты. – Она взяла кавалера под руку и увлекла его в столовую.
Хозяева, вернувшись из театра, застали молодых людей за оживленной беседой.
– Спать, спать, Мари! – объявила Софья Петровна. – Тебе завтра надо пораньше вернуться к maman. Она наказывала доставить тебя непременно утром.
…Когда Глинка вернулся в свою комнату, он готов был досадовать на нежданную и скорую разлуку. Но на столе лежал взятый у Одоевского журнал. Он сел к столу и начал читать рекомендованную статью.
«…Я не распространяюсь о важности народных песен, – писал Гоголь. – Это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа! Оттого-то музыка песни, – говорилось в статье, – бывает то легка и грациозна, то становятся звуки сильны, могучи, крепки; они становятся порой вольны и широки так, словно слагает их исполин…»
А вот и те строки, что читал Одоевский:
«Ничто не может быть сильнее народной музыки…»
– Так! – восклицает Глинка и перечитывает:
«Ничто не может быть сильнее народной музыки, если только народ имел поэтическое расположение, разнообразие и деятельность жизни; если натиски насилий и непреодолимых вечных препятствий не давали ему ни на минуту уснуть…»
Статья давно прочитана, а Глинка не думает о сне. И, кажется, совсем забыл о встрече с Мари. А что, собственно, он о ней узнал? Разве только то, что Мари больше всего на свете обожает конфеты.
Но почему же так неотступно стоит перед ним лакомка Мари? Почему он помнит каждое ее слово и каждую минуту ее молчания? Когда Мари вдруг обрывала речь, она становилась трогательно серьезной. Тогда и без слов можно было понять, сколько священного огня заключено в этом чистом сердце, сколько невысказанных мыслей должно таиться в этой божественной головке.
Дожив до тридцати лет, Михаил Иванович вовсе не был похож на восторженного юнца, который, встретив девушку, каждый раз думает: «Она!» Нет, жизнь многому его научила. В памяти хранятся многие встречи. Совсем еще недавно, в Берлине, он встретил другую Марию. Девушка была талантлива и хороша собой. Мысленно он называл ее не иначе, как мадонной. И что же? От мадонны остались только письма, а от писем веет сладкой печалью изжитого увлечения. И сколько раз бывало в жизни именно так!
Глинка медленно расхаживает по кабинету полковника Стунеева, ставшему его пристанищем, и думает о Мари. Ему и в голову никогда не придет влюбиться в эту девушку-ребенка. Прошедшей юности не вернешь. Но каждый раз, когда он ее увидит, он будет благодарить небо за то, что может существовать эта ненаглядная красота. Пусть тоскует о ней само небо, но пусть оставит ее на радость людям. Вот и все, чего хочет артист.
А Мари тоже не спалось. По привычке она ждала, что старшая сестра зайдет к ней, чтобы поболтать перед сном. Но Софья Петровна не шла, и Мари отдалась мечтам. Она не знала сказки о Золушке. Но какая же девушка не ждет прекрасного принца?
Каждый раз, приезжая к сестре, она наслаждалась и завидовала. У Сони такая роскошная, просторная квартира. Если здесь устроить бал, среди гостей непременно явится желанный принц. У Сони ложа в театре. Может быть, именно в театральном вестибюле он увидит при разъезде Мари и почтительно накинет на ее плечи такую шубку, которую до сих пор Мари приходилось видеть только издали. А может быть… Но разве не все может случиться в жизни, если с Софи говорил сам император!
И сказочные принцы стали являться целой вереницей. Мари неясно представляла, какими королевствами они владеют, в каких дворцах живут и чем, кроме танцев, занимаются. Но во всей веренице чудесных видений не было никого, кто был бы похож на нового знакомого. Михаил Иванович Глинка не походил и на тех высоких, стройных красавцев, которые так часто заглядываются на Мари. Правда, говорят, что молодой человек ездит во дворец… Но не выдумка ли это? Он за весь вечер ни слова об этом не сказал… И пристало ли мужчине заниматься музыкой?
Мари долго не могла решить этот вопрос. Когда в комнату заглянула Софья Петровна, девушка спала крепким, безмятежным сном.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































