Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
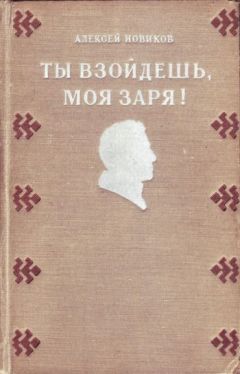
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 44 страниц)
В Италии съехалось трое молодых музыкантов из разных стран. Из Германии прибыл Феликс Мендельсон, уже получивший почетное признание на родине. Франция прислала Гектора Берлиоза, удостоенного римской премии за симфоническое сочинение. Из России явился Глинка. У него не было консерваторского диплома, никто не венчал его лаврами.
Русскому путешественнику, прибывшему в Милан, и следовало, очевидно, прежде всего обратиться к профессорам музыки, которыми так богата эта страна. Сам синьор Базили, директор Миланской консерватории, изъявил согласие давать ему уроки контрапункта. Ученый муж начал с головоломных упражнений, похожих на упражнения в алгебре, и обещал перейти к задачам еще более увлекательным.
Ученик был внимателен, но в свою очередь находил, что все эти схоластические ребусы не имеют отношения к живой музыке. В один из назначенных для занятий дней русский синьор, столь щедро плативший за науку, вовсе не явился к профессору. Франческо Базили, несмотря на потерю гонорара, самодовольно улыбнулся: он так и знал! Только избранные достигают цели! Не каждый достоин чести быть учеником взыскательного синьора Базили. Профессор был неподкупно строг не только к иностранцам, но даже к соотечественникам. Одному из них, по имени Джузеппе Верди, профессор через какой-нибудь год и вовсе откажет в приеме в Миланскую консерваторию, определив у экзаменующегося полное отсутствие музыкальных способностей.
Пусть же коснеет в своем невежестве русский синьор! Профессор нагрузился фолиантами и отправился на очередную лекцию в консерваторию, а Михаил Глинка остался в скромной своей комнате, которую он снимал на шумной улице Corso porta Renza у почтенной вдовы, промышлявшей сдачей квартир самым разношерстным жильцам.
Неподалеку высится знаменитый собор. Его белые мраморные стены сверкают на фоне прозрачного неба. К собору непрерывной чередой идут церковные процессии. Позлащенные хоругви и красные плащи участников шествия создают ослепительную игру красок. А в недрах собора, в мрачном подземелье, паломники подолгу ждут очереди, чтобы приложиться к мощам божьего угодника. Молодой монах, стоя около мощей, мелодическим звоном колокольчика напоминает молящимся: каждый должен оставить свою лепту на массивном серебряном блюде. Так учат итальянцев повиновению богу.
Вокруг собора, на площади и по всем улицам Милана маршируют австрийские войска. Целый корпус чужеземцев стоит здесь. Так учат итальянцев покорности завоевателям.
Победители строят в свою честь пышные триумфальные ворота. Неуклюжее сооружение, по мнению австрийского императора, должно символизировать счастливое настоящее и будущее Италии.
А в музеях хранятся творения Леонардо да Винчи и Рафаэля. Величие прошлого еще больше оттеняет ничтожество настоящего.
Австрийские офицеры ходят толпами по улицам Милана, и сами миланцы кажутся среди них чуть ли не пришельцами.
Но так повелось с приезда русского артиста, что комната его каждый вечер наполнялась миланцами. Среди них не было никого из городской знати. Сюда не заглядывали прославленные певцы из миланских театров – ни Рубини, ни Паста. Многие из гостей русского синьора никак не могли похвастать положением в обществе. Прежде всего это были квартиранты той самой почтенной вдовы, у которой жил Глинка с певчим Ивановым. Синьора не была придирчива. У нее находили кров и ничтожный писец, и разорившийся торговец, и девушки, работавшие в соседней таверне, и изобретатель чудодейственного снадобья, наконец люди, питавшиеся просто от счастливого случая, если его величество случай соблаговолит обернуться заработком.
Но все это пестрое общество с увлечением отдавалось музыке. Каждый знал множество песен, которые звучат под благостным небом Италии с утра до ночи и с ночи до утра.
Глинка радушно угощал гостей. С каждым днем их сходилось все больше и больше. Гости пели, не заставляя себя просить. Русский синьор внимательно слушал. Разумеется, это вовсе не походило на занятия строгим контрапунктом или на посещение консерваторских классов. Но, повидимому, Михаил Глинка считал, что это имеет большее отношение к музыке, чем занятия с профессором Базили. Однако мало ли чудили в Италии русские синьоры, выбравшись из своих снегов?
Музыкант, прибывший из Германии, жил в Милане совсем иначе. Феликс Мендельсон Бартольди, похожий на степенного пастора, торопливо проходил по шумным улицам, сдерживая сострадательную улыбку. Жалкая страна, все величие которой похоронено в прошедших веках! Жалкая толпа, довольствующаяся незамысловатой песней!
Мендельсон спешил как можно скорее добраться до уединенного жилища аббата Сантини. Здесь, в древних рукописях, оживает перед ним былое величие итальянской музыки. Здесь изучает он творения Палестрины и Орландо Лассо и слушает неторопливую речь ученого аббата, накопившего эти бессмертные сокровища. Насладившись музыкой гениев шестнадцатого века, так легкомысленно забытых ничтожными потомками, путешественник из Германии с горечью возвращается к неприглядной итальянской действительности.
– Природа, живопись и остатки архитектуры прошлого, – говорит Мендельсон аббату, – вот единственная музыка, оставленная Италии. Со всех сторон что-то поет и звучит в этих памятниках, но, увы, не в безвкусных театрах. Не так ли?
Аббат Сантини сочувственно кивает головой. За стенами его жилища нет ничего примечательного. Аббат все больше располагается к Феликсу Мендельсону и достает с полок одно сокровище за другим. В этих манускриптах заключена нетленная жизнь, от которой бегут сумасброды.
– Право же, – вздыхает аббат Сантини, – они достойны своих театров, в которых кощунствуют музыкальные варвары…
/А музыкант, прибывший из России, стал усердным посетителем этих театров. Он попал в Милан как раз во-время. Зимой 1830–1831 года в оперных театрах разыгрывалась буря. Едва один театр дал новую оперу Доницетти «Анна Болена», как второй театр ответил премьерой «Сомнамбулы» Беллини.
Надо знать, что представляет в Италии день первого представления оперы!.. В такой день раньше обычного закрываются лавки и даже банкирские конторы: все равно не удержишь на месте самого добросовестного писца. В такой день задолго до назначенного для представления часа пустеют таверны и площади и нетерпеливая толпа штурмует театр.
В эту зиму страсти меломанов бушевали с особой силой. Шутка сказать – Беллини соперничает с Доницетти!
Глинка слушал мелодии нежного Беллини, в которых раскрывалась сладость любви и страдания сердца. Музыка Доницетти, посвященная тем же темам, была страстной и знойной. В оперном театре пели и Рубини и Паста, находившиеся в зените славы.
Самый вид театрального зала снова свидетельствовал об унижении Италии. Первые ряды кресел были отведены только для австрийцев. Лощеные генералы и офицеры, едва закрывался занавес, с удивлением взирали на публику: еще никогда не приходилось им видеть таких пламенных, таких неистовых оваций. Но в этих восторженных криках, обращенных итальянцами к итальянским артистам, прорывалась любовь народа к растерзанной родине. Кажется, это было единственное право, оставленное покоренным.
Театральные бури не мешали прежним сборищам у русского синьора на улице Corso porta Renza. Самые пламенные поклонники Беллини забывали здесь порой свои битвы с сторонниками Доницетти.
Это случилось в тот вечер, когда к старенькому фортепиано подошел певчий Иванов и под аккомпанемент Глинки спел те самые арии, которые в театре исполнял Рубини.
Пение кончилось. Гости оставались в оцепенении. Наконец кто-то из признанных знатоков нарушил непривычное молчание:
– Он берет целой нотой выше, чем сам Рубини!
Это была дерзость по отношению к божественному Рубини. Но это была правда, повергшая в изумление приверженцев знаменитого тенора. До сих пор ему не изменял ни один из итальянцев. Гости с нескрываемым удивлением рассматривали русского певчего, как чудо, которое видели в первый раз.
За фортепиано оставался один Глинка. Все видели, что за фортепиано сидит именно он. И вдруг раздалась всем известная ария несравненной Пасты. Конечно, синьор Глинка не обладал ее небесным голосом, но – Dio mio! – кто же это, как не сама Паста, со всеми ее жестами, мимикой и придыханиями?! Русский артист умел тонко передать аффектацию великой певицы, которая теперь бросалась в глаза. А миланцы склонны к шутке! Крики восторга сменялись неистовыми требованиями: «Фора!» Гости хватались за животы, задыхались от смеха и катались по диванам. Кто же он такой, этот удивительный русский синьор?
А иногда Глинка пел песни своей родины. Есть у людей заветное слово, которое одинаково горячо звучит на всех языках. Глинка пел неведомую песню далекого народа. Гости понимающе кивали головой, и глаза их горели. «О, patria!»[22]22
Отечество, родина! (итальян.).
[Закрыть] И каждый, произнося это священное слово, переходил на страстный шепот. Заветное слово было запрещенным в Милане, где владычествовали австрийцы. Оно было запретным по всей разодранной на клочья Италии.
А Глинка пел одну песню за другой. Не понимая ни слова, люди, собравшиеся из разных уголков Милана, невольно поддавались обаянию этих неслыханных напевов, то широких и величавых, то проникнутых глубокой грустью, то искрящихся весельем и удалью.
Потом гости подходили к русскому синьору и крепко пожимали ему руку. «О, patria!» Кто не поймет этого великого слова! А если держат его под запретом, чаще будут повторять его люди.
В театрах Милана попрежнему соперничали Беллини и Доницетти. Из всех впечатлений Глинки отчетливо складывался главный вывод: священное слово о т е ч е с т в о никогда не произносится на итальянской сцене.
А Феликс Мендельсон, посетив оперу, жаловался аббату Сантини:
– Вчера у меня разболелись зубы от соло на флейте: она фальшивила больше чем на четверть тона!
Сухое, словно пергаментное лицо аббата остается совершенно равнодушным: итальянская музыка кончилась со временами Палестрины. Хозяин и гость снова углубляются в древние манускрипты. Иногда к ним присоединяется приезжий из России. Сергей Александрович Соболевский объездил многие города Италии, обшарил самые потаенные книгохранилища и разыскал в них такие сокровища, о существовании которых не подозревал ни один книжник-итальянец. Сам аббат Сантини дивится учености и невиданной энергии этого русского. Аббат пророчит Соболевскому славу и все больше дорожит его вниманием.
Соболевский, познакомившись с Мендельсоном, решил свести его с Глинкой. В тот день, когда на улице Corso появился немецкий музыкант, Глинке сильно недужилось. Говорил, поучая русских, сам Мендельсон:
– Итальянские композиторы? Хваленый Доницетти пишет оперу в десять дней. Святотатец! А оперные певцы? Все сколько-нибудь стоящие таланты перебрались за границу, а оставшиеся копируют их с наивной грубостью.
Глинка не вступал в спор. Во многом суровый судья был прав, а в главном… Впрочем, Феликс Мендельсон мало говорил об искусстве итальянского народа.
– Но, может быть, маэстро согласится исполнить что-нибудь из своих произведений?
Мендельсон долго отказывался. Потом исполнил какое-то рондо в легком духе.
Он покинул квартиру Глинки, так и не поинтересовавшись музыкальными занятиями русского дилетанта. Да и чем бы мог обогатить европейского артиста случайный путешественник из России, музицирующий, как многие русские?
– Ну, каково тебе показалось немецкое светило? – спросил у Глинки Соболевский.
– Не знаю, – отвечал Глинка. – По пустячку, игранному нам из любезности, не хочу судить.
– А я среди вашей музыкальной братии впервые вижу в нем артиста, который не покидает библиотеки аббата Сантини, собравшего уники древней музыки.
– И за то воздадим ему справедливую дань, – откликнулся Глинка. – Но может ли артист бежать от жизни только в древность?
– Да, кстати, – перебил Соболевский, – давно хочу тебя спросить: писал ты мне, что едешь в Италию по нездоровью, а равно по каким-то тайным обстоятельствам, заставившим тебя избрать поприще артиста. Что это за тайна?
– Никакой тайны от тебя нет. Видишь ли, каждый должен решить, чем послужит он отечеству. А ответ на этот вопрос нам, русским, не следует доверять почте: послужить отечеству – это значит противодействовать нашей гнусной действительности.
– Что может сделать артист, если у нас расстреливают из пушек всякую попытку честно послужить родине? Надеюсь, про Сенатскую площадь помнишь?
– Еще бы! И про пушки не забыл. Что же может сделать, по-твоему, артист?
– Именно о том и спрашиваю, – повторил Соболевский.
– Трудный вопрос, Фальстаф, – Глинка задумался. – Для наглядности хоть на Пушкина сошлюсь. Помнишь, какие чувства будил у нас еще в пансионе каждый его стих? И потом, после событий на Сенатской площади: «Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление…» Может быть, пушкинское слово сильнее меча разит нечисть и воспитывает людей.
– Ну, брат, – Соболевский засмеялся, – Булгариных и иже с ними никакой Пушкин не перевоспитает. Они в нашей застойной трясине и плодятся и кормятся.
– Да разве о них речь? Вырастут люди, которые с омерзением будут произносить имена этих мокриц. Вот здесь и есть великая задача искусства. Не смею и в мыслях сравнить себя с Пушкиным. Но если даны мне способности, то и избираю многотрудное поприще артиста. – Глинка был искренне взволнован. Высказал сокровенное, много раз передуманное на чужбине, и сразу спрятался за шутку: – Можно ли доверять такие опасные мысли почте? Не гоже попасться, как кур во щи, на первом письме.
Соболевский стал серьезным.
– Тебе, Глинка, большому кораблю, большое и плавание. А ведь хочется и нам, мелкоте, свой пай внести. Рылся я в здешней библиотеке вельможного Воронцова и наскочил на клад: нашел наши древние песни. Пошлю Пушкину – пальчики оближет. Если когда-нибудь издадим песни, тоже памятник народу воздвигнем.
– Да, песни, – в какой-то рассеянности повторил Глинка. – Хоть я кладов не искал, а насчет песен тоже соображаю. И представь себе – здесь, в колыбели музыки, наши песни опять мне свои новые стороны открывают. Может быть, в них-то и есть тот клад, который ищут для музыки и немцы, и французы, и итальянцы.
– И поэтому сидишь, байбак, второй год в Милане и даже до Рима не доедешь?
– Туда и собираюсь, да от торопливости пользы не вижу.
Продолжая изучать в Милане народную музыку, Глинка приводил в порядок и дорожные дневники. Эти дневники хранят весь путь, проделанный с Ивановым из России. В Германии к путешественникам присоединился немецкий студент, отлично певший басом. И поездка неожиданно превратилась в артистическое турне. Вот и старая запись в дорожном блокноте, относящаяся к тем дням. «Всякий раз, – перечитывает Глинка, – когда мы останавливались для обеда или ночлега, если встречали фортепиано, пробовали петь вместе. Иванов пел первого, а я второго тенора, студент – баса. Хор из «Фрейшюца» шел в особенности хорошо, и немцы в маленьких городках сходились нас слушать».
Едва попав на немецкую землю, Глинка не зря подбивал спутников петь из «Волшебного стрелка». Эта опера Вебера обошла все сцены мира. Глинка давно знал ее по Петербургу. Как же относятся к этой опере, сотканной из народных напевов, сами немцы?
В его памяти встают восхищенные лица слушателей. Слушатели стучат пивными кружками о столы, требуя повторения, а трактирщик низко кланяется проезжим чудакам: наплыв публики на их импровизированные концерты дает изрядный барыш. Справедливость требует отметить, что восторги слушателей вызывал преимущественно первый тенор Иванов. Мало кто обращал внимания на скромного молодого человека, певшего партию второго тенора сиплым, глухим голосом.
Глинка отложил дорожный дневник. «Волшебный стрелок» Вебера? Нет, это все еще не то, что должно родиться в опере от народных напевов, если суждено осуществиться его, Глинки, замыслам.
Он снова перелистывает путевые дневники. Вот она, заметка, сделанная в Аахене. Вечную признательность сохранит он к этому городу за то, что слушал здесь оперу Бетховена, его единственную оперу «Фиделио». Когда-то, еще с домашним шмаковским оркестром, он разыгрывал увертюру к этой опере. В Аахене он дважды слушал «Фиделио» в театре, чтобы уразуметь все ее величие. Признаться, он готов отдать все оперы Моцарта за «Фиделио». Он плакал в театре от восторга. Плакал, а потом размышлял. Как ни были смутны его собственные замыслы, сам Бетховен не мог ему помочь!
С листов записной книжки вставали города и встречные люди. Стук в дверь вернул от воспоминаний к действительности. Откуда-то пришел Иванов. Он самовлюбленно рассказывал о своих триумфах: его нарасхват зовут в самые знатные дома. Если только Михаил Иванович согласится аккомпанировать, тогда будет завоеван весь Милан.
– Мы едем на днях в Рим, – отвечает Глинка.
Иванов принимает новость с огорчением, но что значит это огорчение в сравнении с безутешным горем вдовы Джузеппе! Плохо ли она ухаживала за синьором? Разве в комнате нет калорифера? Нет, она и подумать не может о разлуке. Вдова задумывается и находит еще один разительный аргумент:
– Что скажут соседи, все добрые миланцы? Да они попросту не отпустят любимого маэстро!
Глинка утешает почтенную женщину и клятвенно заверяет, что непременно вернется в Милан и именно в эту же комнату, к уважаемой синьоре.
А дорожные сборы идут своим чередом. Вероятно, никогда еще ни одного из путешественников не провожала такая оживленная и огорченная толпа друзей. Может быть, в день отъезда синьора Глинки было слишком шумно даже для итальянской улицы. Может быть, и осведомился кто-нибудь из австрийских ищеек, что происходит на улице Corso porta Renza.
Ответ не объяснил бы, впрочем, этой необыкновенной суматохи. В самом деле, чего сходят с ума эти миланские бездельники, если все происшествие заключается только в том, что какой-то русский путешественник переезжает из Милана в Рим?
В Риме Глинка встретил Гектора Берлиоза.
Глава пятаяНа вилле Медичи, где жили стипендиаты Франции, молодой француз высокого роста аккомпанировал на гитаре хору. Хор с увлечением пел из «Фрейшюца». Потом французы обступили редкого гостя – музыканта из России. Но еще не успели отзвучать приветствия, как Берлиоз сказал Глинке с возмущением:
– Представьте, эти итальянцы не знают даже музыки Вебера! Они ничего не знают!
Он взмахнул своей гитарой, и молодые французы снова запели с большим искусством.
Концерты на вилле Медичи устраивались почти каждый вечер, но французы никогда не пели ничего из итальянской музыки. Да они, пожалуй, знали о ней не больше, чем итальянцы о существовании опер Вебера.
В кафе Греко, излюбленном артистической молодежью, которая съезжалась в Рим со всех концов света, Гектор Берлиоз с той же горячностью продолжал свои речи:
– Италия! Почтим прекрасную Жульетту, спящую мертвым сном в своей гробнице, – и прочь с кладбища! Счастлив артист, который сделает это во-время. В Париж, друзья мои! Там исполняют девятую симфонию Бетховена! А здесь? – вопрошает Берлиоз и, как прирожденный оратор, делает короткую паузу, чтобы овладеть общим вниманием. – Когда в римской филармонии, – продолжает он, – хотели исполнить ораторию «Сотворение мира» Гайдна, музыканты не могли ее освоить. – Оратор делает повелительный жест. – Пусть же идут в монахи эти профаны, оскорбляющие звание артиста!
Экстравагантный оратор целиком сходился с Мендельсоном в отношении к Италии и нападал на самого Мендельсона с той же страстью:
– Он похож на гробокопателя, этот умереннейший из немцев! Нашел себе идола – Палестрину! Вкус и техника, конечно, есть, но говорить о гениальности – это просто шутка! И сам Мендельсон, пишущий фуги, похож на музыкального ткача.
– Музыкальный ткач! Он скажет, этот француз!
Словечко, пущенное Берлиозом, с восторгом повторяли за соседними столиками. Пылкого оратора слушали в кафе Греко молодые музыканты и живописцы, ваятели и зодчие, все, кто понимал французский язык. Речи бунтаря-музыканта приходятся по вкусу молодежи. На столиках появляются новые бутылки вина, атмосфера накаляется, а неутомимый француз продолжает вздымать бурю:
– Мы, пионеры, прорубим новые дороги музыке. Мы выкорчуем накопленный веками хлам!
Так готовится к будущим битвам Гектор Берлиоз, а поодаль сидит за столиком в кафе Греко Михаил Глинка и наблюдает. Речи Берлиоза кажутся как нельзя более уместны в Риме.
В государстве, которым правит папа римский, не только монастыри и костелы, но и улицы забиты монахами. Одна священная процессия сменяет другую. За церковной латынью не услышишь итальянского языка. «О, patria mia!» – мог бы и здесь с горечью воскликнуть каждый патриот. Но подданным его святейшества отнюдь не рекомендуется думать об отечестве: мирские мысли ведут к соблазну и греху.
Прав Гектор Берлиоз, который до того задыхается в столице наместника Христа, что, ораторствуя в кафе Греко, срывает галстук с шеи. Ему легче дышится, когда он выходит за ограду виллы Медичи и покидает излюбленный столик в кафе. В отдаленных окрестностях Рима редко появляются священные процессии, ксендзы и монахи не ходят толпами по пыльным дорогам между убогих хижин земледельцев; они не заглядывают к нищим камнетесам.
Его святейшество здесь не властен. Здесь вдруг прозвучит вольная песня, а вместо церковной латыни раздастся живая итальянская речь.
Сюда все чаще держит путь и русский музыкант. С Глинкой странствует московский знакомец Степан Петрович Шевырев. Шевырев знает в Риме каждый камень и в гладких речах, похожих на лекции, раскрывает перед любознательным соотечественником величие древнего города. Италия представляется Шевыреву не гробницей мертвой Джульетты, но вечной идеей прекрасного. Правда, идея прекрасного выглядит у Степана Петровича туманной, царящей над временем и людьми, но молодой москвич умеет делать и практические выводы из своих отвлеченных идей.
– Настало время преобразовать русский стих, – торжественно объявил Степан Петрович. Пусть не удивляется Михаил Иванович. Никто не знает таинственных недр, из которых рождается искусство. До времени никто не знает провозвестников, которые несут людям откровение. Может быть, ему, скромному труженику Степану Шевыреву, суждено оказать великую услугу русской поэзии. – Живя здесь, в стране воплощенной поэзии, – продолжал Шевырев и от волнения даже расстегнул пуговицу на жилете, – я устыдился изнеженности, слабости и скудости русского стиха. Одна божественная итальянская октава может спасти русских поэтов.
Степан Петрович кое-что, оказывается, сделал. Когда приятели вернулись с прогулки, он читал Глинке свои переводы из «Освобожденного Иерусалима» Тассо. Итальяно-русские октавы Шевырева были неуклюжи и скрипучи. Но провозвестник новой эры в отечественной поэзии брал лист за листом и снова читал, упиваясь величием собственного подвига.
Глинка слушал и дивился: недавний поклонник самородного русского сарафана с большим рвением занимался подражанием итальянцам. Никто из молодых музыкантов, посетивших Италию, не впадал в столь жалкую ересь.
Чтения октав происходили на римской вилле княгини Зинаиды Волконской. Шевырев жил здесь в качестве воспитателя при сыне княгини. Волконская, памятуя о московских встречах, оказала Глинке истинно русское гостеприимство. Но это было и все, что осталось русского в русской княгине.
Вилла Волконской кишела католическими монахами. Тощие и толстые, наглые и смиренные с виду, невежественные и лощеные, ряженные в декоративные рубища и в роскошные шелковые рясы, они плели прочную паутину. Они ткали эту паутину с тем большим усердием, что княгиня все еще была богата. Они наперебой обещали привести заблудшую душу к единственно истинному, католическому богу. И торопились передать бренное имущество грешницы наместнику бога на земле.
Искусство римской церкви в уловлении душ космополитично по своей природе. «Несть ни эллин, ни иудей», если намечается жертва во славу божию. Какое же другое искусство может процветать в столице римского первосвященника?
Михаил Глинка воочию увидел воинствующий католицизм: выдающийся талант Волконской обречен смерти во славу католического бога. Но что значила эта печальная повесть в сравнении с тем, что творилось в Риме на каждой улице, в каждом доме! Римский первосвященник и его слуги обещали людям жизнь во Христе и умерщвляли всякое проявление жизни нации. Единственной поэзией считалась молитва, единственной музыкой – церковный хорал, единственным языком – священная латынь.
То ли дело было на вилле Медичи! Здесь каждый вечер звучали песни. Молодые французы ниспровергали католического бога и с тем же усердием воевали против застоявшихся авторитетов. Здесь приветствовали каждого, кто посвятил себя искусству. Сам директор виллы Медичи господин Вернет радушно принимал русских артистов. На одном из вечеров Иванов исполнил романсы Глинки. Французы впервые слушали русскую музыку.
Экстраординарная программа приковала к себе общее внимание. Воцарилась тишина, совершенно необычная для обитателей виллы Медичи.
Иванов пел, ожидая обычных лавров. Но и после концерта никто не нарушил молчания. Это опять было чудом в собрании молодых французов.
– Черт возьми! – сказал после долгой паузы Гектор Берлиоз. – Эти прелестные мелодии совершенно отличны от того, что мне когда-нибудь приходилось слышать.
Он крепко пожал руку Глинке. Тут бы и начаться разговору о русской музыке, которая так поразила молодых стипендиатов Франции прелестью и новизной. Но пионеры, собиравшиеся прорубать в искусстве новые пути, были так заняты своими спорами, что, сочувственно прослушав музыку Глинки, снова обратились к извечным спорам. Речь держал, конечно, Гектор Берлиоз. У него были постоянные счеты с музыкальными ткачами Италии, Германии и Франции. Здесь прежде всего предвидел для себя яростные схватки будущий вождь новой романтической школы музыки.
Выступление русских артистов прошло бесследно. Иванов смертельно обиделся.
– Эти французы ничего не понимают, Михаил Иванович, – говорил он Глинке на пути к дому. – Не зря же итальянцы и итальянки бегают за мной по следам?
– Быстро привыкли вы, Николай Кузьмич, к воскурению фимиама. А нашим друзьям французам не до вас. У них, голубчик, все кипит. А когда перекипит, тогда и выйдет толк. Вот у римлян давным-давно постом и молитвой остудили священный пыл души.
Глинке стало нестерпимо в Риме. Он не срывал с шеи галстука, когда говорил о жалкой участи искусства в государстве папы римского, но, взяв с собой Иванова, он бежал из Рима в Неаполь.
В Неаполе сидел на мишурном троне карликовый король. К воинствующему католицизму присоединялась власть этого карлика, боявшегося больше чем смерти объединения Италии.
Искусство и здесь было лишено главной вдохновлявшей идеи – права говорить о национальных чувствах. Маэстро избегали глубоких идей. Даже ученый контрапунктист Неаполя Пьетро Раймонди оказался на деле автором пошлых опер.
Неприглядное состояние искусства открывалось перед Глинкой в каждом городе. Столица неаполитанского королевства не представляла исключения. Но недаром же зачастил русский музыкант в маленький, неведомый иностранцам театр Сан-Карлино. Безвестные актеры на красочном неаполитанском наречии разыгрывали там народные комедии. Глинка следил за бесконечными похождениями Пульчинелло, приправленными сочным юмором и неисчерпаемым оптимизмом. Вдали от чужеземных и собственных властей народное искусство продолжало жить своей жизнью.
В Неаполе Глинка нашел наконец тех учителей пения для Иванова, которых до сих пор тщетно искал. Особенно пришелся ему по вкусу старый синьор Нозарри. На первом же уроке, прослушав Иванова, он сказал ему:
– Помните: сила голоса приобретается от упражнения, а раз утраченная нежность погибает навсегда.
Этому учителю Глинка мог поручить окончательную шлифовку драгоценного голоса Иванова. Он нашел наконец редкого мастера.
Слух о русском певце очень быстро разошелся по городу. Какой-то придворный живописец представил его королевскому двору. Иванову был назначен дебют в оперном театре.
– Ну-с? – спрашивал Глинку Николай Кузьмич. – Не говорил ли я вам, что только в Италии способны оценить талант?
– Вы, кажется, забываете, что первое признание получили на родине, – отвечал Глинка.
– На родине?! – возмутился Иванов. Он уже забыл все, что сделал для него Глинка. – Нет, Михаил Иванович, у каждого артиста есть одна родина – Италия.
– Стало быть, вы отрекаетесь от России?
– И буду счастлив, если мне перестанут о ней напоминать.
– Пропащий вы человек! – резко сказал Глинка.
– Как это понять?
– Очень просто, – объяснил Глинка. – Певец из вас выйдет, артист – никогда!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































