Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
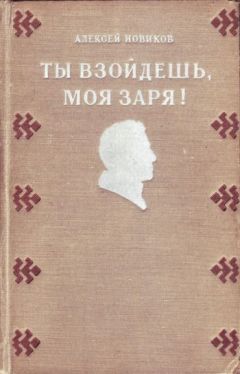
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 44 страниц)
Разочарованному Альсанду надлежало между тем влюбиться. Иначе решительно не знал бы сочинитель, что ему делать с молодым отшельником. Глинка дописал строку, поднял голову – перед ним стоял Римский-Корсак и с любопытством заглядывал в рукопись.
– Стой, – Глинка отодвинул лист. – Какое у тебя цветочное сочинение было? «Дева-фиалка»?
– «Дева-незабудка», – скромно поправил Корсак.
– Незабудка… – разочарованно протянул Глинка. – Не годится, надобны фиалки и туман.
Корсак пожал плечами и ушел. Глинка снова взялся за перо, и тогда явилась Альсанду героиня поэмы:
Близь клена Муза молодая,
Рукой склонясь на мшистый пень,
В тумане вся встречает день,
Фиалку в локон заплетая…
Итак, муза явилась, а сочинитель вдруг отдался воспоминаниям. Когда-то в тесном переулке на Мойке, где жила первая музыкантша столицы и куда так часто приходил юный пансионер Михаил Глинка, чей-то серебряный голос полонил чье-то одинокое сердце… И едва ожили перед автором поэмы эти картины, его перо снова понеслось по бумаге. Муза, покорная воле сочинителя, стала петь. О, как она пела! Песни ее, если верить сочинителю поэмы, были способны врачевать самые глубокие раны. Теперь не стоило никакого труда управиться с разочарованным Альсандом. К тому же и герой оказался предприимчив:
Свирель он вымолил потом
У девы доброй и прекрасной.
И часто после за холмом,
Незримый ею, голос страстный
Сливал с ее напевом он.
Оставалось только наслаждаться согласным дуэтом влюбленных, столь редким в жизни. Но не успели увянуть фиалки в венке у девы, не успел рассеяться туман, в который закутал ее поэт, а жестокая действительность уже вступила в свои права: поэмой завладел Римский-Корсак.
– Никак не думал, Мимоза, что так меня обнадежишь.
– И впредь не думай, – рассеянно отвечал Глинка, – ни обо мне, ни тем паче о себе.
– Об этом предоставь мне судить, – снизошел к новичку Корсак. – Только немедля разлучи влюбленных, предай их безутешному отчаянию – и печатай.
– То есть как печатать? – удивился Глинка. – Тут ничего нет, кроме романтического бреда, ни содержания, ни определительной мысли.
– Поэзия и не терпит мысли, а всякая определительность оскорбляет вдохновение…
– Однако втуне остались труды мои! – возмутился Глинка. – Пойми же, наконец, что всякий может кропать стихи, равно как каждый, едва набив руку в теории, может изготовлять музыкальные бирюльки! Но хватит мне с тобой возиться… Прости, должен заняться делом…
А что это за дело – сидеть и читать стихотворения Батюшкова! Да если бы еще действительно читать! Но перед титулярным советником давно раскрыта одна страница и на ней все те же строки:
О, память сердца, ты сильней
Рассудка памяти печальной,
И часто прелестью своей
Меня в стране пленяешь дальней…
Долго сидит Глинка над стихами, потом подходит к роялю:
О, память сердца!..
Забыт, совсем забыт несчастный Альсанд!
Но есть священная дружба на земле! Осиянный славою Александр Яковлевич Римский-Корсак не забыл о горестной участи незадачливого друга. Поэт вышел со двора, бережно неся пухлый портфель.
В одном из переулков, примыкавших к Литовской улице, он постучал у дверей одноэтажного дома и вскоре очутился в запущенной квартире. Пройдя через несколько комнат, набитых всяким хламом, он вошел в столь же неопрятный кабинет и оказался перед громоздким господином средних лет, который сидел за письменным столом. Господин, не отрываясь от занятий, вопросительно скосил глаз на посетителя.
– Имею честь предложить вам кое-что из поэм, преимущественно в элегическом роде, – бойко сказал, раскланиваясь, Корсак.
Хозяин попрежнему косил на него глазом, что не столько обозначало немой вопрос, сколько свидетельствовало о прирожденном недостатке редактора «Славянина» Александра Федоровича Воейкова.
– Именно и преимущественно в роде элегическом, – повторил Корсак.
Воейков молча протянул руку к портфелю посетителя.
– Не могу пожаловаться на равнодушие издателей, – говорил Корсак, разгружая портфель, – но, уважая вас и ваш журнал…
Во время этой речи Воейков с необыкновенной быстротой разобрал принесенные рукописи.
– Подойдет, – сказал он и положил на рукописи тяжелое пресспапье. – Разумеется, в том случае подойдет, если безденежно. Но где же платят за стихи? Не так ли, молодой человек?
– Конечно, – поспешно согласился Корсак, – я служу музам без корыстной цели.
– Хвалю, – бросил Воейков.
Он еще быстрее разобрал остатки рукописей и опять прихлопнул их пресспапье.
– Буду печатать по мере надобности. – Косой глаз Воейкова блеснул злорадством. – Случается, ищешь, ищешь, чем бы заткнуть дыру на странице, а здесь, надеюсь, богатый выбор. Прошу прощения, если нарушу смысл… Да кто же ищет в стихах смысла?
Издатель журнала протянул посетителю руку, давая знать, что аудиенция окончена.
– Но у меня есть еще кое-что, может быть, достойное вашего внимания, – вспомнил Корсак. – Хочу вручить вам по усердной просьбе начинающего моего приятеля.
Рука Воейкова, протянутая для рукопожатия, изменила направление и потянулась к рукописи.
– Пьеса страдает очевидными несовершенствами, – продолжал посетитель, – однако, может быть…
– Очень может быть! – Воейков быстро просматривал рукопись. – Кто таков автор? – продолжал он, не увидев под произведением подписи.
– Некто господин Глинка, так сказать вступающий на поприще…
– Не родня ли бессмертному певцу Федору Николаевичу Глинке, снабжающему нас беспошлинно и безданно? Или беззубому ратоборцу Сергею Николаевичу Глинке тож, однако не снабжающему нас ни безданно, ни беспошлинно и за то проклятому небом?
– Этот Глинка служит по ведомству путей сообщения и был доселе музыкантом, – прорвался наконец Корсак.
– А коль увидит свое чадо в печати, не устоит, – решил издатель «Славянина». – От этого яда еще никто не спасался. Пусть строчит.
– Стало быть, я могу передать сочинителю, что вы одобрили его несовершенный опыт?
– Да вы, батюшка, в уме? – язвительно осклабился Воейков. – Коли очередную книжку журнала заполнить нечем, так черта лысого и то одобришь. А Пушкины для нас, извините, дороговаты. По приятельству же когда урвешь… К тому же видно в «Альсанде» этакое, такое, некоторое… – Издатель «Славянина» неопределенно помахал в воздухе рукой и решительно протянул ее посетителю: – Будем знакомы – и прощайте!
Так решилась участь Альсанда. Вместо вольной жизни в зеленых дубравах, вместо сладостных встреч с певучей музой попал он под тяжелое пресспапье Александра Федоровича Воейкова, а потом перешел в руки типографщиков. «Альсанд» должен был явиться в свет в одной из ближайших книжек «Славянина».
Ничего столь же определенного нельзя было сказать о сочинителе поэмы. Не предчувствуя улыбки, которую готовилась подарить ему муза поэзии, Глинка аккуратно ходил в должность. По вечерам он начал ездить в филармонические собрания, происходившие в доме Энгельгардта, где когда-то жил дядюшка Иван Андреевич.
Исполнялся «Реквием» Моцарта. Глинка издали увидел в публике Анну Петровну Керн и рядом с ней Пушкина. Поэт, склонясь к Анне Петровне, что-то тихо ей говорил. Керн все еще отдавалась впечатлениям от музыки, и лицо ее было овеяно глубокой печалью. Впрочем, она стояла, доверчиво опершись на руку поэта, и в глазах ее, обращенных к спутнику, была нежность и тихая покорность. Когда поэт и Керн скрылись в вестибюле, даже сочинитель «Альсанда», случайно наблюдавший эту сцену, понял, что в жизни бывают положения более замысловатые, чем в самых романтических поэмах. Многоопытный титулярный советник еще в прежнюю встречу ощутил сердечное увлечение Пушкина. Теперь не оставалось и тени сомнения в ответных чувствах Анны Керн.
Вернувшись домой, Глинка сказал Корсаку:
– Можешь вообразить, кого я сейчас видел?
– Ну? – без всякого любопытства отозвался Корсак.
– Пушкина видел… понял?
– Ну, понял, – столь же безучастно подтвердил элегический поэт.
– Ничего ты не понял и никогда не поймешь. Что ты знаешь о предназначении гения? Ты, ремесленник, не осиливший даже азов своего ремесла?.. Или, может быть, такие тоже страшны?
Глинка снова вернулся к итальянскому квартету. Многие предвидения его сбылись. А беспокойная мысль неотступно влекла к новым поискам.
– Полюбуйтесь, Владимир Федорович, – говорил сочинитель забежавшему к нему Одоевскому.
Одоевский с любопытством рассматривал ноты.
– Ведь вы, Михаил Иванович, хотели разрабатывать русскую музыку?
– Всенепременно! – подтвердил Глинка. – Но надлежит вооружиться всеми знаниями, если хочешь доказать, что не все дороги ведут в Рим, ниже в Берлин или Париж. Да и те дороги более избиты, чем исхожены. Смею утверждать, что здесь и здесь, – Глинка указывал на ноты, – я против обычая пошел. – Глинка неожиданно сложил нотные листы. – Кстати, – сказал он, – закончил я на днях один романс. Хотите или не хотите, извольте слушать.
Он сел к роялю и вполголоса запел:
О, память сердца, ты сильней
Рассудка памяти печальной…
…В управлении путей сообщения чувствовалась предвесенняя горячка. Все чаще появлялись в канцелярии совета инженеры с дистанций. У титулярного советника Глинки прибавилось возни с бумагами, да вдобавок дружно приступили к нему старые хвори.
Едва дотащившись до дому, не прикоснувшись к обеду, он ложился на диван. Глинка не мог подняться, чтобы не испытать головокружения. И в этом кружении переплетались у него мысли о театре, о людях родной земли, об опере и о предназначении гения, творящего в художестве стремительную, никогда не останавливающуюся жизнь.
В начале марта 1828 года Глинка вернулся со службы раньше срока.
– Укладывай вещи, – сказал он Якову. – Едем домой!
– И давно бы так! – одобрил дядька. – Не живем, а мучаемся.
Рассудительный Яков утешал больного, а больной думал: что может помочь человеку в крайности? Не пилюли и не декокты, одна дорожная кибитка да путь к отчему дому. Неплохо завернуть на обратном пути и к старым друзьям в Москву.
В тот день, когда Глинка собрался ехать, с верков Петропавловской крепости грянули торжественным салютом пушки.
Столица вовсе не думала ознаменовать этим салютом отбытие в отпуск титулярного советника Михаила Глинки. Петербург встречал коллежского советника Александра Грибоедова, ехавшего с Кавказа с победоносным Туркманчайским миром, завершившим войну России с Персией.
Было, конечно, странно, что ухали и ревели пушки, приветствуя въезд в столицу автора запретной комедии о Чацком. И салютовали ему пушки с верков той самой Петропавловской крепости, казематы которой были предназначены для дерзких и беспокойных сочинителей… Но кто предугадает тернистые пути, ведущие к славе?
Москва! Москва!..
Глава перваяОт всех двенадцати застав тянутся в Москву обозы, скрипят тяжело груженные сани, везут мужики снедь и прочее, что положено дворянину по закону. Медленно идут подле лошаденок обозные, плечом подпирая сани на ухабах, а на мужиков, загородивших дорогу, надрываясь, кричат барские кучера. Господская жизнь тоже, поди, не легка: один в вотчину за оброком ездил, другой с продажей холопов упарился, третий всю ночь цыганок слушал – дай бог хоть к утру домой поспеть! Вот и летят к Москве кареты да сани, а меж них вдруг замешается летняя коляска. Зима уже повстречалась с весной у московских застав, но ходу в город весне еще нет. Разве испортит кое-где дорогу озорница да соберет на перекрестке досужих баб. Бабы от солнца млеют, смотрят из-под руки вдоль улицы: недолго весне у застав стоять, она и без подорожной в город въедет.
Еще больше прибывает народу на московских улицах и в переулках. А над городом плывет колокольный звон. Грянуть бы колоколам красным вешним звоном, да нельзя! Идет великий пост…
А солнышко знай себе плещется в веселых лужицах: потягаемся, колокола, у кого силы больше?
Много соблазнов на улицах Москвы. В Охотном ряду соловьиными голосами заливаются пирожники и сбитенщики; на Сухаревке, на бульварах рябит в глазах от красного товара. Шла по Новинскому бульвару молодуха и тоже загляделась: этакие виды! И метнула глазом на почтовый возок. Седок в нем не так чтобы очень видный, а все-таки ничего. Куда же он в такую рань едет и откуда?
А возок взял да и привернул к соседнему особняку. Приезжий быстро выскочил на мостки, взбежал на высокое крыльцо и стал звонить. Видя такие события, вокруг возка мигом столпились любопытные.
– Никак к Мельгуновым господам?
– Надо быть, к ним.
Приезжий все еще звонил. Наконец парадная дверь открылась. Оттуда выглянул сонный лакей, потом скрылся, снова выбежал, а за ним появился на крыльце молодой человек в шлафроке. Он с ходу заключил приезжего в объятия.
– Мимоза! – кричал он. – Наконец-то свиделись!
– Однако, Николаша, негоже всю Москву у подъезда собирать, – отвечал Михаил Глинка. – Может быть, дашь приют скитальцу?
Тогда молодой человек в шлафроке взмахнул руками, метнулся зачем-то к возку, но, ступив в лужу, опомнился и повел гостя в дом.
Глинка мылся и переодевался с дороги, а перед ним носился, как в школьные дни, бывший пансионский товарищ по прозвищу Сен-Пьер. Только состоял ныне Николай Александрович в должности актуариуса Московского архива министерства иностранных дел да успел завести жиденькую бородку.
– Я писал тебе, Мимоза, – вдруг вспомнил за завтраком актуариус.
– Ничего ты не писал. Вот уже полгода не писал, – перебил Глинка. – Забился в Москве, как мышь в норе.
– Как так не писал? – удивился Мельгунов. – Неужто не писал? Это я, стало быть, нашему Медведю писал; точно, ему… Я, Глинушка, прошлым летом славное путешествие предпринял. Ранее по заграницам фланировал, а теперь любезное отечество объездил. Добрался до Украины, а там к Маркевичу, в его берлогу, завернул.
– Каков он ныне, Медведь?
– По монастырям рыщет, древние рукописи собирает – будет писать историю возлюбленной своей Украины. И столько накопал, что, пожалуй, и впрямь в ученые мужи выйдет. А еще песни собирает… Вот тебе и Медведь!
– Никогда в нем не сомневался. Ну, а ты?
– А я, брат, Россию изучал. Нельзя на родине гостем жить. Одна беда – людей нет. Сколько ни ездил, всюду пьянство, разбой, карты. Один Медведь по-людски живет.
– Есть и ныне просвещенные люди, – возразил Глинка, – только затаились. И как не затаиться, если образованность идет сейчас в первую улику!
– Вот-вот! Я ведь тоже хотел мир осчастливить. Свобода! Разум! Любовь!.. А теперь состою в архивных юношах и разбираю древние столбцы. – Мельгунов задумался, потом вскочил. – А как бы хорошо открыть всеобщую библиотеку в Москве! – Он растерянно взглянул на часы. – Никак мне в архив пора? А может быть, прикажешь подать свежего чаю?
– Нечего зря чаи гонять. Отправляйся в должность, а я сосну с дороги. Почитай, с Новоспасского до Москвы не спал.
– И то, – согласился Мельгунов, – отдыхай, а я мигом назад буду: у нас вольготно. И, представь себе, никогда раньше не предполагал, что кроется в древности нашей столько ума и мысли…
– Ты, кажется, в должность собирался, – напомнил Глинка.
– Черт с ней, успею. Надо тебе хоть самое главное сообщить. Ты наш «Московский вестник» читывал?
Глинка утвердительно кивнул головой.
– Думали мир перевернуть: просвещение народа и самопознание! Шампанского на журнальных крестинах бессчетно выпили… А получается, кажись, пустое…
– Ты еще и книгу перевел?
– Да! Да! – оживился Мельгунов. – Я давно ее для тебя отложил, да не было оказии послать. Изволь принять на память.
– Спасибо! Мне уже довелось читать. – Глинка взял книгу и громко прочел заголовок: – «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника – любителя изящного». А где тут твои труды? Впрочем, сам тебе скажу: «Чудеса музыки»! Так и вижу в этом разделе твое волшебное перо. Угадал?
– Прикинь мне еще и эту капитальную главу – «О всеобщности, терпимости и любви к ближнему в искусстве».
– Читал, – откликнулся Глинка. – И умно и туманно.
– Насчет тумана ты совсем зря, – не то огорчился, не то озадачился Мельгунов. – Неужто ты против романтизма?
– О нем, если соизволишь, речь будет впереди, – уклонился Глинка. – Думаю, впрочем, что каждый актуариус, даже приверженный к романтизму, должен являться к должности в положенное время.
– Успею! – отмахнулся Мельгунов. – Но как смеешь ты хулить святыню романтизма?!
– Только не пугай, сделай милость, – шутливо поклонился Глинка. – Сколько я ни слыхал, романтизм каждый по-своему понимает. Бьюсь об заклад, ты тоже не объяснишь.
– Великая любовь к человечеству и освобождение личности начертаны на нашем знамени!
– Когда вы этак о любви к человечеству кричите, – спокойно отвечал Глинка, – меня одно удивляет: почему же вы людей не примечаете? Вот ты чуть не всю Россию объездил, а людей не нашел. Не потому ли, что парил в небесах и человечеством бредил?..
В комнату вошел лакей.
– Николай Александрович, кучер спрашивает: прикажете ждать или откладывать лошадей?
– Я ему дам откладывать! – вскричал Мельгунов. – Вечно помешают с глупостями… – продолжал он с досадой после ухода лакея.
Глинка сочувственно вздохнул.
– И впрямь, Сен-Пьер, мы с тобой еще романтизма как следует не разобрали, а кучер отпрягать хочет… Но если не кучера, то хоть лошадей уважь. А я высплюсь с дороги…
– Нет, ты мне раньше ответь: чем тебе наш перевод не угодил? А знаешь ли ты, что это и есть евангелие романтизма?
– Очень может быть, – согласился Глинка, – однако евангелистам на слово я тоже не верю. Одно заглавие чего стоит: «Чудеса музыки»! Эх, вы, чудотворцы! – Глинка отошел подальше от Мельгунова. – А я тебе так скажу: не чудеса ваши создают музыку, но прежде всего мысль, знания, опыт и расчет, без которых ничто любой талант.
– А вдохновение? – вопрошал Мельгунов, следуя по пятам за Глинкой. – Отрицая вдохновение, ты и артиста низведешь до чина счетного чиновника?
– Нимало, – отвечал Глинка. – Но что вы о вдохновении вещаете? Читал, помню: божественное откровение избраннику и, так сказать, религиозный экстаз…
– И на том буду стоять! – кричал, стуча по столу, Сен-Пьер.
– А я тебе отвечу, – спокойно продолжал Глинка. – Божественного вдохновения вашего умом постичь не умею. Но если я законов контрапункта не знаю или соображением пренебрегу, тогда будет чепуха вместо музыки. А бесталанный сочинитель непременно за божественный экстаз ухватится: мне, мол, откровение свыше было, вот и попробуйте, милостивые государи, мое божественное произведение хаять… Эх вы, романтики! На неметчину паломничаете, клянчите взаймы премудрости, а потом и кричите: «Ох, трудно быть русским!»
– А разве тебе легко сейчас жить?
– Совсем нелегко, – признался Глинка. – Вот и ты, странствуя, тоже не нашел героев?
– Каких героев? – удивился Мельгунов. – Как же родиться герою в застойном болоте…
– Или в архивной пыли, – перебил Глинка. – А не будешь искать героев, так и не найдешь. Глянь-ка на народ, да не на лубочных картинах, не через умильные стихи…
– Значит, и Пушкина «Деревня» тебе тоже не годится?
– Для пробуждения совести нашей очень та «Деревня» надобна, – ответил Глинка, – но для познания духа народного есть и другое у поэта.
– Ты сам только что из деревни. Как там мужики живут?
– С мякиной пополам, однакоже не хлебают лаптем щей.
– Истинный сфинкс наш народ! – умилился Мельгунов.
– Это вы ему согласно правил романтизма такой титул прописали?
– А скажешь, не так? Слыхал Пушкина трагедию о царе Борисе? Царь царем, но даже недальновидному уму ясно, что сочинитель разумеет первым действующим лицом истории народ. И что же? Когда свершаются судьбы государства, тогда безмолвствует народ или юродствует христа ради – и это в трагедии со всей наглядностью показано.. Ну как же не сфинкс? Первый поэт России тоже не знает, чего хочет этот сфинкс, и что таит в себе народное безмолвие!
– Пушкин в том смысле прав, что от века нудят народ молчать. Опять же на то и сметка ему дана, чтобы в лапы начальству как кур во щи не попался. Когда же захочет мужик, все свои чаяния лучше нас с тобой изъявит… Ты, Николаша, – закончил Глинка, – целый трактат о музыке перевел и сфинкса за хвост держишь, тебе, конечно, недосуг, а будет время – глянь с романтических высот в гущу жизни.
– А ты, Мимоза, много насочинял?
– Может быть, и много, да неладно. Истинную музыку я только умом предвосхищаю, а ходить по той дороге не умею…
– Так играй же скорее! – Мельгунов открыл крышку рояля.
Глинка посмотрел на часы и рассмеялся.
– Милый ты мой, – сказал он, обнимая суматошного друга, – не подобает ли и актуариусу блюсти время?
Мельгунов завертелся волчком по комнате, собирая бумаги.
– Мне бы только наших застать, – говорил он, поспешно переодеваясь. – Мигом назад буду!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































