Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
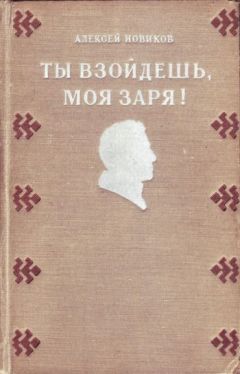
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 41 (всего у книги 44 страниц)
Первого ноября Пушкин читал у Вяземских «Капитанскую дочку». При всей противоречивости мнений, присутствовавшие сошлись на одном: в словесности готовилось событие чрезвычайное. А через три дня события совсем неожиданные произошли в доме поэта.
Поутру Пушкин занимался в кабинете. Слуга подал полученные по городской почте письма. Пушкин вскрыл конверт и в недоумении стал читать: неведомые авторы пасквиля причисляли Александра Сергеевича Пушкина к ордену рогоносцев и в удостоверение слали ему замысловато составленный патент. Впрочем, гнусный смысл пасквиля был ясен. В патенте был назван гроссмейстер ордена рогоносцев пресловутый Нарышкин, официальный муж официальной любовницы Александра Первого. Пасквилянты, причисляя Пушкина к тому же ордену, намекали на отношения Николая к жене поэта.
Пушкин знал, что это гнусная клевета на его жену. А д'Антес? Счастливая его внешность, несчастная страсть и двухлетнее постоянство не были безразличны Наталье Николаевне.
Произошло тяжелое объяснение с женой. Пушкин знал, что ему делать.
В первую очередь надо было покончить с двусмысленными благодеяниями венценосца. За Пушкиным числилась государственная ссуда на издание сочинений. Поэт отправил письмо министру финансов: он отдавал в казну в немедленное погашение ссуды все свое имение.
«Осмеливаюсь утрудить ваше сиятельство, – писал поэт, – еще одною, важною для меня просьбою. Так как это дело весьма малозначуще, и может войти в круг обыкновенного действия, то убедительнейше прошу Ваше сиятельство не доводить оного до сведения государя императора, который, вероятно, по своему великодушию, не захочет таковой уплаты (хотя оная мне вовсе не тягостна), а может быть и прикажет простить мне мой долг, что поставило бы меня в весьма тяжелое и затруднительное положение: ибо я в таком случае был бы принужден отказаться от царской милости, что и может показаться неприличием, напрасной хвастливостью и даже неблагодарностию».
Далее оставалось разделаться с д'Антесом. К этому времени бывший французский шуан успел стать приемным сыном голландского посланника при русском дворе барона Геккерена. Этот старый контрабандист, развратник и сводник составил достойную пару с благоприобретенным приемышем. Геккерена и заподозрил Пушкин в изобретении пасквиля. К д'Антесу пошел письменный вызов на дуэль. Вызов попал в руки старого Геккерена. А через сорок восемь часов после отправки вызова поэт узнал, к величайшему своему удивлению, что молодой д'Антес-Геккерен стоит вне всяких подозрений в своих отношениях к Наталье Николаевне: он, оказывается, влюблен в ее сестру Екатерину Гончарову и готов просить ее руки. Единственное препятствие к свадьбе – вызов Пушкина.
Пораженный низостью противника, поэт готов был взять обратно свой вызов с непременной ссылкой на дошедшее до него известие о предстоящей помолвке. Но такая ссылка была бы пощечиной д'Антесу. В движение пришли покровительницы Натальи Николаевны, друзья и мнимые доброжелатели поэта. Наталья Николаевна совещалась с сестрами. Она готова была отдать своего поклонника влюбленной до беспамятства Екатерине.
Но Пушкин стоял на своем. Старый Геккерен дважды приезжал к поэту, умоляя об отсрочке дуэли. Он просил неделю срока. Пушкин великодушно предоставил ему две недели. Но здесь сам д'Антес попробовал нагло продиктовать Пушкину свои условия. Взбешенный поэт повторил вызов на дуэль. Секунданты уже приступили к совещанию. По их предложению, Пушкин снова написал письмо, в котором готов был взять вызов обратно, однако по тем же мотивам: вследствие дошедших сведений о женитьбе д'Антеса на его свояченице.
Секунданты, уладив дело, приехали к Пушкину во время обеда. Выслушав их, он вернулся в столовую и сказал Екатерине Николаевне:
– Поздравляю тебя, ты объявлена невестой!
Екатерина Николаевна, будучи не в силах владеть собой, убежала из столовой. За нею последовала Наталья Николаевна. Пушкин проводил жену долгим взглядом.
Помолвка была объявлена официально. Счастливый жених слал письма Пушкину, предлагая дружбу. Пушкин возвращал письма нераспечатанными.
Дом поэта превратился в модную лавку. Наталья Николаевна занялась приготовлением приданого для сестры. Сестры старались поделить любовь Жоржа д'Антеса и мучили друг друга великодушием и ревностью. Трагедия готова была обернуться свадебным фарсом. В великосветских гостиных злорадно шушукались и чего-то ждали. Пушкин проводил время за работой. Темные силы, нанесшие ему удар из-за угла, еще не достигли вожделенного результата.
А читатели очередной книжки «Современника» с жадностью набросились на «Капитанскую дочку».
Заревом грозного пожарища полыхают страницы романа. Перед неодолимой силой повстанцев падают, как карточные домики, царские крепости. В словесности воскрес для новой жизни Емельян Пугачев. То блеснет лукавым глазом, то засветится в этих глазах мужицкий ум, то расскажет он замысловатую присказку, а в присказке раскроется вольная, как птица, душа… «Эх, улица моя тесна!» – молвит и крепко задумается Пугачев. А к нему для борьбы против ненавистных бар стекаются новые несметные толпы. Горят, полыхают, как факелы, помещичьи усадьбы.
Прочтет этот роман читатель и, перелистывая страницы, скажет: «Так вот каковы были времена! Вот как рванулся на волю народ, только не мог порвать вековечных цепей». А иной, закрыв книгу, повторит вслед за поэтом: «Выходит, весь черный народ был за Пугачева?» Слов этих нет, конечно, ни в «Истории Пугачева», ни в «Капитанской дочке». Но не о том ли говорят картины, начертанные верной и смелой кистью?
В конце романа является и сама матушка царица. Та самая Екатерина Вторая, которую Пушкин окрестил Тартюфом в юбке. Екатерина появляется в романе, чтобы оказать милость. Авось на эту приманку клюнет цензура. Но разве не увидит русский человек, исстари привыкший читать книги, написанные эзоповым языком, что матушка царица готова оказать милость только дворянину, временно, случайно, но отнюдь не по убеждению оказавшемуся среди пугачевцев? И разве не вспомнит читатель пловучие виселицы, сооруженные по царскому указу? Заблудшему дворянину – монаршая милость; народу – плеть и дыба, пеньковая петля да топор палача.
Эзопов язык приобретал полную ясность для понимающего читателя. А расчет поэта оказался безошибочным. Роман о Пугачеве увидел свет. В Петербурге тотчас поднялись разные толки. Этот шум был тем более понятен, что Пушкин выступал с крупным произведением после долгого перерыва. Куда же пойдет теперь мятежный поэт? Для многих высокопоставленных персон, зорко следивших за деятельностью Пушкина, «Капитанская дочка» давала недвусмысленный ответ. В то время, когда российская словесность заключала нерушимый союз с монархом в творениях Загоскина, Булгарина и Кукольника, Пушкин упорно коснел в якобинстве. Оставалось только дивиться его дерзости. Как ни искореняй крамолу, опять нашелся пугачевец и подстрекает к бунту. Многие с ужасом взывали: «Когда же избавимся от этих мужиков? Ныне Пушкин, для полноты картины, тащит в литературу и башкир и киргизов. Вот до чего пала изящная словесность! Неужто же быть ей, по воле Пушкина, мужицкой шлюхой?»
В высших сферах с пеной у рта кричал о подстрекательстве к революции министр просвещения граф Уваров. Впрочем, он был совсем не одинок.
В кругах, близких к поэту, спорили о сущности исторического романа. Опять – и, конечно, в похвалу – сравнивали Александра Сергеевича с Вальтер Скоттом, словно можно описать русскую жизнь, русские характеры, русскую крестьянскую революцию по рецептам, вычитанным у аглицкого чародея. Говорили и о степени сочувствия поэта бунтующей черни. Это сочувствие не укрылось от многих. Даже друзья принимали беспристрастную правду, начертанную поэтом, за личные его взгляды. У многих рождалось серьезное недоумение: как может Пушкин, принадлежа к просвещенному классу, живописать преступника, проклятого богом и людьми?
Роман стал злобою дня. Такие же тревожные слухи шли из театра. Все чаще и настойчивее говорили о том, будто и в опере происходит то же самое, что в словесности: изящные, приятные слуху мелодии будут и там вытеснены мужицкими песнями.
Но многие, наслушавшись о засилье мужицких песен в опере Глинки, оставались в полном недоумении: говорят, что именно эту мужицкую оперу одобрил сам государь.
Спрашивали у Виельгорского: какова же в самом деле эта неведомая музыка? Михаил Юрьевич пускался по обыкновению в музыкальные тонкости: выдающееся мастерство, хотя во многом и дерзкое…
– А правда ли насчет мужицких песен?
– Но почему бы и не быть этим песням в русской опере? – отвечал граф. – На каком же языке, как не на своем собственном, хотя бы и был он грубоват, выразить русским людям любовь и преданность престолу?
Михаил Юрьевич снова пускался в рассуждения, предназначенные для музыкантов: толковал о дерзости гармонии, о поразительной звучности и прозрачности оркестра. Но коли сел Михаил Юрьевич на музыкального конька, не скоро добьешься от него толку.
Разговоры о новой опере возникали и на собраниях у Жуковского. Поэт спокойно выслушивал разные мнения, а когда его засыпали докучливыми вопросами, отвечал медлительно, попыхивая неразлучной трубкой:
– Мне известно, что государь император одобрил поэму оперы, составленную бароном Розеном. – Василий Андреевич выжидал, пока общее любопытство не достигало высшей точки. – Но мне положительно ничего не известно о том, – продолжал он, – что государь император высказал какое-либо мнение о музыке. – Жуковский считал разговор оконченным. О музыке он предоставлял судить музыкантам.
В театре шли последние репетиции. Катерино Альбертовичу Кавосу все еще плохо давался эпилог: хоры на сцене и оркестр, а в оркестре еще колокола, – и все это сливается в такой мощный, такой стремительный поток, что в нем буквально тонет престарелый маэстро. А автор оперы присутствует на каждой репетиции и неизменно требует, чтобы со всей отчетливостью прозвучал каждый голос, каждый инструмент. Он то и дело останавливает оркестр и, горячась все больше и больше, повторяет любимое словечко: «Не зевать!»
В перерывах между репетициями Глинка прочитал «Капитанскую дочку». Окончил роман на рассвете. Отчетливо вспомнился недавний разговор с Пушкиным о внутренней связи героев, представленных в романе и опере.
Глинка снова сел к столу и перечитал сцену в стане пугачевцев, где люди, обреченные на гибель, запевают широкую, полную тоски и внутренней силы песню: «Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка».
Вероятно, еще никто так не пользовался песней в словесности, чтоб представить русский характер. Вероятно, еще никто не писал с такой любовью и сочувствием о «разбойничьих» напевах. Пушкин разглядел в них самую суть – вековечную и вольнолюбивую народную мечту. Поразительно, как сошлись дороги поэта и музыканта. Недаром же и последние, предсмертные слова Сусанина будет сопровождать в оркестре песня народной вольницы. Пусть другая песня – смысл один.
О самом Пушкине до Глинки доходили смутные, тревожные слухи. И Виельгорский и Одоевский глухо говорили о семейной драме. Никто из них не знал о последних шагах, предпринятых поэтом. Убежденный в том, что автором пасквиля является голландский посланник Геккерен, то есть лицо, аккредитованное при русском правительстве, поэт сообщил об этом Бенкендорфу.
Коротко изложив факты, Пушкин писал: «…я удостоверился, что безыменное письмо исходило от господина Геккерена, о чем полагаю своим долгом довести до сведения правительства и общества».
Письмо привело к неожиданному результату: через день поэт был принят царем.
Это было 23 ноября 1836 года. Прошло десять лет с тех пор, как Николай принимал Пушкина в московском дворце после коронации. С тех пор отношение монарха достаточно определилось. Его ненависть к поэту питалась тайным страхом. Даже он, самодержец всероссийский, понимал, что за Пушкиным стоят силы, с которыми не совладают все держиморды Российской империи. С Пушкиным надо было вести тонкую игру. Правда, эта игра, кажется, уже шла к желанному концу.
Пушкин, полный негодования, излагал историю подметных писем, вышедших, по его мнению, из голландского посольства. Царь сочувственно слушал. Его величеству отрадно было убедиться, что разъяренный муж прелестной Натали не придает, повидимому, значения его собственным с ней заигрываниям. Глядя на гневного Пушкина, Николай Павлович даже порадовался, что был так медлителен в этой истории.
– Возмутительно! – сказал Николай, выслушав поэта. – Немедленно расследовать жалобу на барона Геккерена! – приказал он Бенкендорфу, присутствовавшему на свидании. – Но до тех пор, – снова обратился император к Пушкину, – беру с тебя слово, что ты ничего не предпримешь без моего ведома.
Аудиенция была окончена. Пушкин удалился.
Николай молча ходил по кабинету. Бенкендорф ждал.
– Не кончится все это добром, – сказал император, остановясь перед верным слугой. – Твое мнение?
– Не кончится, ваше императорское величество, – охотно подтвердил шеф жандармов.
Высочайшая директива не требовала дальнейших разъяснений. Бенкендорф наблюдал за монархом. Встревоженный письмом поэта, Николай явно успокоился после приема Пушкина. Но шеф жандармов имел все основания думать, что перепуганный венценосец оставит наконец свою интригу с госпожой Пушкиной. Это амурное дело с самого начала тревожило графа Бенкендорфа.
Император попрежнему расхаживал по кабинету. По-видимому, он еще не все высказал.
– Кстати, – сказал Николай, – писал Пушкин графу Канкрину, желая немедленно уплатить ссуду… Не следует допускать, однако, никаких экстраординарных действий, которые могли бы дать пищу толкам.
…Вернувшись из дворца, Пушкин получил ответное письмо от министра финансов. В официально-вежливой форме граф Канкрин сообщал, что он считает неудобным приобретение в казну помещичьих имений. Во всяком подобном случае, продолжал министр, нужно испрашивать высочайшего повеления.
Пушкина снова адресовали к царю. И самый отказ в приеме имения, давно заложенного и перезаложенного, можно было рассматривать как новый великодушный жест. У Пушкина было заложено не только имение – в заклад шло столовое серебро и даже шали Натальи Николаевны.
Но шитье приданого для Екатерины Николаевны продолжалось. Ее жених возобновил встречи с Натальей Николаевной по праву будущего свойства. Наталья Николаевна в свою очередь дорогой ценой покупала эти невинные встречи. Пушкин, оскорбленный и смущенный поворотом событий, наблюдал.
В эти дни в городе появились афиши: «27 ноября 1836 года на Большом театре для открытия после перестройки российскими придворными актерами представлено будет в первый раз: «Жизнь за царя», оригинальная большая опера в трех действиях, с эпилогом, хорами и танцами; слова сочинения барона Е.Ф. Розена; музыка М.И. Глинки…»
Накануне премьеры состоялась генеральная репетиция. Театр, готовый к открытию, блистал роскошью отделки. Глядя на зрительный зал, можно было подумать, что назначена не репетиция, а спектакль. Партер и ярусы были набиты до отказа. Правда, в партере не было блистательной публики премьер. В театре присутствовали завсегдатаи, артисты, журналисты… Разговоры о предстоящем представлении давно ходили по всему городу. К опере проявили неожиданный интерес разные люди, даже те, которые редко бывали в театре. На этот раз жаждущие осаждали дирекцию, солистов, каждого хориста и последнюю фигурантку. Теперь воочию сказалась популярность Глинки, о которой трудно было и подозревать. Разве достанешь билет на этакий спектакль, когда давным-давно все расписано? Нужно было иметь или театральное знакомство, или особое счастье и ловкость, чтобы попасть на генеральную репетицию.
Зал имел необычный вид. С любопытством ожидали появления автора, но репетиция началась, а Глинка так и не приехал. Он почти заболел от волнения.
В эти часы прошла перед глазами вся жизнь. Вспомнилась и нянька Авдотья Ивановна, которая привела его в песенное царство, и давние, сказанные ей слова: «Хочу, нянька, чтобы от песен вся музыка пошла!» Теперь свершилось. Ученая музыка обрела родной язык, на котором можно полно и достойно говорить о народе. И нет проще, прекраснее, величественнее этого языка!
…В театре еще продолжалась генеральная репетиция. Публика собралась на нее не из великосветских особняков. На репетицию пришли чиновники-разночинцы, студенты-любители и непризнанные художники. Эта публика, объединенная любовью к родным напевам, вела себя небывало. Во время действия редко кто перекидывался словом. В антрактах не было споров. Владимир Федорович Одоевский каждый антракт поднимался в ярусы и внимательно наблюдал. Исполняются самые смелые его мечты: люди пришли на праздник и всей душой в этом празднике участвуют.
Вернувшись из театра, Одоевский заперся в кабинете. Он не мог никого видеть. Не поехал даже к Глинке. Сидел и писал ему письмо. Владимир Федорович предрекал опере успех полный, совершенный. Наступает день, который откроет новую эру. Все ранее созданное отходит в прошлое. Все пойдет по новому пути.
Владимир Федорович быстро написал письмо, позвонил и приказал лакею скакать опрометью в Фонарный переулок. А сам снова взялся за перо. Надо было готовить статью об «Иване Сусанине» для печати. И снова надо было торопиться.
Одоевский всю свою жизнь возился с изобретениями и открытиями в химии, в акустике, в теории музыки. Сегодня ему было суждено одному из первых, громко и с полным знанием дела, со страстной любовью к родным напевам, сообщить публике о рождении гения русской музыки.
Тщетно приходила в кабинет княгиня, чтобы вернуть мужа к неотложным светским обязанностям.
– Занят! Чрезвычайно занят! – с каким-то отчаянием восклицал Одоевский. – Если бы вы знали, как я занят!
Княгиня пожала плечами и удалилась. Одоевский подвинул поближе чернильницу, положил перед собой лист бумаги и закрыл глаза. Перед ним ожил театральный зал, переполненный публикой. Снова зазвучали аплодисменты, от которых, казалось, разрывался воздух.
«Опера Глинки, – писал Одоевский, – явилась у нас просто, как будто неожиданно; об ней не предупреждали нас журнальные похвалы, не приготовляли нас к восторгу рассказами о всех подробностях репетиций, об изумлении знатоков, о восхищении целой Европы, словом о всех тех обстоятельствах, которые часто против воли заставляют нас хлопать изо всей силы, чтобы не показаться варварами…»
Владимир Федорович отложил перо. Было так отрадно вспомнить еще раз все, что пережил он на репетиции. Кто же они, эти неведомые люди, сумевшие сердцем постигнуть смысл и величие Глинки, без всяких указок? Он снова принялся писать.
«Но как выразить удивление истинных любителей музыки, когда они, с первого акта, уверились, что этою оперою решался вопрос важный для искусства вообще и для русского искусства в особенности, а именно: существование русской оперы, русской музыки…»
Автора не покидало приподнятое настроение, которое он унес с собой из театра. Владимир Федорович чувствовал, что сегодня он выражает не только собственные мысли. На репетиции присутствовала удивительная публика! Статья писалась легко и радостно. Каждое слово в ней дышало верой и торжеством.
В увлечении Владимир Федорович совсем забыл, что на премьеру съедется другая публика. Впрочем, сейчас ему не хотелось думать ни о сановной знати, ни о тех великосветских меломанах с лорнетами в руках, которые завтра будут судить творение Глинки.
Глава шестая– Пора ехать, Мишель! Тебе надо заранее показаться публике.
– Еще успеем, Мари.
Глинка рассеянно оглядывает жену. Марья Петровна готова к выезду: в этот ненастный ноябрьский день живые цветы в прическе и у корсажа еще больше подчеркивают ее вешнюю красоту. А ехать в театр, пожалуй, действительно пора. Оперу начнут ровно в семь часов вечера. Но автор «Ивана Сусанина» цепляется за последнюю отсрочку.
– Еще успеем, друг мой, – повторяет Глинка. – Если бы мне можно было совсем не ехать… Право, боюсь, что сердце не справится с тревогами.
– Но чего же волноваться? Всем известно, что государь одобрил оперу.
– Государь знает о моей музыке столько же, сколько ты. Ан нет, вру: еще меньше! Но не в том дело. На афишке мое имя стоит рядом с бароновым. Поймут ли добрые люди всю тягость этого невольного соседства?
Глинка снова забегал по комнате. Марья Петровна спокойно наблюдала.
– Боже мой! – вскричала она. – В каком состоянии твой галстук!
Горничная доложила, что карета подана. Истекла последняя отсрочка.
У театральных подъездов висели знакомые афиши. Выходя из кареты, Глинка еще раз прочел при свете фонарей: «Жизнь за царя». Казалось, чья-то рука нагло перечеркивает его труд и утверждает собственную волю.
Съезд уже начался. Вереницы щегольских экипажей заполняли площадь. У входных дверей толпились зрители, направлявшиеся в верхние ярусы. У бокового императорского подъезда суетилась конная и пешая полиция.
Не заходя на сцену, Глинка провел Марью Петровну в отведенную ему ложу второго яруса и здесь попал в объятия полковника Стунеева. Пока Марья Петровна занимала место рядом со старшей сестрой, Алексей Степанович пенял Глинке за опоздание. Подумать только! Публика до сих пор не могла увидеть сочинителя оперы!
Полковник чуть не силком подвел Глинку к барьеру ложи. Глинка оглядел зал. Партер сверкал военными мундирами и звездами сановников. В нижних ложах расположились дамы аристократического общества. Спектакль начинался в необыкновенно парадной обстановке. Глинка поискал кого-то глазами в креслах и, не найдя, быстро отошел к заднему стулу. Чтобы скрыться от любопытных глаз, он задернул боковую бархатную портьеру.
Театр все еще наполнялся, хотя в верхних ярусах давно не было ни одного свободного места.
Музыканты занимались настройкой инструментов. Музы, расположась на плафоне, слали вниз привычные рассеянные улыбки. Сама Мельпомена, устыдившись ветхого рубища, облекла свой храм в золото и бархат. Музы, беспечно кружась в надзвездной высоте, терпеливо ждали выхода в оркестр своего бессменного любимца. Но Катерино Альбертович Кавос, всегда точный, как брегет, сегодня медлил стать к пульту дирижера.
Глинка еще раз нетерпеливо выглянул из-за портьеры в зал и радостно улыбнулся: по центральному проходу быстро шел к своему месту Пушкин.
Пушкин! Это имя пронеслось по театру и отдалось восторгом в верхних ярусах. Пушкин! Из аристократических лож сотни злобных глаз следили за поэтом. Пушкин! Знатные дамы наставляли на него лорнеты: в свете рассказывали о нем такие ужасы!
Поэт дошел до одиннадцатого ряда и занял крайнее кресло. Автор народного романа «Капитанская дочка» пришел приветствовать автора народной оперы «Иван Сусанин». Ничто не могло помешать поэту в его общественном служении.
Музыканты давно кончили настройку инструментов, давно окончились последние приготовления на сцене, но спектакля все еще не начинали. В вестибюле императорского подъезда стоял директор театров, окруженный свитой чиновников. С площади послышался шум. Директору едва успели подать условный знак – к подъезду мчалось несколько придворных карет.
Император быстро вошел в вестибюль, окинул шинель. Императрица вместе с великой княжной задержались у зеркала. Николай Павлович подошел к жене и повел ее в миниатюрную гостиную, служившую аванложей. Брат царя, великий князь Михаил Павлович, следовал за августейшей четой. Император занял в гостиной угловое кресло и одним ухом слушал доклад директора театров. Звеня шпорами, вошел Бенкендорф. Глядя на директора, он чуть заметно ему кивнул.
– Ваше величество, – торжественно начал Гедеонов, – артисты ждут всемилостивейшего разрешения к началу спектакля.
– Начинай, – ответил царь.
Гедеонов опрометью понесся за кулисы. Бенкендорф ушел обратно в зрительный зал. Император помедлил еще и открыл дверь в ложу. В полутьме, объявшей зрительный зал, царь сел к барьеру, положив на бархат обе руки. Императрица заняла соседнее кресло. Возле великой княжны расположились придворные чины и дамы.
И тогда за дирижерский пульт встал наконец Катерино Альбертович Кавос. На партитуре, которая лежала перед ним, было выведено черным по белому: «Жизнь за царя». И сам Катерино Альбертович готов был сделать все, чтобы для царя, о царе пели артисты и играл оркестр. А музыка начала величавую быль о народе. Новая эра в искусстве открылась!
Император, прислушиваясь к хорам костромских мужиков, благосклонно внимал словам, написанным угодливым остзейским поэтом. Николай Павлович мог запретить любое произведение вольнодумца Пушкина, он мог распорядиться, чтобы комедию Гоголя играли как потешный фарс, но он не мог остановить движения русской литературы. И теперь, сидя в театре, император от души наслаждался виршами Розена, а музыка Глинки творила то же народное дело, что слово Пушкина и Гоголя.
Царица сидела рядом с мужем и порой улыбалась. Эта улыбка должна была отразить ее сочувствие к происходящему на сцене. Однако бывшая немецкая принцесса плохо знала русский язык и улыбалась невпопад. Еще меньше она понимала в этой музыке. На сцене пели мужики и бабы. Кто назвал это оперой? Впрочем, у русских много странностей. Мужикам и бабам аплодировали. Эти бурные аплодисменты не раз прерывали действие. Но и аплодисменты были сегодня какие-то особенные. Они начинались с верхних ярусов и, достигнув партера и нижних лож, теряли силу и единодушие. Владимир Федорович Одоевский с укором поглядывал наверх: его безвестные единомышленники в пылу восторга не раз прерывали течение музыки. Но зато какой искренний это был восторг!
В зале царила и приподнятая и настороженная атмосфера. Ее накаляли сверху и охлаждали снизу. Порой и вовсе было трудно разобраться в происходящем среди публики. Сусанин-Петров был встречен овацией. Так обычно приветствовали любимого певца. Но сегодня эти овации были адресованы мужику, взошедшему на императорскую сцену. Многие высокопоставленные зрители, присутствовавшие в театре больше по обязанности, чем по любви к музыке, не раз поглядывали на императорскую ложу. Но сам император несколько раз ударил в ладоши. Недоумение сановных зрителей стало рассеиваться: очевидно, не следовало обращать внимание на мужицкие напевы.
Едва опустился занавес, царская семья перешла во внутреннюю гостиную.
– Каково твое мнение? – спросил Николай у Бенкендорфа.
– Я, ваше величество, мало понимаю в операх.
– Напрасно! – царь милостиво улыбнулся. – Тебе надобно всем интересоваться. На сегодня, впрочем, я тебя освобождаю. Признаюсь, что, взяв на себя обязанности цензора, я не нашел промахов у Розена.
В другом углу гостиной великий князь Михаил Павлович допытывался у директора театров:
– Послушай, Гедеонов, неужто не будет балета?
– Как только занавес вновь поднимется, взорам вашего императорского высочества предстанет пленительный балет…
– Лапотники с лапотницами плясать будут? – возмутился великий князь. – Благодарю покорно!
– Действие перенесется в польский замок, ваше высочество! Обольстительные пани, надеюсь, удостоятся вашего милостивого внимания и в полонезе, и в краковяке, в вальсе и в мазурке.
– Утешил! Я думал, что уж не выберемся из деревни. Этакая тоска! А кто будет плясать? Новые сюжеты есть? Прячешь, поди, старый греховодник!..
Антракт затягивался. В зале складывались мнения самых разнообразных оттенков. Надо признать, что в этих суждениях музыке уделялось гораздо больше внимания, чем в императорской ложе.
В первом ряду кресел сидел Жуковский. Его мнение было давно составлено. Он ничуть не жалел о том, что передал все лавры, вместе с эпилогом, барону Розену. Но и опасения Василия Андреевича не оправдались. Сколько раз он ни взглядывал украдкой на монарха, по его спокойному лицу было видно, что Николай Павлович не обращал никакого внимания на сомнительные особенности музыки. Стало быть, при случае… Жуковский отогнал от себя тщеславные мысли и продолжал прислушиваться к общим толкам.
– Какая-то этакая… мужицкая музыка, – говорил, жуя губами, сановный старец. – Право, мужицкая, а?
– Этакие песни, ваше высокопревосходительство, можно слышать на каждой улице и в любой харчевне.
– Музыка для кучеров! – гремел с другой стороны от Василия Андреевича какой-то свитский генерал. – Так бы и надо отпечатать в афишах. В следующий раз непременно пошлю моего Ерофея, а сам – слуга покорный!
Василий Андреевич Жуковский поудобнее устроился в креслах. Предвиденное им, повидимому, все-таки свершится. Куда приятнее присутствовать на этом спектакле в роли постороннего зрителя! Маститый поэт издали глянул на Розена. Барон сидел багровый от волнения и, конечно, ничего не слышал. Он бросал взгляды на императорскую ложу. Пусть сейчас, в антракте, ложа пуста. Не пройдет и часа, как к нему явится дежурный флигель-адъютант с приглашением к его величеству, а потом венчанный лаврами Егор Федорович выйдет на сцену и предстанет перед публикой. Лицо барона стало еще багровее, он едва мог дышать.
За Розеном украдкой наблюдал другой великий поэт и драматург – Нестор Кукольник. Он пролил не одну слезу умиления над музыкой друга Миши и с завистью наблюдал за Розеном. Автор «Руки всевышнего» не мог простить коварному немцу его прыти. Нестор Васильевич соображал, как бы и ему пристроиться к опере, которая уже идет на театре.
Словом, на сцене еще только завязывалась трагедия, а в зрительном зале сплетались тысячи интриг.
После польского акта в партере с воодушевлением заговорили о балете. Танцевали первые сюжеты, даже фигурантки были подобраны с особым тщанием. Наконец-то перестало отдавать от музыки костромским мужиком.
Но действие снова перенеслось в избу Сусанина. Разочарованные балетоманы приняли скучающий вид. Ценители музыки насторожились. Не в первый раз видели они сцены из русской жизни. Не раз показывали на театре и свадьбы, и девишники, и песни. Многим уже была хорошо известна «Аскольдова могила». Разве там не поют русские поселяне и поселянки? Но безоблачным весельем, довольством и покорностью судьбе веяло от тех песен. А в этой опере, о которой столько кричали, Иван Сусанин даже в кругу своей семьи был не только прост и сердечен, но и мудр, и уж совсем не по-мужицки величав в своих напевах. Если этакие будут мужики, сколько хлопот причинят они управителям имений!
А в музыке уже произошло столкновение стихий. Напевы русского мужика взяли верх над пленительной музыкой ясновельможной шляхты. В мужицких напевах обнаружилась сила, грозная не только для ясновельможных, но и для прочих бар.
Занавес опустился при аплодисментах, которые никак нельзя было назвать всеобщими. Вероятно, еще никогда в оперном театре так четко не разделялись мнения. За зрителями верхних ярусов было большинство, за зрителями партера и нижних лож – право на безапелляционный суд.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































