Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
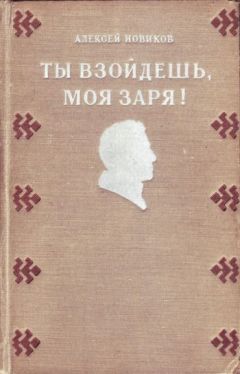
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 44 страниц)
Пушкин проснулся поздно. По привычке долго лежал в постели. В окна Демутовой гостиницы, где жил поэт, медленно заглядывало осеннее солнце.
Календарь показывал 1 сентября. Быстро приближающаяся осень, как всегда, звала к сосредоточию и деятельности. Прежде всего надо было подумать о бегстве из Петербурга. Но следствие о «Гавриилиаде» продолжалось. Царь раздумывал и медлил. Поэту нельзя покинуть Петербург, нельзя бежать от злобного внимания великосветской толпы, от собственной расточительности ума и сердца в кругу друзей и ветреных прелестниц…
Пушкин сидел на постели в любимой позе, согнув ноги под одеялом. Давно начался деловой петербургский день. Гостиница опустела. Только в комнатах поэта еще длилось утреннее бездействие.
Он потянулся к ночному столику, взял небрежно брошенные черновики. Еще не все течение будущей поэмы ясно сочинителю. Но отчетливо видится ему отчизна, страждущая в битвах за будущее:
Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра…
Пушкин отложил черновики, накинул халат, надел туфли на босу ногу и подошел к письменному столу. На столе лежало письмо к другу, задержавшемуся в деревне. Поэт сообщал Вяземскому столичные новости. Пробежав написанное, Пушкин вспомнил об общем приятеле Фирсе Голицыне и продолжал: «Голицын возится с Глинкою и учреждает родственно-аристократические праздники…» Написал и задумался: надо бы подробнее рассказать Вяземскому об этом музыканте Глинке или ничего о нем не писать. Ну, авось скептика Вяземского потешит аристократическая страстишка, открывшаяся у новоиспеченного камер-юнкера…
Так ничего более не суждено было узнать на этот раз Вяземскому о музыканте Глинке. Между тем Вяземский, наверное, взглянул бы с интересом на новое произведение поэта, которое недавно родилось. Листок, исписанный торопливым почерком, с помарками и целым куплетом, перечеркнутым крест-накрест, лежит на письменном столе среди других бумаг.
Еще более заинтересовался бы Вяземский, если бы узнал, что предназначены эти стихи для музыки. Давно ли писал поэт тому же Вяземскому: «Я бы и для Россини не пошевелился…» А теперь стихи не только написаны для музыки, но именно музыкой рождены, и виновником всей этой истории стал тот самый музыкант Глинка, с которым возится Фирс Голицын. Оказывается, что возится-то с Глинкой не только Фирс…
Будучи на днях у Павлищевых, Пушкин снова встретил Глинку. За фортепиано сидел, к великому удивлению поэта, хозяин дома и усердно играл вальс собственного сочинения. Пушкину стало невтерпеж от этих упражнений, а Николай Иванович, явно наслаждаясь, продолжал играть.
– Михаил Иванович, – обратился Павлищев к Глинке, – льщу себя надеждой, что в предполагаемом вами и князем Голицыным музыкальном альбоме найдется место для моей салонной безделки… Могу, впрочем, показать вам еще кое-что… – и Павлищев начал новый вальс.
Тогда Пушкин сослался на неотложные дела и стал прощаться.
– Мы уговорим Михаила Ивановича повторить новую пьесу в восточном духе. Повремени, Александр! – сказала Ольга Сергеевна.
– Со всей охотой! – откликнулся поэт.
Глинка подошел к дряхлому фамильному фортепиано, доставшемуся в приданое Ольге Сергеевне.
– Должен предупредить вас, Александр Сергеевич, как ранее сказывал, что участие мое в этой пьесе весьма скромно. Грибоедов незадолго до отъезда в Персию сообщил мне натуральный грузинский напев, а я задался целью сделать его всеобщим достоянием. Судите, не пошло ли в ущерб ему мое прикосновение.
Он опустил руки на клавиши. В фортепианной пьесе был сохранен весь аромат народной песни. В то же время она напоминала альбомную зарисовку путешественника. Только путешественник этот был не из равнодушных, проезжих людей. Пьеса кончилась на мягких, словно уходящих в даль созвучиях. Казалось, будто сама песня возвращалась на далекую родину, и каждому жаль было расставаться с редкой гостьей.
– Приятная пьеса, – объявил Павлищев. – Но стоит ли заимствовать мотивы у инородцев, когда мы сами столь богаты?
– Богатства наши останутся при нас, – отвечал Глинка, – но зачем же чураться умножения сокровищ? – Он обратился к Пушкину: – Вы были первым открывателем Кавказа в русской поэзии. Ныне дерзают музыканты идти по вашим стопам.
– И они стократ будут правы, если представят нам все наше многоплеменное отечество! Русский ум силен пытливостью, ею же живет искусство.
Павлищев перебил разговор, стремясь вернуть Глинку к музыкальному альбому и собственным пьесам. Пушкин с усмешкой наблюдал хлопоты зятя, потом сердечно сказал Глинке:
– Своею пьесой вы оживили мои воспоминания. В скитаниях по Кавказу был я счастлив.
– Как жаль, что этой чудесной пьесе не хватает слов! – вырвалось у Ольги Сергеевны.
Пушкин ничего не ответил и вскоре уехал…
И вот на письменном столе поэта вперемешку с набросками из поэмы лежат стихи, назначенные для восточной пьесы Глинки:
Не пой, волшебница, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный…
А сбоку листа размашисто помечено для памяти: отослать куда следует.
И стихи попали к Михаилу Глинке. Несколько дней он с жаром работал над пьесой, сочетая с музыкой пушкинское слово.
А когда романс был окончен, сочинитель принял свои меры: ноты были убраны в дальний ящик письменного стола и закрыты на ключ. Автор ждал случая для обнародования пьесы.
В октябре с Украины вернулись Дельвиги. Возобновились еженедельные сходки поэтов, литераторов и музыкантов. К певцам прибавился новый солист, Николай Кузьмич Иванов. Наставляемый Глинкой, он преодолел робость. Коронным номером его был «Соловей», романс, сочиненный на слова Дельвига московским композитором Алябьевым. Дамы были в восторге от Иванова. Глинка говорил Дельвигу:
– На редкость счастливый напев схвачен сочинителем. И какие в нем возможности: вариации в уме сами родятся!
– А знаете ли, какая печальная участь постигла Алябьева? – спросил Дельвиг.
Глинка знал. Еще в Москве ему рассказывали грустную повесть музыканта, сосланного в Сибирь.
– Пишу теперь «Ответ соловью», – продолжал Дельвиг. – Должно быть, нет воли на Руси и певчим птицам.
– Однако напоминаю давнее ваше обещание, Антон Антонович, насчет русских песен, – Глинка улыбнулся. – Сколько ни сажают певцов в железа, вместо них будут петь другие.
– Да… – согласился Дельвиг, – будут петь…
Он показывал Глинке свои стихи, писанные в подражание народным песням, и толковал о своеобразии метров. Глинка слушал, просматривая тексты.
– Вот на эти слова «Ах ты, ночь ли, ноченька» мне хотелось бы попробовать, – оказал он.
– Сделайте милость! Принадлежу к усердным поклонникам вашего таланта. Если не обогатил я поэзии моими песнями, то уверен, что послужу через вас отечественной музыке.
– А я бы, пожалуй, и на эту покусился, – продолжал Глинка.
Дельвиг присмотрелся.
– «Дедушка, – девицы раз мне говорили…» Вручаю в полное ваше распоряжение.
Из гостиной все еще доносилось пение.
– Не пора ли присоединиться к обществу? – спросил Дельвиг, убирая рукописи. – Иначе достанется мне от Сониньки. Она не прощает тем, кто отвлекает вас от фортепиано.
Было совсем поздно, когда приехал Пушкин. Глинка, столь щедрый в этот вечер, обрадовал собрание неожиданным признанием: у него есть в запасе еще один нигде не петый романс.
Он исполнил «Грузинскую песню», сгорая от волнения, и тотчас, по единодушному требованию, повторил.
– Душевно рад, что потрафил вам, – сказал Глинке Пушкин. – Вот и снова стали мы сопутчики. – Он не мог сдержать улыбку, вспомнив их совместную ночную прогулку. – Помните, как вы из-за меня оказались у дверей Демутова трактира вместо Коломны? Надеюсь, ныне идем мы к единой цели?
– Мне всегда было по пути с вами, Александр Сергеевич, – серьезно ответил Глинка.
– В добрый час! – искренне откликнулся поэт, дружески пожимая руку музыканту.
Пушкин не принимал участия в оживленных разговорах, поднявшихся вокруг музыкальной новинки. Даже Дельвиг, уединившись с ним в углу гостиной, получал односложные ответы.
– Когда же дашь из поэмы в «Северные цветы?» – спрашивал Дельвиг.
– Ужо, – неопределенно откликнулся Пушкин.
– Давно украсили Вольтер и Байрон сюжетом полтавской баталии европейскую словесность, – продолжал издатель «Северных цветов», – а теперь, когда имеем наконец русский взгляд, как смеем держать публику в неведении? Дай готовое в альманах!
– Нет отделанного…
– Ох, как глупы эти умные люди! – вышел из себя медлительный Дельвиг и продолжал с горячностью: – Дай хоть «Грузинскую песню», коли так!
Глава шестаяЖизнь свободного артиста складывалась как будто удачно для Глинки. Его романсы, никогда не издававшиеся, жили собственной жизнью. В гостиных охотно пели «Память сердца», «Скажи, зачем…», «Один лишь миг» и другие. В нечиновных домах с прежней любовью держались за «Разуверение» и хранили верность «Бедному певцу». Даже допотопная «Арфа» – это воспоминание о светлой печали давних дней – находила горячее признание у юности. А на петербургских окраинах, в Коломне или в Галерной гавани, часто повторяли певучие жалобы: «Горько, горько мне» и «Я люблю, ты мне твердила». Создавая музыку «Грузинской песни», заглянул русский музыкант в дальние края, начал новый путь к песенному содружеству народов. А потом к прежним пьесам прибавилась еще одна, широкая и распевная: «Ах ты, ночь ли, ноченька». Слова, взятые у Дельвига, стали песней так же естественно, как рождается напев от раздумий человека в ночной тишине.
Пьесы жили в Петербурге, путешествовали в Москву, откликались на Смоленщине. Вначале они находили дорогу через друзей и знакомцев сочинителя, потом попадали к любителям-музыкантам, а далее шли своим путем, нередко оторвавшись даже от имени автора.
Но, решившись явиться перед публикой в звании музыкального сочинителя, Глинка долго размышлял, что отобрать для альбома. Все созданное до сих пор казалось разрозненным, нигде не находил он полного выражения главной мысли.
За такими раздумиями и застал его Одоевский.
– Не предавался я праздности, – говорил ему Глинка, – однако надо бы больше сделать…
Он показывал гостю романс за романсом. Взял дельвиговскую «Ночь».
– Позвольте, представлю вам эту пьесу в живом исполнении.
Ах ты, ночь ли, ноченька,
Ах ты, ночь ли бурная!
Отчего ты с вечера
До глубокой полночи
Не блистаешь звездами,
Не сияешь месяцем?…
– Эта какова? – спросил Глинка, кончив петь.
– Что могут прибавить слова мои! Великолепная картина создана скупой, но всемогущей кистью: видится именно русская ночь, и обращает к ней свои думы русский человек.
– Вместо похвалы вы на мой вопрос ответьте: есть ли в «Ночи» сходство с песнями?
– Ухо мое ловит большое сходство, – отвечал Одоевский, – но я понимаю: ни о тождестве, ни об уподоблении не может быть и речи.
– А неужто, – перебил Глинка, – надобно изучить каждую каплю в океане, чтобы постигнуть свойства необъятной и изменчивой стихии? «Ноченьку» мою я, к примеру, так себе представляю: пришли люди в города и вместе с песнями на новую жизнь обосновались. У людей от новых дел новые мысли и слова родятся, у песен – новые распевы. Хочу я постигнуть песни во всем их движении. Уверенно говорю вам, Владимир Федорович, что это движение не менее поучительно, чем история народа.
Глинка был в ударе. Он пропел Одоевскому чуть не все свои романсы.
– Нет и здесь ни тождества с песнями, ни уподобления им, но стремлюсь блюсти кровное родство, – говорил Глинка. – Сошлюсь на словесность. Сколько ни изменился с древности русский язык, никто не отрицает живого корня в современной речи. Если же писатель от движения жизни отступит, люди его не поймут. Музыка наша, следуя развитию песни, должна быть равно понятна и пахарю и горожанину. В том и состоит предназначение артиста.
– Когда-нибудь и наука последует тем же путем, – подтвердил Одоевский, – и с точностью определит коренные свойства русского напева. Тогда будут говорить не только о красоте и прелести его, но уточнять все качества. Химики, например, и сейчас сильны тем, что знают первичные элементы, их свойства, родство, тяготения и законы перевоплощения в новые составы.
– Весьма дельные слова, – согласился Глинка. – Сколько я могу понять, вы снова вернулись к химии, Владимир Федорович?
– Ничуть, – отвечал Одоевский. – Но верю, что наука объяснит законы изящных искусств так, как объясняет она явления жизни. Впрочем, ни анализ химика, ни выкладки статистика негодны к объяснению живых созданий народного гения.
– За то и уважаю вас, Владимир Федорович, что ученость ваша не замыкается в хитроумные формулы, но желает проникнуть в жизнь…
Проводив гостя, Глинка снова вернулся к размышлениям о том, с какими пьесами явиться ему в альбоме перед публикой. Все, что вложил он в свои романсы-монологи, все, что говорил он Одоевскому о претворении живоносной песенной стихии, все, что делал музыкант для создания русского языка, достойного русских людей, – все это было похоже на вызов многоликим противникам.
В словесности, например, живут и плодятся туманные создания Василия Андреевича Жуковского. Поэт-царедворец щедро заселяет российский Парнас мистическими рыцарями, гробовыми привидениями, небесными и морскими девами и, уходя от повседневной жизни, взывает к спасительному романтизму. Но и Пушкин, живописующий русскую действительность, стремится, по собственным его словам, к истинному романтизму. Значит, либо слово потеряло смысл, либо пытается объединить не только необъединимое, но и прямо противоборствующее.
Глинку более всего интересует, как участвует в этом противоборстве музыка. А за примерами ходить недалеко. Давно положены на музыку многие стихотворения Александра Пушкина. Но как? Поэт говорит языком поколения, прошедшего через 1812 и 1825 годы. А музыка знай себе плетется по старинке, с ложными слезами, с томной чувствительностью, как будто эти звуки могут выразить русское горе и надежды, гордое терпение и высокие стремления русских людей.
А то воспылает музыка любовью к простонародному. Проворный музыкант ухватит народную попевку и тащит ее, как диковину. «О святая старина! О счастливые поселяне! Ой, люли, люли, люли! Ай-да мы, народолюбцы!» А громче всех гудит «Северная пчела», наставляемая шефом жандармов: «Благоденствие и счастье народное зиждется единственно на любви и преданности монарху».
С чем же предстать перед публикой музыканту, который хочет превратить музыку в верное зеркало русской жизни?
Фирс Голицын привез Глинке ворох пьес, которые дарили будущему альбому вкладчики-аматёры. Камер-юнкер Штерич поднес на зубок мечтательный вальс. Феофил Толстой осчастливил задуманное предприятие сладким, как сахар, романсом.
– Я говорил тебе, – торжествовал Фирс. – Стоило только кликнуть клич…
В самом деле, даже гвардейские поручики и статские советники откликнулись на призыв кто чем мог – мазурками, кадрилями и контрадансами. Сам граф Виельгорский принес щедрый дар – романс на слова Пушкина «Ворон к ворону летит».
Глинка просмотрел ноты.
– Очень гладко и учено! – сказал он. – Но под этакую музыку можно любые стихи подставить. Не прибудет, но и не убудет смысла.
– А еще бьет челом Николай Иванович Павлищев, – откликнулся, не вслушавшись, Фирс Голицын.
– Мне уже приходилось слышать подобное, – Глинка держал в руках павлищевский вальс, – а может быть, и эту самую пьесу, где тут разобраться?..
– Кстати, – продолжал Голицын, – не привлечь ли нам Павлищева к делу? У него все расчеты сведены и барыши исчислены. Надоел он досмерти, но для издания – прямая находка.
– Не слишком ли дорогой расплата будет, если Николай Иванович заполонит альбом своими вальсами?
– А мы на что? Слушай, Глинка, давай свалим хлопоты Павлищеву и удовольствуемся лаврами.
– Но ты, надеюсь, с типографщиками и граверами беседовал?
– Помилуй! Когда же? – возмутился Фирс. – И так не на все рауты и балы успеваю.
Зимний сезон был в разгаре. Все предприятие с альбомом опять остановилось. А потом Голицын и вовсе исчез из Петербурга. Отправляясь в армию, действующую против турок, Фирс сменил мундир камер-юнкера на гвардейскую форму – и был таков. Тогда явился Николай Иванович Павлищев.
Гений воображения, дремавший доселе над абстрактными прожектами, теперь простер мощные крылья над скромным музыкальным альбомом. Глинка скоро понял, что музыке не будет прибытку от Николая Ивановича.
Он передал для альбома свои романсы «Память сердца» и «Скажи, зачем…» Именно с этими пьесами решил сочинитель явиться перед публикой.
– Танцевальной музыки добавить надо, – решительно заявил Павлищев и самолично отобрал из архива Глинки несколько танцевальных пьес, нашел даже совсем забытую итальянскую арию.
Музыкант не возражал. Чем ближе был к изданию альбом, тем больше охладевал он к предприятию.
А слухи о задуманном альбоме достигли до бывшего сожителя Глинки, элегического поэта Александра Яковлевича Римского-Корсака.
– Полно сердиться, Мимоза! – сказал он, входя в комнату, и великодушно протянул руку.
– Да я, пожалуй, не сержусь, – кротко отвечал Глинка, – хотя распорядился ты моей поэмой воровски.
– Только благодаря мне твой «Альсанд» и увидел свет на страницах «Славянина».
– И по счастью никто не обратил на него внимания.
– Но ты приобщен ныне к кругу поэтов! – воскликнул Корсак.
– А худой мир лучше доброй ссоры, – заключил Глинка.
– По дружбе, – объяснил гость, – я снова хочу тебе помочь. Слышал я недавно твою «Ноченьку». Что же ты к Дельвигу переметнулся? Неужто я не могу подкинуть тебе любых стихов?
Поэт порылся в карманах и, найдя нужный листок, стал читать:
Ночь осенняя, любезная,
Ночь осенняя, хоть глаз коли…
– Вот тебе ночь, по крайней мере с настроением! А то Дельвиг!.. Дельвигу теперь тоже достанется. Пушкина со всей его компанией на чем свет честят. Ты сатиру на Онегина в «Северной пчеле» читал?
– А Пушкин?
– Удрал из Петербурга, поминай, как звали.
– Новая его поэма не вышла в свет?
– Какая поэма?
– О полтавской битве, – объяснил Глинка.
– Не знаю. Пушкину самому дай бог баталию выдержать. Ну, каково тебе моя «Ночь» пришлась?
– Положи на стол. Подумаю.
А думать пришлось вовсе не над стихами. «Северная пчела» с беспримерной наглостью выступила против Пушкина. Было похоже, что кто-то спустил с цепи Фаддея Булгарина. За бешеным его лаем слышалась чья-то глухая угроза. Могущественный враг грозил расправой не только Пушкину. В той же «Северной пчеле» Глинка прочел 19 марта 1829 года краткое сообщение о событиях в Тегеране:
«Напрасно сам шах в сопровождении генерал-губернатора тегеранского пришел с значительной силою для удержания и рассеяния мятежников. Сие было слишком поздно. Грибоедов и его свита уже сделались жертвами убийц. Шах и весь двор приведены сим в величайшее смущение…».
До Петербурга доходили противоречивые слухи. «Северная пчела», послушная указаниям свыше, винила в убийстве каких-то безыменных мятежников. В городе глухо говорили о тайной интриге. Истинные ее вдохновители были известны немногим посвященным. Русское правительство предательски обрекло на смерть беззащитного посла, лишив его охраны. Аглицкий спрут, распоряжавшийся в Персии, жадно протянул щупальцы к русскому дипломату, осмелившемуся на борьбу с чудовищем. Ножи убийц завершили дело.
До жителей Петербурга доходили лишь смутные слухи о том, что произошло в Тегеране. Друзья погибшего автора «Горя от ума», от которых не скрывал своих мрачных предвидений Грибоедов, тщетно пытались проникнуть в зловещую тайну.
Глинке вспомнился последний день, проведенный у Грибоедова. «Какая страшная участь!» – восклицает он и вновь слышит те слова, которыми ответил ему поэт-комедиограф: «Скажите лучше: какая гнусная действительность!»
Глава седьмаяВольно течет широкая река, и вдруг наперерез ей встают острые утесы. Легко перекатываются через вражьи заставы светлые волны, только чуть вскипая от гнева. А по руслу громоздятся новые скалы, смыкаясь неприступной твердыней. Тогда яростно вздымается река, с ревом бросается в тесное ущелье и летит по скату с неудержимой быстротой. Кажется, что земля содрогается от грохота и солнце меркнет в облаках мокрого тумана…
Поездку в Финляндию, на водопады, задумал Дельвиг. Иматра превзошла все ожидания путешественников. Даже дамы подолгу сидели на прибрежных скалах, вслушиваясь в симфонию борения первобытных стихий. Анна Петровна Керн сидела неподвижно. Софья Михайловна склонялась над пучиной, чем доставила Дельвигу немало тревожных минут.
– Сюда, сюда! – громко закричал Орест Сомов, делая знаки спутникам.
На одной из скал была ясно высечена подпись общего знакомца Евгения Баратынского.
– Не ожидал, что Евгений похитит у меня пальму первенства в открытии здешних мест, – разочарованно сказал Дельвиг.
Вооружась ножом, он стал высекать на скале собственное имя. Все последовали его примеру.
Софья Михайловна к чему-то прислушивалась.
– Неужто вы не слышите, господа? – оказала она. – Эти грозные звуки и манят, и потрясают, и неумолимо властвуют над человеком. Разве это не музыка?
– Первобытный хаос и только! – не согласился Сомов. – Надо иметь очень романтическое воображение, чтобы вложить какой-либо смысл в эту какофонию природы. Михаил Иванович, – обратился он к Глинке, – ваше мнение?
Глинка за шумом водопада не расслышал вопроса. Он тоже высекал свою подпись на камне, на котором снова предстало перед ним имя поэта, вдохновившего его на первое «Разуверение». Но в том «Разуверении» было столько веры в будущее! А теперь он бродит по неведомым местам, полный несвершенных замыслов. От грохота водопада закружилась голова. Глинка провел рукой по лбу и с удивлением почувствовал: лицо, волосы, даже одежда пропитались мокрым туманом. Откуда-то изнутри поднимался озноб и обдавал то холодом, то жаром. Он сделал над собой усилие и подошел к дамам.
– Чем кончился музыкальный спор?
– Как всегда, ничем. Таково, должно быть, и есть назначение всех споров, – ответила Софья Михайловна.
– Особенно если пускаются в ход доводы романтизма, – продолжал Глинка, – а им противостоят такие трезвые критики, как Орест Михайлович.
– Но будучи сам приверженцем романтизма, – перебил Сомов, – я не вижу смысла в хаосе.
– Вы совершенно правы, – ответил Глинка, – наши романтики нередко подменяют какофонией недостающую мысль. В распоряжении музыкантов, кстати, есть для того счастливые средства – трубы и барабаны.
Завязался спор, который продолжался и за обедом в убогой гостинице. Наплыв гостей вызвал удивление и растерянность у старого хозяина. К ужину не нашлось ни хлеба, ни масла, ни яиц. Лишь вяленая рыба была представлена в изобилии. За окном раздавался монотонный припев ночного сторожа: «Спите, добрые люди, я вас не разбужу».
Но никто не собирался спать. Дельвиг занимал спутников рассказами о таинственных историях, которые могли бы случиться здесь, в суровых лесах или на скале, что высилась над водопадом и словно была предназначена для ищущих смерти.
Утром Михаил Глинка первый встретил солнце. Он вовсе не смыкал глаз. Проклятая лихорадка снова дала о себе знать. Однако молодой музыкант торопил спутников вернуться к водопаду.
Все снова рассыпались между прибрежных скал.
Река все так же рвалась в ущелье, а поодаль безмятежно разливалось тихое озеро. Но горе тому, кто прельстится сладостным покоем! Там, где нет борения, неминуемо слабеют ненужные силы. Там, где нет воли к действию, бесплодна и самая страстная мысль.
Молодой музыкант стоял над водопадом и размышлял. Картины природы, раскинувшиеся перед ним, могли стать поводом для размышлений о судьбе артиста. Это вовсе не значит, конечно, что в искусстве следует копировать природу. Но никогда не будет творцом тот, кто, убоясь борьбы, стремится к покою…
– Прощай же, вольная и гордая стихия, – тихо сказал Глинка.
Сказал и смутился: как бы не заметил кто-нибудь его романтического порыва… Впрочем, стоял молодой музыкант вовсе не в романтической позе, а на почтительном расстоянии от бездны. Мокрый туман, в котором он успел ранее искупаться, оказался союзником лихорадки. Она дала о себе знать жестоким припадком на обратном пути.
Дорога вилась среди суровых скал, открывая взорам то мрачную пропасть, то овраг, щедро усыпанный цветами, а с боков уже надвигались новые утесы. Между угрюмых лесов вдруг открывалось светлое озеро, потом дорога крутилась над пропастью и снова уходила в бесконечный лес. Линейка, на которой ехал Дельвиг с дамами, укатила далеко вперед. Глинка лежал в тележке, рядом сидел Орест Сомов. Журналист был на этот раз неразговорчив. Музыкант, спасаясь от озноба, кутался в пальто. Ничто не нарушало величественного безмолвия суровой природы.
Не спеша катилась по дороге тележка, тихо напевал песню ямщик-финн. Никто не мешал ему, никто не перебивал. Много песен перепел он до ночлега. На станции ямщик завел лошадей в конюшню, задал им корму и хотел было расположиться на вольном воздухе, но в помещении для проезжающих скрипнула дверь. На крыльце появился зябкий седок, кутавшийся всю дорогу в пальто, и пошел к конюшне. Удивленный ямщик поднял голову. Молодой человек шел прямо к нему.
Через час Анна Петровна Керн, привлеченная пением, застала у конюшни странную картину. Ямщик пел, Глинка проворно переводил песню на ноты. Оба трудились с необыкновенным воодушевлением. Глинка заметил наконец Анну Петровну и обернулся к ней со смущенной улыбкой.
– Удивительная песня! Вы слышали?
– Я слышала несколько полудиких и меланхолических тонов, только и всего, – ответила Керн.
– Неужто не слышите вы, как отразилась в этих тонах душа финна? Только побывав здесь, можно оценить всю полноту этих звуков.
Глинка потащил ямщика в комнату и заставил его петь еще раз.
Степенный Симон Яковлевич впервые в жизни встретил седока, который, должно быть, кое-что смыслил в песнях его родины. Сам-то Симон Яковлевич всегда знал, что нет песен лучше тех, которые рождаются под шум лесов или на берегу светлого озера. Он всегда знал, что дружат эти песни только с честными людьми, а хмурые с виду люди нараспашку раскрывают им свое сердце.
Симон Яковлевич пел с увлечением. Но дамы и господа, расставаясь с ямщиком, хвалили его не за песни, а за то, что он усердно исполнял обязанности возницы, переводчика, гида, и щедро его наградили. Только молодой человек, который переводил песни на бумагу, горячо жал ему руку и что-то долго говорил. Но что именно говорил молодой человек, Симон Яковлевич плохо понял. Так и отправился ямщик восвояси, а песня умчалась с проезжим в Петербург.
Но и по приезде в столицу Глинка не расстался со своей добычей. Песня превратилась в фортепианную пьесу. На вечерах у Дельвига Глинка охотно исполнял «Грузинскую песню», а на смену ей являлась гостья из Финляндии. В альбоме русского артиста заполнилась еще одна страница, хотя никто не мог сказать, какую роль призван сыграть этот дорожный листок.
– На что вам эта песня? – спрашивал у музыканта Дельвиг. – Куда вы ее предназначаете?
– Никакого определенного применения ей не вижу, – отвечал Глинка, – но если когда-нибудь захочу явить в музыке финна, тогда нигде не найду более характерного, чем в этой песне.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































