Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
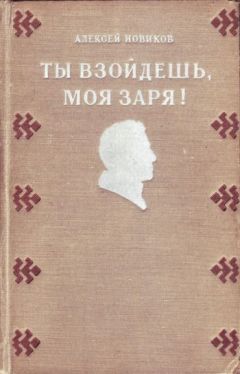
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 44 страниц)
К утреннему чаю Глинка вышел против обыкновения бодрый. Иван Николаевич сразу дал этой перемене свое истолкование.
– Впрямь, славный декокт ты пьешь, – сказал батюшка сыну, – хотя и сказывается целительное действие не тотчас, но во благовремении… Кстати, друг мой, можешь и меня поздравить… Нашел я немалый капитал. Статский советник Погодин дает в оборот пятьсот тысяч ассигнациями, чтобы быть со мною в половине.
– Откуда у статского советника такие суммы?
– По верной справке, – объяснил Иван Николаевич, – был он в свое время к Аракчееву приближен и по интендантской части усерден. Опалы графской, однако, не разделил, капитал уберег и ныне ищет ему надежного применения. На Руси, друг мой, если приглядеться, люди разве от одного интендантства кормятся? Достойно удивления, как достает на всех казенных сумм!
– Зато, батюшка, в дон-кишотах они не ходят.
– Какие дон-кишоты? – удивился Иван Николаевич. – А, ты вот о ком! Да, те с лихвою поплатились, а эти…
– В российские герои норовят? Так, батюшка, выходит?
Но чай был отпит. Иван Николаевич покинул столовую на полуслове. Вопрос остался без ответа, хотя задан был не зря.
В российские герои метили персоны самые удивительные. 25 декабря 1826 года, в памятный день освобождения России от полчищ Наполеона, в Зимнем дворце состоялось торжественное освящение военной галереи 1812 года.
В журналах эта галерея была описана так:
«Вошедшему через главную дверь первым предметом представляется портрет во весь рост блаженной памяти государя императора Александра I. Впрочем, портрет сей будет заменен другим, изображающим незабвенного Агамемнона нашего верхом на лошади. По обеим сторонам императора Александра I оставлены места для портретов во весь рост высоких союзников – императора Австрийского Франца I, короля Прусского – Фридерика-Вильгельма III, герцога Веллингтона…»
Конечно, в галерее 1812 года нельзя было не поместить портрет Михаила Кутузова. Зато в императорском дворце не нашлось и вершка места для тех русских солдат и партизан, которые под водительством Кутузова сполна рассчитались с Бонапартом.
В это же время Глинка прочел в «Отечественных записках» статью «О преданности смолян отечеству в 1812 году». Как живой, встал перед ним смоленский крестьянин-партизан Семен Силаев. Ведь именно Семену Силаеву когда-то собирался воздвигнуть необыкновенный монумент старый ельнинский книжник Иван Маркелович Киприянов.
Но не дождался русский мужик никакого монумента. Посулили ему награду на небесах, а до тех пор вернули на барщину и согнули в три дуги. Странные, правду сказать, ставят монументы на Руси. В военной галерее 1812 года поместился вместо Семена Силаева плешивый Агамемнон. А тем, кто хотел вступиться за права Силаевых, тем тоже воздвигли монумент, но не в императорском Зимнем дворце, а как раз напротив – на валу кронверка Санктпетербургской крепости.
В годовщину восстания император приказал отслужить на окровавленной земле подле сенатских стен благодарственный молебен за дарованную победу. Казалось, все было кончено. Самые имена казненных и сосланных стали запретными. Но к победителю являлся на очередной доклад шеф жандармов граф Бенкендорф, и из тайных донесений вновь восставали имена казненных. О них говорили взаперти, о них шептались втихомолку.
Император слушал шефа жандармов, уставив на него оловянные глаза.
– Опять?! – Николай Павлович нервно поводил пальцами, словно затягивал невидимую петлю.
Граф Бенкендорф, ожидая высочайших повелений, понимающе кивал лысой головой.
Невесело встретила столица 1827 год. Впрочем, столичная газета «Северная пчела» выбивалась из сил, живописуя увеселения публики – маскарады, балы и театры. Усердный издатель «Пчелы» Фаддей Булгарин иступил не одну связку перьев, изображая всеобщий восторг и любовь к монарху. Но чем громче и назойливее жужжала «Пчела», тем отчетливее проступал между строк страх, порожденный недавними событиями. Петербург был опустошен арестами. Многие покидали столицу по доброй воле.
– Здравствуй, Мимоза, и прощай! – перед Глинкой стоял Левушка Пушкин. – Еду юнкером на Кавказ.
– И ты, Лев? – Глинка радушно встретил гостя и еще раз повторил: – И ты, Лев?
– Довольно мне служить по департаменту духовных дел. Сыт по горло, – отвечал Лев Сергеевич. – Спасибо отпустили.
– Почему бы и не отпустить тебя?
Пушкин пристально посмотрел на однокашника.
– А ведомо ли тебе, что высшие власти подняли целую переписку о моей скромной персоне?
– По родству с Александром Сергеевичем?
– Надо полагать. Однако оказали честь и лично мне. По счастью, утеряли в моем жизнеописании некую не подлежащую оглашению страницу.
– Насчет твоего присутствия на Сенатской площади?
– Ты откуда знаешь? – удивился Левушка.
– Сам тебя видел. Неужели не помнишь?
– Ну, коли знаешь, тем лучше, – решил Пушкин. – Не очень я люблю рассказывать: потомки все равно не оценят, а начальству вовсе ни к чему!
Приятели сидели за чаем. Левушка был сосредоточенно трезв.
– Ты, Мимоза, помнится, на Кавказ ездил. Каково тебе понравилось?
– Лучше, чем твой брат описал, никто не расскажет, – отвечал Глинка. – Думаю, однако, что к «Кавказскому пленнику» непременно продолжение будет.
Левушка встрепенулся, предчувствуя неслыханную литературную новость.
– Не может того быть!
– Будет, – подтвердил Глинка. – Если Александр Сергеевич это продолжение в свет не выдаст, тогда сама жизнь его напишет.
– Признаюсь, – заинтересовался Лев Сергеевич, – никогда такого взгляда на поэму не слыхал.
– А я, Лев, на Кавказе это понял. Живут там бок о бок и русские, и украинцы, и горцы и порой враждуют, а дорогу друг к другу найдут. Песни между собой первые дружат. То горцы у нас голос подхватят, то, глядишь, наша песня с горской породнится. Сначала чудно для уха, а вникнешь умом – тут такие пути для музыки открываются…
– К шуту твою музыку! – отрезал Лев Сергеевич.
Глинка взглянул на его равнодушное лицо и расхохотался.
– Не буду, не буду… Чем Александр Сергеевич нас ныне порадует? – спросил он после паузы.
– Нет мне больше веры от Александра, – с горечью оказал Левушка. – Ни одной его строки теперь не вижу… И поделом мне, прохвосту: зачем звонил по всему свету!.. А новенькое, – вдруг перебил себя Пушкин, – новенькое, ей-богу, есть. Только взята с меня гробовая клятва.
Глинка выжидательно покосился.
– Однакоже, – продолжал Лев Сергеевич, – новые стихи я через третьи руки получил. А в печать они все равно не попадут. Изустно их огласить – и то опасно!
Глинка снова промолчал, понимая, что Левушкиной добродетели хватит ненадолго.
– Тебе, Мимоза, пожалуй, можно довериться, – начал сдаваться Левушка. – Э, черт, – тотчас решил он, – эти стихи все честные люди знать должны. Послал их Александр Сергеевич с оказией в Сибирь, а кому – сам поймешь.
Он начал читать приглушенным голосом:
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье…
Давно отзвучали стихи, давно ушел будущий юнкер, а Глинка повторял памятные строки.
Февральская ночь смотрит в одинокую комнату. Смутно виднеется за окном пустынная улица. Куда-то идет военный караул… Глинка отрывается от окна и снова в задумчивости ходит.
Царствует на Руси новый Агамемнон, Николай Павлович, и мнится ему, что существуют при нем, для его величества пользы и надобности, верноподданные. А есть народ, и устами первого своего поэта он дает клятву побежденным бойцам. На смену погибшим явятся сильнейшие. Сгинет безвременье. Возвеличится Русь. Не умирают герои.
Глава пятая
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье!
– Ты хоть сегодня приободрись, Мимоза!
Александр Яковлевич Римский-Корсак, стоя в дверях, долго присматривается, потом нерешительно направляется к дивану, на котором приютился Глинка.
– Девиц жду, – объясняет поэт и, приступая к главному, по обыкновению краснеет. – Моя никак не решается на tête-à-tête[11]11
Свидание наедине (франц.).
[Закрыть], опять явится с товаркой, и ты решительно необходим!
– Уволь! – отказывается Глинка.
Но вечером приходят девицы, должно быть швеи или модистки. Особенно хороша одна из них, и как раз не та, которую облюбовал сочинитель элегий.
Глинка, вначале вынужденный к знакомству, быстро подружился с Катюшей, но тут же узнал, что ее наивное, чистое сердечко навсегда отдано счастливому избраннику из сенатских копиистов. Тогда от легкой грусти у него родилась музыка, такая же легкая и нежная, как сама грусть.
– Похоже, пожалуй, на элегию, – одобрил Римский-Корсак. – Однако на что годны жалкие звуки без огня поэзии? – Он помолчал, потом великодушно предложил: – Хочешь, подкину стихи?
Стихи не замедлили явиться. Глинка пробежал врученный ему листок.
– Но Катюша никогда не изъясняла мне своих чувств, – сказал он, – и вдохновение твое не совсем схоже с действительностью.
– Чудак, кто же ищет вдохновения в повседневной жизни? Надо дерзать, Мимоза!
Но девушка, облюбованная поэтом, не сдавалась. Катенька попрежнему была неразлучна с ней, как щит, прикрывающий добродетель.
Когда гостьи явились снова, Глинка сел за рояль и запел, глядя на Катюшу:
Я люблю, – ты мне твердила,
И тебе поверил я;
Но другого ты любила,
Мне так страстно говоря…
– Ах, боже мой! – сокрушалась Катенька, выслушав романс. – Я же вам говорила, Михаил Иванович, что занята, и даже насовсем, а вы так жалобно поете, и даже до слез!
– Но ведь не я сочинил эти стихи, – оправдывался Глинка.
– Никто бы тебе и не поверил, – откликнулся Римский-Корсак. – Поэтом надобно родиться!
– Хотите, я представлю вам, как творят элегические поэты? – озорно сказал Глинка и, встав в позу, начал читать Корсаковы стихи таким плачущим и схожим голосом, что обе девицы покатились со смеху.
– Ах, боже мой, – говорила, едва переводя дух, утешенная Катюша, – теперь вы уморите меня, Михаил Иванович, и даже досмерти!
Время шло. То ли потерпели поражение слезные элегии, то ли спаслась бегством добродетель и, стало быть, не нужен был ей более щит – Катюша перестала появляться.
…Вот уже и воспоминание о ней затерялось среди мимолетных впечатлений жизни. Пройдут годы, и, может быть, никогда не встретятся они, сочинитель романса и девушка с нерастраченным сердцем. Но, может быть, случится и так, что когда-нибудь услышит она песню своей юности и узнает ее, несмотря на новые слова. Тогда удивится почтенная жена почтенного копииста, вспомнит про давнее и в растерянности скажет: «Ах, боже мой, не так надо петь, и даже совсем не так!..»
Совсем не так, как надо бы, вела себя и музыка с Михаилом Глинкой. Мелодии рождались у него с удивительной легкостью, словно хранился где-то неисчерпаемый их запас. Но стоило ему взяться за те опыты, в которых звучало лишь предвидимое и предвосхищаемое мыслью, тогда без употребления оставались нотные листы.
Несколько раз наведывался к нему новый знакомец Одоевский, и все более углублялись они в нераскрытые тайны музыкальной науки.
На рояле стоят ноты. Одоевский играет труднейшие прелюдии и фуги Баха так, что Глинка, встав с места и не находя слов, отдает ему низкий поклон.
– Вот он, истинный союз художества с наукой, – говорит Владимир Федорович. – Здесь все ясно и стройно!
– Да… – задумывается Глинка. – Но последуйте слепо за великим Бахом…
Завязывается спор, сущность которого мог бы уразуметь не каждый музыкант.
По обыкновению Глинка, показывая Одоевскому свои новые опыты, засыпал его вопросами, потом снова отходил от рояля.
– Все подмеченное мною составляет лишь ничтожную долю возможного. Народ заложил прочные основы музыки в своих песнях. Нам, музыкантам, предстоит лишь развить и возвысить эти основы.
Глинка тем охотнее раскрывался перед Одоевским, что встретил в нем ученость, способную к предвидению, и воображение, склонное к дерзанию. В беседах с ним сочинитель все более прояснял собственные мысли.
Жизнь шла своим чередом. И напевы, в которых отражалась эта жизнь, рождались один за другим. Большое и малое, российское безвременье и собственные чувства – все находило отражение в звуках. Автор «Бедного певца» и «Хора на смерть героя» ясно понимал, что музыка его только начинает путь к воплощению жизни. Для выражения мысли и чувства ей еще не хватало тех совершенных средств, которые молодой музыкант так ясно ощущал в народном искусстве.
Опыты и дерзания продолжались. Но и напевы, которые рождались в его воображении, не хотели ждать. В сущности, это были все те же опыты. Песня жила и в городе и в деревне в непрерывном развитии. От песен рождались романсы. Одни из них уходили от столбовой песенной дороги и попадали в болото ложной слезливости. Другие, как романсы Алябьева, по-своему роднились с песней. Алябьевского «Соловья» распевали повсюду. Из Москвы приходили модные романсы Верстовского. Его «Черную шаль», написанную на пушкинские слова, тоже пели и в театрах и на улицах.
Музыка шла разными путями. И родство ее с песней было тоже очень разное. Вся эта музыка жила в одновремении. В ней происходила невидимая глазу, но страстная борьба. Каждый сочинитель ратовал за свое. Но каким же путям идти песне-романсу? Надо было что-то отбирать. Можно было руководствоваться, конечно, родством с народной песней, но ведь и сама песня жила в вечном движении. Следовательно, мало было только отбирать, надо было что-то как главное утверждать…
Давно была выпита последняя бутылка спасительного декокта. Но и славный доктор Браилов помог не более, чем все его предшественники. Наоборот, и эта встреча с медициной не обошлась для пациента без ущерба. Совсем испарился из квартиры несносный запах болотного зелья, а приливы крови к голове настолько усилились, что Глинка стал терять зрение. В один из таких мрачных дней он нашел у Корсака новые стихи.
Прошло два-три дня.
– Слушай, элегия, – сказал Глинка, затащив однокорытника к себе, и, присев к роялю, напел новый свой романс:
Горько, горько мне,
Красной девице…
Родство романса с песней было очевидно. Это было, пожалуй, даже кровное родство, но такое, которое выражается в какой-нибудь одной-другой общей черте. Но зато как типичны именно эти черты! Разумеется, Александр Яковлевич Римский-Корсак вникал не в музыку, а в звуки собственных стихов.
– Ага! – сказал польщенный поэт. – Теперь и ты понял, какие страдания приносит любовь!
– Нет, милый, – возразил Глинка, – есть на свете предметы, которые приносят еще бо́льшую муку.
– А что бы это могло быть? – доверчиво осведомился поэт.
– Декокт! – убежденно объяснил Глинка. – До сих пор, как вспомню, волосы встают дыбом.
– Циник! – взвизгнул Римский-Корсак. – Так-то кощунствуешь ты над святыней поэзии! Никогда не дам тебе ни строчки стихов! – И, уходя, он сразил друга последним аргументом: – Сам ты декокт! И музыка твоя декоктная!
Хлопнула дверь. Последовал полный разрыв. Глинка делал попытки к примирению. Оскорбленный поэт не сдавался.
Может быть, это было к лучшему. Для Глинки настала пора глубоких размышлений. Только он один, блуждая взором по исписанным нотным листам, мог бы объяснить себе, что все начатое им стремится к единой заветной цели. Об этом говорили и набросок родного напева и оркестровые пробы. В набросках напевов настойчиво ищет он столбового пути, по которому будет развиваться русская мелодия – душа русской музыки. Оркестровые пробы свидетельствуют о постижении сочинителем тайн контрапункта, гармонии и полифонии, раскрытых наукой многих поколений для всего человечества. Но чем больше усердствовал в своих пробах музыкант, тем больше стремился постигнуть, где и как осуществятся в новой музыке те истины, которые идут не от западных хоралов, но от русской хоровой песни.
А среди нот покоится «Хор на смерть Героя». Славное начало непременно требует продолжения. Видятся музыканту могучие гимны, сложенные в честь России и бессмертных ее сынов. Но никогда не дает сочинитель безудержной воли воображению. Не успел он еще сесть за букварь, не одолел еще азов родных напевов, а уже мечтает о том, чтобы слагать могучие гимны… Он окидывает взором все свои опыты. Увы, хватит пальцев на одной руке, чтобы перечесть достойное внимания. Кажется, ни один музыкант не начинал так поздно, никто не шел так медленно. Где уж там мечтать! А заветная мечта все-таки живет и никуда не уходит.
– Ведь сочиняют же люди оперы? – вслух опрашивает себя молодой артист.
Проходят дни, недели, и он снова и снова задает себе все тот же вопрос…
Глава шестаяВ один из майских дней, особенно пригожих в 1827 году, Корсак ворвался к Глинке как ни в чем не бывало.
– Пушкин здесь! Пойдем к нему, Мимоза! Ведь должен он помнить наших, пансионских!
– Вряд ли помнит нас Александр Сергеевич, – нерешительно отозвался Глинка. – Но откуда ты узнал о нем?
– Только ты ничего не знаешь. Весь город говорит. Пойдем да, кстати, сами спросим, когда будет продолжение поэмы о Ленском. Ждать от главы к главе – все терпение изошло!
– Ты разумеешь поэму об Онегине?
– Но в какое же сравнение может идти жалкий Онегин с вдохновенным Ленским! Помнишь, как там сказано о нем?
Он пел разлуку и печаль,
И нечто, и туманну даль…
– «И романтические розы», – продолжил Глинка.
– Да, и розы, конечно! – подтвердил Корсак. – А ты мою «Деву-незабудку» помнишь? Я ее еще в пансионе читывал. Не помню только, слыхал ли Пушкин. Во всяком случае согласись: моя незабудка расцвела раньше, чем розы Ленского. Эх, кабы не поздно, переменить бы Пушкину название поэмы: «Владимир Ленский»! Тут бы каждая буква пела… Ну, пойдем, Мимоза, в Демутов трактир. Он там стоит.
– И элегии свои прихватишь? – невинно осведомился Глинка.
– Думаешь, прихватить на случай? – Корсак уставился на сожителя, пораженный новой возможностью. – Так ведь надо дельно отобрать, – сказал он озабоченно и убрался восвояси.
А Пушкин после долгих лет изгнания действительно приехал в Петербург. Здесь сызнова ожили перед поэтом воспоминания о дружестве и братстве:
Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны веслы…
Но налетел вихрь, погибло содружество борцов, когда-то внимавших певцу Руслана. Шумное и пестрое общество, окружавшее теперь поэта, еще более напоминало об отсутствии погибших друзей и братьев по мысли:
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою…
Одинокий, бродил Пушкин по Петербургу. Все, кажется, изменилось в столице торжествующего самодержавия. Но не изменил поэт заветам юности. Автор вольнолюбивых стихов стал автором народной трагедии. Все пристальнее вглядывается он в прошлое и настоящее родины и раздумывает над ее будущим… Новые замыслы родятся у него один за другим…
А Глинка так и не решился возобновить давнее знакомство. Слишком много лет прошло после встреч с поэтом в Коломне, в пансионском мезонине у Кюхельбекера. Он подосадовал на Левушку, так некстати отправившегося на Кавказ. Хотел взять в товарищи Одоевского, но и того увезла куда-то попечительная супруга. Тогда Глинка вспомнил об Анне Петровне Керн.
Ее квартира помещалась на Владимирском проспекте, в надворном неказистом флигеле. Крутая темная лестница выглядела совсем не по-генеральски. Должно быть, с тех пор, как разъехалась Анна Петровна с мужем и сменила превосходительное звание на свободу, пришлось ей сменить и обеспеченную жизнь на едва прикрытую нужду.
Глинка долго звонил у дверей. Раздосадованный неудачей, он хотел уйти, но за дверью послышались быстрые, легкие шаги. Кто-то долго пыхтел, стараясь снять с петли тяжелый крюк. Наконец дверь со скрипом открылась.
Девочка лет восьми на вид, раскрасневшаяся от усилий, подозрительно разглядывала незнакомого посетителя.
– Мамы нет дома! – сказала она и, подумав, прибавила: – Мама, должно быть, у Дельвигов, но вы можете подождать. Я тоже давно ее жду. Очень давно! – в утешение незнакомцу объяснила девчурка.
Глинка нерешительно последовал за ней. Миновав коридор, он оказался в комнате о двух окнах, которую только при большой снисходительности можно было назвать гостиной.
– Садитесь, пожалуйста, – сказала маленькая хозяйка уже без всякой робости. – Мама непременно у Дельвигов. Это в нашем доме, только перебежать через двор…
Девочка рассматривала посетителя с нарастающим любопытством.
– Мама не велит никого без нее впускать, – говорила она, сидя против Глинки и болтая ножками. – Вот я и не открывала вам. Вдруг вор! А знаете, как страшно!
– Однако ты все-таки открыла? – подзадорил Глинка.
– Конечно, открыла. – Девочка взмахнула косичками. – Сначала терпела, а потом не вытерпела. Посидели бы вы, как я, одни, тоже бы не вытерпели. А знаете, как интересно, когда звонят?
– Еще бы! – согласился Глинка. – Как же тебя зовут?
– Катя, – объявила девочка и прибавила, хитро поглядывая на гостя: – А фамилию мою вы можете отгадать?
– Я все могу, – сказал Глинка, все более заинтересовываясь этим изящным и одиноким созданием.
– Только бог может все, – наставительно возразила Катя, – а разве вы бог?
– Нет, – улыбнулся Глинка, – совсем не бог, всего только титулярный советник.
– Ну вот, – все тем же назидательным тоном продолжала маленькая хозяйка, – даже не генерал, а хвастаетесь. Были бы вы в институте, остались бы без сладкого.
– А если ты учишься в институте, почему же сидишь дома?
– Потому что больная.
– Что же у тебя болит?
– Ничего не болит…
– Значит, ты не больная, а обманщица!
– Нет, больная, – убежденно повторила девочка. – Когда мама соскучится, она едет за мной в институт. А потом даже в журнале пишут, что я больная. Блаженски хорошо хворать! – вдруг призналась она.
– Удивительно, Катя! Когда я учился, со мной то же самое было… А что ты без мамы делаешь?
– Сижу и жду. А знаете, как скучно ждать!
Глинка собрался уходить.
– Но, может быть, мама все-таки у Дельвигов, – спохватилась юная хозяйка, – просто задержалась, а сейчас придет.
– Передай маме, что у нее был Михаил Иванович Глинка. Запомнишь? Глинка.
– Какая смешная у вас фамилия! – расхохоталась девочка и стала повторять нараспев: – Глин-ка! Глин-ка! Нет, не забуду. Только почему вы сами не хотите подождать? Теперь уж совсем недолго.
Глинка остановился в нерешительности, потом подошел к фортепиано.
– Ты играешь?
– Нет. Зато мама играет лучше всех.
– А вот теперь ты хвастаешь… Ну-ка посмотри в окно. Когда я шел к вам, в соседнем дворе играл шарманщик.
– Такой старый-престарый?! – Катя мигом начала карабкаться на подоконник и с удивлением оглянулась.
Всамделишные звуки шарманки неслись вовсе не со двора, а оттуда, где стояло мамино фортепиано, за которым сидел гость со смешной фамилией. Потом уморительно запел и сам старый шарманщик. Все это было так похоже, что девочка скатилась с подоконника и, всплеснув ручонками, застыла в восхищении.
– Блаженски хорошо! – прошептала Катя, дождавшись паузы.
Она залилась таким счастливым, таким долгим смехом, что титулярный советник почувствовал новый прилив энергии и разделал целую сцену, наподобие тех, что разыгрываются каждый день на петербургских дворах. Он вертел рукой воображаемую ручку шарманки и, казалось, вовсе не прикасался к клавишам, но шарманка все-таки всхлипывала, дребезжала и опять порывалась петь на тысячу простуженных голосов.
Теперь Катя боялась только одного: как бы не ушел этот необыкновенный фокусник и не лишил счастья всегда опаздывающую мать.
– Теперь-то мама уж наверняка придет! – дипломатически заверила она. – Ведь она тоже никогда не слыхала такой шарманки!
Но Глинка встал из-за фортепиано, поцеловал девочку в лоб и сказал серьезно:
– На свете столько шарманщиков, Катюша, что каждый обязательно их услышит, и твоя мама тоже. А я непременно приду. Передай маме мою записку и будь умницей.
Он постоял на площадке лестницы, прислушиваясь к тому, как пыхтела Катя, накладывая дверной крюк. Потом двинулся в путь.
На следующий день он получил письмо от Анны Петровны. «Неужто матери меньше посчастливится на вашу дружбу, чем дочери?» – писала она. Анна Петровна назначала дни и часы, когда будет его ждать. Но Глинка почувствовал себя из рук вон плохо. Все более воспалявшиеся глаза нестерпимо болели при ярком свете. Он сказался больным на службе и сидел в комнате с опущенными шторами.
Но он все-таки написал ответное письмо Анне Петровне и приложил к нему особое послание для Кати. На листке бумаги был изображен сидящий за фортепиано молодой человек весьма малого роста. Рядом стояла девочка с косичками и грозила молодому человеку пальцем. Под картинкой был каллиграфически выведен пояснительный текст. «Только бог умеет все, – говорила девочка, грозившая молодому человеку, – а вы не бог, но хвастун!»
Однако сама музыка готова была отомстить Катюше. Из фортепиано непрерывно вылетали ноты, похожие на толстоголовых комаров. Некоторые из них примеривались вскочить ей в уши, другие норовили ужалить в нос.
Титулярный советник долго любовался своим произведением.
– Блаженски хорошо! – заключил он и, смеясь, старательно заклеил конверт.
А в глазах опять началась острая, режущая боль. Молодой человек прикрыл глаза руками.
– Проклятый декокт!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































