Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
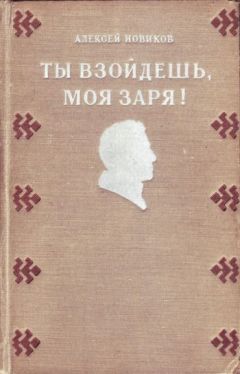
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 44 страниц)
– Я нашел, – гордо сказал Карл Федорович Гемпель, поднимаясь по ступенькам.
– Нуте-с? – Глинка смотрел на сына органиста, ничего не понимая. – Что вы нашли?
– Я нашел в вашей партитуре один большой порок.
– Так выкладывайте скорее и без всякого снисхождения!
– Я нашел, – продолжал Гемпель, – что эта партитура… – он сделал особенно мрачное лицо, – написана неопрятно и скорописно. – Карл Федорович вдруг разразился громким смехом. – Теперь вы не можете мне возражать! Карл Гемпель сам будет переписывать эту удивительную русскую партитуру!
И он действительно взялся за переписку.
Глава втораяНа письменном столе лежит партитура трех действий «Ивана Сусанина», и на титульной странице аккуратно помечено рукою Глинки: «С. Петербург, 27 августа 1835 года».
Над нотами склонился Владимир Федорович Одоевский.
– Можно ли поздравить с окончанием? – спрашивает он, быстро пробегая глазами по страницам.
– Рановато! – отвечает Глинка. – Теперь и предстоит самое важное: сцена убиения Сусанина в лесу. Размышляя, я многое сообразил, но все еще проверяю себя: хватит ли сил? Представь себе эту сцену: русская метель начисто заметает последний стон воинственной мазурки. Тут крепчает голос Сусанина…
Глинка ходил по кабинету, потом остановился в задумчивости перед Одоевским.
– Вся жизнь Сусанина пройдет перед ним в эту последнюю минуту. Вся жизнь, Владимир Федорович!.. И предстоящая смерть. – Он подошел к роялю, начал импровизировать и быстро кончил. – Никак не решусь приступить к этой сцене.
– А с Розеном ты уже виделся?
– И даже вручил ему разработанный план сцены. Но барон, как всегда, изволил объявить, что мне недостает поэтического воображения. Должно быть, и сюда хочет вписать славу ныне царствующему императору. С отчаяния, – Глинка смущенно улыбнулся, – пришлось мне самому за стихи приняться. Впрочем, ничего отделанного для этой сцены еще нет. А потому и прошу тебя рассмотреть готовую партитуру и наистрожайше: все ли стройно, все ли благополучно в оркестровке? Вот тебе и цензорский карандаш. Для начала глянем увертюру.
Одоевский снова склонился к нотам. Глинка отошел к окну. За окнами простиралась Конная площадь, отнюдь не принадлежавшая к числу аристократических уголков столицы.
Приехав с женой из Новоспасского, Михаил Иванович прельстился этой квартирой, потому, что она обеспечивала уединение, необходимое для его трудов, и все удобства для тихой семейной жизни.
Кабинет Глинки находился в отдалении от других комнат, в которых устраивала себе гнездышко Мари, и от покоев, отведенных Луизе Карловне, которая пожелала переехать к дочери.
В кабинете хозяина нетерпеливый Владимир Федорович с головой ушел в изучение партитуры. Он созерцал стройное и величественное здание, которое когда-то первый увидел в разрозненных набросках.
Марья Петровна сидела в будуаре перед туалетом.
– Ты до сих пор еще в беспорядке, – робко замечает ей Луиза Карловна. – Разве ты не выйдешь к гостю?
– Отстаньте, маменька! Мне, право, не до гостей. Деньги опять на исходе, а квартира почти не меблирована.
– Но мать твоего мужа обещала прислать солидную сумму.
– Вот и ждите, а мне все надоело.
– Но почему же ты ничего не скажешь Мишелю? В семейном доме должен быть порядок, пусть он напишет письмо домой.
Марья Петровна ничего не отвечает. Она смотрится в зеркало. И сколько времени можно жить, ютясь на Конной площади?
– Почему вы во-время меня не предупредили? – оборачивается она к матери. – Разве девушка может разобраться в своих чувствах?
– Но кто же меня спрашивал, Мари? Я ведь тоже думала, что у Мишеля богатое имение. А нам шлют одну провизию.
– Скучно, ох, как скучно! – стонет Марья Петровна. – Ну что вы, маменька, ко мне пристали?
– Я? – удивляется Луиза Карловна. – Я давно говорю тебе и твоему мужу: счастье нельзя строить на одной провизии. И дорогой сватье я говорила: «Не оставьте наших милых деток». Что я еще могу?
– И Сонька мне в голову вбила, – продолжает размышлять вслух Марья Петровна: – опера, опера!
– Ну и что же? Опера – тоже очень хорошо. Но для того, чтобы сочинять оперу, надо иметь что кушать и прилично содержать жену.
Марья Петровна попрежнему сидит перед зеркалом, а зеркало говорит ей, что такая красивая молодая женщина не должна страдать.
Из кабинета слышатся звуки рояля. Одоевский кое-что проигрывает.
– Воображаю, – говорит он, – как роскошно прозвучит все это в оркестре!
– Никакой роскоши, Владимир Федорович! Единственно богатство мысли может дать богатство оркестровых красок. Всякое злоупотребление идет от лукавого. А мы будем древней мудрости держаться: ничего слишком! Надобно постигнуть нрав каждого инструмента, знать, где ему место предоставить, а где убрать…
– Тебе бы, Михаил Иванович, не только музыку писать, но и ученый трактат об инструментовке обнародовать.
– А зачем же о музыке рассуждения писать? Музыку слушать надобно, – говорит Глинка и, видя недоуменный взгляд Одоевского, объясняет: – Был у меня дядюшка, который это говорил, а впрочем, дядюшка не совсем прав был. Надобно нам и о музыке писать, да начинать с азов!
Глинка перевернул несколько листов партитуры.
– Глянь-ка, Владимир Федорович, как я здесь смычковыми распорядился. Смычковым, полагаю, принадлежит главное движение в оркестре. Чем больше этого движения, этаких змеиных извивов смычка, тем прозрачнее звук. В смычковых главная сила оркестра… Но довольно! Вручаю тебе партитуру и прошу – суди наистрожайше… Кстати, Владимир Федорович, читал я твою новеллу о Себастьяне Бахе. Если гению и привелось бы остаться одиноким, разве он свернет с пути? Не свернет! Никакая Магдалина его не собьет. Иначе не стать бы Баху Бахом, не так ли?
В кабинет вошла Марья Петровна.
– Ты даже не предложил Владимиру Федоровичу стакана чаю, – с ласковой укоризной говорит она мужу. – Можно ли оставлять тебя одного?
– Нельзя, Машенька, никак нельзя! Да ведь я никогда и не бываю один. Ты всегда со мной.
Марья Петровна погрозила ему пальчиком.
За чайным столом Одоевский наблюдал за хозяйкой дома. В ней появилось нечто новое – уверенность в себе: смотрите, мол, как я хороша, мне все простится! Но взор Марьи Петровны был так ясен, а улыбка так чиста, что вряд ли когда-нибудь она будет нуждаться в прощении.
Одоевский наблюдал и думал: какое счастье, если рядом с гением будет стоять не заблуждающаяся Магдалина, а верная Мария! Но Владимиру Федоровичу не терпелось поскорее остаться один на один с полученной партитурой. Он вскоре уехал.
– Наконец-то! Хоть часок побудем вместе, – сказала Марья Петровна. – Когда ты кончишь свою оперу, Мишель, мы всегда будем вместе… Ненавижу ее, разлучницу!
– Давно ли, Машенька? А помнится, ты признавалась мне, что не знаешь, кого любишь больше: меня или оперу?
– Ты ничего не понимаешь в чувствах женщины. – Ее губы приблизились к его уху. – А если я тебя ревную?
Они долго просидели в гостиной.
– Как у нас хорошо! – Мари явно наслаждалась. – Не правда ли? Мы уже можем начать приемы.
– Если хочешь.
– Но как же можно жить без приемов, Мишель? Только надобно прибавить мебели в гостиной… правда?
– Тебе виднее.
– Да, конечно. За все отвечает хозяйка дома. – Марья Петровна делает паузу. – Но у нас почти не осталось денег, мой дорогой.
Деньги! Они исчезают с непостижимой быстротой. Только на днях Глинка написал Евгении Андреевне просьбу выслать хоть что-нибудь в счет обусловленного годового содержания. Он писал скрепя сердце, но утешал себя тем, что в последний раз затрудняет матушку неурочной просьбой.
А Мари, повидимому, еще только начинала устраивать свой дом.
Давно идет зимний сезон, а у Марьи Петровны состоялись только первые званые вечера. По просьбе жены, Глинка разыскал для нее даже захудалую смоленскую графиню. Стунеевы позаботились о военной молодежи. Хозяин был со всеми любезен и радушен, но не выходил из рассеянности.
– Что с тобой, Мишель? – тревожно расспрашивала мужа Марья Петровна после разъезда гостей.
– А что?
– Помилуй! Графиня спрашивала тебя о здоровье, а ты ей в ответ: «Представьте, понятия не имею!»
– Неужто? – Глинка смеется от всей души. – Неужто так и ответил? А ведь я, представь, думал, что она меня спрашивает, по обыкновению, о каких-нибудь смоленских земляках.
– Но что подумает о тебе графиня?!
– Ничего не подумает. Никогда она этим делом не занималась. К тому же и на ухо туга. А я, Машенька, в самом деле сам не свой.
Он замолчал и стал расхаживать по гостиной, заложив руки за спину. Ходил и что-то тихо напевал. Лицо его стало почти страдальческим.
– Тебе плохо, мой друг? – заботливо опрашивает Марья Петровна.
– Ничуть! С тобой мне всегда хорошо. Не обращай на меня внимания. Дело в том, что там, в опере, – он показывает на кабинет, где лежат ноты, – там, Машенька, происходят последние трагические события. Когда я слышу голос Сусанина, у меня останавливается сердце.
– Понимаю, все понимаю, – Марья Петровна участливо заглядывает в глаза. – Но ты ведь скоро, совсем скоро кончишь свою оперу?
– Как знать, Мари!..
На следующее утро Глинка сидел за письменным столом. Зимой в Петербурге совсем поздно рассветает и незаметно подкрадываются ранние сумерки. Сквозь замерзшие окна кабинета было видно, какие новые сугробы нагромоздила на Конной площади зима. Редко пройдет прохожий, а вьюга тотчас заметет его след.
Глинка зажег свечи. Раньше чем начать писать, долго сидел, погрузившись в себя.
Сусанин завел вражью шайку в непроходимую чащу. Таинственными шорохами полон лес… Здесь в предсмертный час остается наедине с собой Иван Сусанин.
«Ты взойдешь, моя заря!» – перечитывает Глинка монолог Сусанина и так ясно представляет себе этот скорбный голос, что волосы шевелятся у него на голове. Страшен смертный час, но тем сильнее духом человек, который, преодолев страх, отдаст жизнь за правое дело.
И видится Сусанину освобожденная родина, и светлеет голос героя.
– Ты взойдешь, моя заря!.. Взойдешь над всей землей!
Вот в последний раз отвечает врагам Сусанин. С неодолимой силой звучит теперь его голос. Он победил в единоборстве! Сейчас заметет вьюга последний вражий след. Все величественнее звучит голос Сусанина.
А полно ли представлен в последних словах героя русский характер? Теперь должна прозвучать в его речи высшая правда, которая всегда побеждает всякое насилие.
Эта правда рождается от любви к родине и народу. Этой правды нет на Руси без вольнолюбивой мечты. Недаром же из века в век хранит народ песни вольницы, с которыми шли против насильников русские люди под знаменами Ивана Болотникова, Степана Разина, Емельяна Пугачева…
Глинка берет перо и заново набрасывает последний ответ Сусанина:
Туда завел я вас,
Куда и серый волк не забегал,
Куда и черный вран костей не заносил,
Туда завел я вас…
С голосом непокоримого русского человека сольются звуки оркестра. А в оркестре будет вновь отчетливо слышна вековечная песня русской вольницы, та песня, которую сложили русские люди в честь вольной Волги-матушки. Без этих песен нет полноты русского характера. Не раз звучит эта песня в опере, сложенной в честь и славу непокоримого народа.
Ты, взойдешь, моя заря!..
Глава третьяВ Петербурге много лет не было такого случая, чтобы в театр представил оперу русский сочинитель. Если же готовился обрадовать публику очередной новинкой Катерино Альбертович Кавос, то хлопот у него было не много. Полновластный распорядитель музыкального театра репетировал когда хотел и сколько хотел.
В Москве новинки русских авторов являлись чаще. Но сочинителем этих опер был преимущественно Алексей Николаевич Верстовский, тоже начальствующий в театре человек. К его услугам были артисты, и хоры, и оркестр.
У автора «Ивана Сусанина» положение было хуже. Все готовое для оперы следовало хоть когда-нибудь услышать в живом звучании. А где ему взять оркестр или хор, или хотя бы певцов-солистов?
Раньше, когда Михаил Иванович жил в Коломне холостяком, он не задумывался пожертвовать последним рублем для какой-нибудь оркестровой пробы.
Теперь не то. Проклятых денег в доме никогда нет.
А если нет денег, Марья Петровна становится такой печальной, что Глинка решительно садится за письменный стол. Но, вместо того чтобы заниматься оперой, пишет письмо в Новоспасское. Ему приходится ссылаться на дороговизну петербургской жизни, на докторов, на обзаведение мебелью и даже на собственный гардероб, пришедший в ветхость. Пусть только не подумает голубчик маменька, что ангел Мари повинна в затруднениях. Из-под его пера выливаются искренние строки, полные любви к жене.
«Полнота сердца, – пишет Глинка, – не мешает мне и рассудком поверить качества моей жены, и, кроме доброго и непорочнейшего сердца, я вижу в ней свойства, которые всегда желал найти в супруге: порядок и бережливость. Она у меня хозяюшка, смотрит сама за всем, за чаем, столом и прочее, а моя душа радуется…»
Еще много хороших слов напишет о Машеньке влюбленный муж, а отправив письмо, будет казнить себя за то, что утруждает мать просьбами.
Где же тут выкроить средства на репетиции? В ожидании счастливого часа, когда опера будет принята на театр, приходится пускаться на хитрости. Если удастся раздобыть по дешевке мальчишку певчего, да еще обладающего светлым дискантом, почему бы не попробовать с ним хотя бы плач Антониды?
Мальчишка певчий уверенно пел:
Не о том скорблю, подруженьки,
Я горюю не о том…
Надо бы явиться и подружкам Антониды.
Но приходится обходиться без хора.
В другой раз один из знакомых офицеров спел за Сусанина. Глинка умолял его не открывать этой тайны полковнику Стунееву. Иначе опасность для Сусанина была бы слишком велика.
Впрочем, опера далеко не была закончена. С репетициями можно было обождать. После Нового года матушка вышлет деньги, а расходы станут меньше, потому что затраты на обзаведение кончены. Вот тогда и примется за репетиции Михаил Иванович.
К сожалению, этим надеждам суждено было исчезнуть задолго до Нового года. Луиза Карловна, переселившись к младшей дочери, пришла к глубокому убеждению, что несчастная Мари стала жертвой обмана. Где доходы от смоленских мужиков? Должно быть, почтенная сватья совсем забыла о сыне и невестке. А могла бы, кажется, понять, чего стоит содержать в столице приличный дом, особенно если принять во внимание, что сын взял жену-красавицу. Для чего же существуют на свете мужики, если бедняжке Мари приходится считать чуть ли не каждый рубль!
Стоит Луизе Карловне заговорить на эту тему, как она начинает шипеть и булькать, будто в комнату внесли кипящий самовар.
– Что же думает, наконец, твой муж?! – восклицает Луиза Карловна, и голос ее приобретает полную отчетливость. – Я хочу спросить: что думает твой муж, мое бедное дитя?!
Разговоры эти происходили раньше либо в комнатах Луизы Карловны, либо в будуаре Мари. За последнее время они все чаще происходят в гостиной, ближе к кабинету.
Луиза Карловна говорит и говорит, а Мари уныло прохаживается по комнате, прислушиваясь к тому, что делает муж. В кабинете стоит полная тишина. Тогда Марья Петровна подходит ближе к дверям и отвечает матери, едва сдерживая слезы:
– Не смейте так говорить о Мишеле! Если бы Мишель мог, он бы ни в чем мне не отказал… ни в чем…
– Мари! – зовет Глинка.
Едва Марья Петровна входит в кабинет, он обращается к ней так, как всегда называет ее, когда хочет быть особенно ласковым:
– Машенька, радость моя, какая у тебя опять беда?
Марья Петровна долго отнекивается, потом чистосердечно рассказывает о своем горе. Все шьют туалеты к Новому году, а она уже дважды была в театре в своем новом платье и почти ничего не шьет.
– Если бы я не была твоя жена, – печально говорит Марья Петровна, – мне было бы все равно. Но ты знаешь наших модниц: они непременно осудят тебя, а я этого не перенесу.
– Ахти, какая беда! – говорит, улыбаясь, Глинка. – Новый год в самом деле на носу. Что же нам делать?
– Мне ничего не надо! – Мари вдруг зарыдала. – Ничего… Я все обдумала. Я никуда не буду ездить, и никто не посмеет упрекать тебя.
– А уж этого я не допущу! – говорит Глинка и решительно выдвигает ящик письменного стола: там хранятся деньги, отложенные для уплаты за квартиру.
Теперь он умолял Мари взять эти деньги, и Мари была вынуждена уступить.
Марья Петровна давно покинула кабинет, а комната полна запахом ее любимых духов. От духов у Глинки, как всегда, кружится голова и неровно бьется счастливое сердце.
Наступил и новый, 1836 год, но дело с репетициями так и не ладилось. Денег, несмотря на присылку из Новоспасского, стало еще меньше.
В это время Глинка и встретил московскую знакомую Пашеньку Бартеневу.
– Правду ли говорят, Михаил Иванович, что скоро мы будем наслаждаться вашей оперой?
– Я работаю над ней со всем усердием, но еще ни разу не слышал написанного мной в исполнении артистов. Вот если бы петь вам дочь Сусанина! Не представляю лучшей Антониды.
– Я непременно буду ее петь, только, увы, не в театре.
– Стало быть, запрет, наложенный на вас, так и остается в силе?
– Безусловно, – отвечала Бартенева. – Но ведь будут пробы оперы до сцены?
– Пока не вижу этой возможности, – признался Глинка. – Опера моя еще не заявлена в театре.
– Значит, непременно надо устроить домашнюю пробу. – Пашенька задумалась. – Вы знаете князя Юсупова? Князь держит целый оркестр, а мне он, надеюсь, не откажет.
И дело неожиданно сладилось. Правда, юсуповский оркестр оказался мал для оперы. Посредственные оркестранты были плохо подготовлены для исполнения сложной партитуры. Но что стоило преодолеть все эти препятствия!
Глинка почти не бывал дома. Он работал и с капельмейстером и с каждым музыкантом. Партии переписывали сразу несколько переписчиков. Глинка привел в движение всех, кто только мог помочь. Молодой музыкант, Александр Сергеевич Даргомыжский, который появлялся на музыкальных вечерах у Стунеевых, тоже получал теперь письмо за письмом: «Нужен порядочный виолончелист, а я не люблю полагаться на авось»; «Нужен приличный контрабас, усердно прошу помочь!»
Даргомыжский объездил всех знакомых музыкантов. Если бы понадобилось, он достал бы и самого дьявола, только бы попасть на предстоящую пробу. По немногим беседам с Глинкой молодой человек предвидел события чрезвычайные.
Бартенева под руководством Глинки разучивала арию Антониды, которую поет дочь Сусанина, ожидая жениха из похода.
Глинка слушал и все больше ее хвалил:
– Теперь вижу, Прасковья Арсеньевна, задалась мне Антонида. А ей и вовсе счастье привалило: этакий у вас талант!
Из любителей, собиравшихся у Стунеевых, нашелся исполнитель для Сусанина. Сам Глинка готовился петь партию удалого ратника Собинина.
Репетиции шли полным ходом. Посредственные оркестранты уже играли так, что от души хвалил их сочинитель оперы. Рядовой капельмейстер, вначале совершенно растерявшийся, приобрел уверенность. Михаил Иванович умел заразить всех своей энергией.
Проба оперы, назначенная в особняке Юсупова, состоялась в конце февраля.
Но как далека оказалась эта репетиция от самых скромных пожеланий! У Юсупова не было хора. А Глинка уже затратился на наем дополнительных музыкантов, на переписку нот. О найме хористов не могло быть и речи. Какие там хоры, если Марья Петровна не могла сшить платья к знаменательному дню!
Но, несмотря на это печальное обстоятельство, именно на ее долю выпал едва ли не наибольший успех. Сановный хозяин дома от нее не отходил. Князь никак не ожидал, что какая-то проба оперы, которой он вовсе не интересовался, вдруг подарит его таким сюрпризом: юная Психея, полная несказанной грации, появилась неведомо как в скучном собрании музыкантов.
Репетиция была закрытой. На нее никого не приглашали. Но Феофил Толстой, во-время о ней проведавший, не сводил глаз с Марьи Петровны: почему пребывала в неизвестности этакая красота?
– Так вот о чем ты рассказывал мне еще в Италии, – говорил Толстой Глинке, – и до сих пор держал свою оперу в тайне.
Толстой бросил взор на Марью Петровну: еще одна тайна раскрылась на этой музыкальной пробе. На петербургском небосклоне всходила новая звезда. Кому, как не Феофилу Толстому, модному певцу великосветских салонов, знать все созвездия, красующиеся на петербургском небе…
К пульту стал капельмейстер. Оркестр сыграл увертюру. Теперь-то и надо было явиться хорам, которым принадлежало главное место в народной опере. Но хоров так и не было. Немногие собравшиеся любители снова заинтересовались, когда вышла петь Пашенька Бартенева. Но кто не знает, что Пашенька всегда и все поет божественно!
Положительно, это была для оперы самая странная проба: в ней участвовал преимущественно один оркестр. После антракта, когда действие было перенесено в польский замок, вся зала наполнилась звуками воинственного полонеза, чтобы смениться грациозным краковяком. Раздалась наконец и блистательная мазурка.
Действие шло к кульминации. Какое-то неясное смятение расстроило течение упоительной мазурки. Но вот с новой силой звучит она. В стремительном лёте глубоко скрыта опрометчивость пагубных надежд.
Репетиция кончилась на польском акте. Публика разъезжалась. Трудно было говорить о каком-нибудь впечатлении от такой неполной пробы. Еще меньше можно было говорить о достоинствах поэмы. Сам барон Розен мог насладиться только немногими стихами из тех, которые он заготовил. Егор Федорович был подчеркнуто скромен: торжество поэта было впереди.
– Все идет прекрасно, не правда ли, Михаил Иванович? – сказал он Глинке. – Мы будем достойны друг друга. – Он почтительно поцеловал руку Марье Петровне. – О если бы моя поэма была столь же прекрасна, как вы!
Князь Юсупов провожал прелестную гостью до вестибюля и просил у нее разрешения быть с визитом.
– Какой он милый, этот князь! – сказала в карете мужу Марья Петровна.
– Подумай, Машенька, – невпопад отвечал Глинка, – я слышал оперу в оркестре, и, клянусь, мне почти нечего менять.
– Но кто же сомневался в твоем таланте! – Она искоса взглянула на мужа: «Ох, уж эти мне артисты!» – Ты слышал, что я говорила тебе о князе? Он будет у нас с визитом.
Оказалось, что Глинка ничего не слышал.
А в квартире на Конной площади снова появились обойщики, толкались мебельщики.
– Что это значит? – удивился Глинка.
– Ты, кажется, опять забыл: у нас обещал быть князь Юсупов.
– Так что же? – Глинка все еще не понимал, для чего надо поднимать такую суматоху.
– Мой друг, я не вмешиваюсь в твою музыку, но я отвечаю за приличие в доме. Довольно и того, что князю придется тащиться на Конную площадь.
Глинка опасливо наблюдал за суетней обойщиков.
– Ты, кажется, решила, что моя опера не только поставлена на театре, но и принесла нам целое состояние.
– Я хочу только чуть-чуть освежить гостиную, милый, – оправдывалась Марья Петровна. – Это такие пустяки! Разве ты не слышал, что говорил барон: пора двигать оперу на сцену!
– Барон, барон! – вскипел Глинка. – Сделай милость, уволь меня от этих разговоров.
– Мишель, ты сошел с ума! Барон, может быть, уже говорил о тебе наследнику.
– Но я-то не хочу больше слушать об его дурацкой поэме!
Марья Петровна в страхе отшатнулась.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































