Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
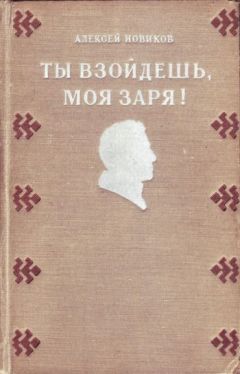
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 44 страниц)
Обряд венчания был совершен в церкви Инженерного замка. Венчал бывший пансионский учитель Глинки протоиерей Малов, тот самый важный отец протоиерей, который расхаживал когда-то в муаровой рясе среди парт и наставлял питомцев: «Смиритесь, людие!» Сегодня он тоже сказал соответствующее случаю назидательное слово.
В церкви блестели военные мундиры, звенели шпоры, благоухали дамы.. Наконец все двинулись поздравлять молодых.
Так Марья Петровна Иванова выбилась из тисков мещанства, косности и нищеты. Теперь ничто не помешает Михаилу Ивановичу Глинке быть с любимой женой. Никто не помешает беседам о музыке, о Моцарте и Бетховене, о поэтах и прежде всего о Пушкине, которого малютка Мари еще так мало знает.
В наскоро нанятой на Песках и кое-как обмеблированной квартире текут дни счастья. Правда, новобрачная не собиралась переезжать на эту случайную квартиру. Ничто не напоминает здесь о будущем величии. Но Марья Петровна готова ждать. Признаться, она никогда не предполагала, что дело с оперой может так затянуться, хотя никак нельзя упрекнуть в лености Мишеля.
За утренним кофе Марья Петровна едва успевает сообщить мужу главные новости: что она заказала на обед, как приняла отчет кухарки во вчерашних расходах.
Глинка любуется женой, не вслушиваясь в смысл ее речей.
– А окажи-ка мне: почем фунт супного мяса? – экзаменует она мужа.
– Супного мяса? – Глинка с трудом соображает, о чем идет речь. – Не знаю, ей-богу, не знаю, но я знаю другое: помнишь, я говорил тебе, что я не был счастлив в любви…
– А если я все-таки буду ревновать тебя к прошлому?
– Не стоит труда. У меня не было никого, кроме тебя. Ты моя первая истинная любовь.
– Постой, постой! – Марья Петровна отбивается от поцелуев. – Кофе совсем простыло… Пожалуйста, пей.
Он покорно пьет кофе, сваренный ее искусными руками. Мари продолжает болтать. Но она не принадлежит к числу ветреных болтушек; пусть поймет Мишель, как хорошо ведет она хозяйство. Ей во всяком случае не грозят петербургские кухарки, которые так ловко умеют обсчитывать простофиль.
А кофе уже допито. Глинка поднимается из-за стола.
– Я провожу тебя, – говорит Марья Петровна.
Они идут в кабинет. Не ахти каков этот кабинет. По мнению Марьи Петровны, он совсем не годится для знатного автора будущей оперы.
Но и в этой временной квартире Глинка сумел устроиться по-своему. Небольшая комната, отведенная под его кабинет, успела наполниться таким количеством книг, что молодая жена только удивляется: откуда приносит их Мишель? А вдобавок повсюду лежат ноты.
Марья Петровна берет изящную метелочку и смахивает с бумаг последнюю пылинку.
– Видишь, я тоже тебе помогаю, – говорит она и размахивает метелочкой с еще большим рвением.
Но прежде, чем уйти из кабинета, Мари крепко целует мужа.
– На счастье!.. На удачу!.. На любовь!..
Выскользнула из рук и убежала.
Счастливый молодожен разбирает наброски партитуры, записи тем, хоровые разработки. Рядом лежит поэма барона Розена. Кое-как закончены недавние битвы. Готов текст для трех актов: для первого действия, развертывающегося в селе Домнине, для действия в польском замке, для сцены в избе Сусанина. Ничто не изменилось в поэтических вдохновениях барона. Но не с тоской, а с видом неустрашимого борца смотрит на либретто музыкант. Музыка победит все ухищрения придворных поэтов. Силы сочинителя прибывают и никогда не иссякнут. На днях он написал в Новоспасское:
«Сердце снова ожило, я чувствую… могу радоваться, плакать – муза моя воскресла, и всем этим я обязан моему ангелу – Марии…»
Была какая-то короткая минута, когда его охватил страх за свое счастье. Это случилось в церкви, при венчании. Все было залито светом. Торжественно пели певчие. И вдруг какая-то тень пала ему в душу. Он не мог даже понять, что произошло: то ли неровно, тревожно отстучало сердце, то ли ужаснулся неведомых будущих несчастий? Он взглянул на Мари – она стояла рядом с ним в белом подвенечном наряде. Шафер гвардеец держал над ее головой массивный золотой венец. И лицо ее было так безмятежно, выражение глаз так ясно, что Глинка сразу забыл о своем смятении.
Теперь Мари с ним, и муза воскресла. Может быть, муза никогда не была так деятельна. Впереди предстояла самая важная сцена оперы – смерть Сусанина в лесу.
Молодые никуда не выезжали. Мари и это была готова терпеть… Чтобы не мешать мужу, она часто ездила к Стунеевым.
Сестры сидят и о чем-то шепчутся.
– Ты не раскаиваешься, детка, в своем выборе? – спрашивает Софья Петровна.
Мари задумывается: ей еще не все ясно. Но скоро Мишель напишет свою оперу…
– Ты, кажется, возлагаешь на эту оперу необыкновенные надежды?
– А разве это не так? – перебивает Мари. – Когда Мишель напишет свою оперу и об этом узнает государь…
– Какая ты глупышка, Мари! – Софья Петровна грустно улыбается. – Тебе кажется, что государь только и ждет оперы Мишеля, чтобы пожаловать ему княжеский титул и миллионное состояние!
– Какая ты злюка, Сонька! – Мари сердится. На ее щеках появляются красные пятна. – Ты завидуешь нашим будущим успехам!
– Я первая буду счастлива твоим счастьем, но поверь мне, детка, не следует возлагать несбыточных надежд на государя. Кому, как не мне, это знать?
Но Мари не склонна разделить печальные воспоминания сестры.
– У Мишеля столько покровителей! – продолжает Марья Петровна. – Они его не оставят!.. Не знаю только, как мне быть с бароном Розеном. Мишель вечно его бранит. Научи, что мне делать.
– Пригласи барона к себе. Твои чары всемогущи, моя девочка.
– Но Мишель ни за что не хочет звать барона…
– Поверь, он сделает это приглашение, стоит только надуть тебе губки.
– Не помогает.
– Неужто? Тогда нужно принять более решительные меры. Попробуй переехать к нам на денек-другой.
Мари краснеет.
– А! – Софья Петровна заливается благодушным смехом. – Я ведь и забыла, что ты переживаешь медовый месяц.
Алексей Степанович застал сестер за оживленной беседой.
– Ну, как идет ваша опера? – обращается он к Мари. – Скоро ли увидим афишку? Рассказывай по порядку.
Мари начинает рассказывать, но рассказ ее выходит короткий:
– Мишель сидит и пишет или ходит по кабинету и молчит.
– Так-таки ходит и молчит? – заинтересовался Алексей Степанович.
– Молчит! – подтверждает Мари.
– Великий талант! – решает Алексей Степанович. – И поверь мне: как только напишет оперу, ты сразу станешь женой знаменитого человека. Я тебе это говорю!
Мари уехала успокоенная. Но у нее появились новые заботы. Молодым надо было бы начать приемы, а Мишель торопил с отъездом в Новоспасское. Луиза Карловна тоже одобряет поездку. Она меньше всего интересуется оперой, но желает познакомиться с имениями зятя. Но ни Мари, ни Луиза Карловна не знают, какие сборы нужны для поездки в деревню. На всякий случай Мари начала с портних.
И вдруг к молодоженам нагрянул гость.
– Знакомьтесь, – сказал Глинка жене. – Мой школьный товарищ и друг Николай Александрович Мельгунов.
Мари оживилась и была так хороша за чайным столом, что гость незаметно бросал на нее взгляды, словно спрашивал: может ли жить в грешном мире эта небесная красота? Между тем Николай Александрович увлекательно повествовал о предстоящей поездке за границу. Он ехал туда, чтобы проветриться от московской плесени и одновременно слать корреспонденции в новый журнал «Московский наблюдатель».
– Кстати! – спохватился гость и побежал в переднюю за портфелем. – Позволь тебе преподнести, Глинушка, первый номер нашего журнала, украшенный твоей дивной музыкой. – Он раскрыл журнальную книжку. – Изволь взглянуть на «Венецианскую ночь».
– Как это приятно! – откликнулась Марья Петровна. – Представьте, на днях и здесь вышел романс Мишеля.
– Надобно издать собрание всех твоих романсов, Мимоза, – загорелся Мельгунов.
– Ужо!.. А что поделывает Верстовский?
– Представь, кончил «Аскольдову могилу», и не далее как осенью Москва ударит в бубен. Как бы тебе не опоздать, Мимоза?
Марья Петровна с тревогой взглянула на мужа.
– Что же мы, почтовые лошади на гоне, что ли? – Глинка добродушно усмехнулся.
Гость и хозяева перешли в кабинет. Глинка налил в бокалы красного вина.
– Рассказывай, Николаша, что обозначилось в опере у Верстовского. От немецкого романтизма излечился ли?
– Как тебе сказать? Стоит только явиться на сцену Неизвестному – и тут Алексей Николаевич охулки на руку не положит. Разумеется, есть в опере и ведьмы с колдовством. Все как полагается по законам романтизма. Но третьему акту решительно все пророчат небывалый успех. Кое-что тебе я покажу, пожалуй, а вы, Марья Петровна, милостиво простите неискушенного артиста.
Мельгунов сел к роялю.
– Если помнишь, Мимоза, – сказал он, – есть в романе у Загоскина этакий балагур Торопка-Голован. Задумывает он вернуть Всеславу похищенную невесту. На театре терем, где томится красавица и прочие княжеские наложницы. Торопке надобно усыпить бдительную стражу. Вот и поет Торопка замысловатую балладу: «Как во городе в Славянске…» – Мельгунов напел, аккомпанируя себе на рояле. – Ну-с, – продолжал рассказывать он, – песня эта захватывает стражу, и она хором присоединяется к Торопке. А Всеслав в это время и похищает невесту. Разумеется, в том же действии поют девушки, и немало.
– Покажи что-нибудь, – попросил Глинка.
– Изволь, – согласился Мельгунов. – Сколько памяти хватит, все покажу.
Мельгунов играл много, потом спросил Глинку:
– Ну, каково на твой вкус?
– Торопка поет добре, – отвечал Глинка. – Девушки поют тоже добре, только думаю я, что не с того нам начинать.
– Вот мы и подошли, наконец, к твоей опере! – воскликнул Мельгунов. – Теперь ты показывай.
Глинка сел за рояль. То играл и напевал, то опять беседовали друзья.
– Все теперь понял! – торжественно заявил Мельгунов. – И горестно, и сладко, и сердце бьется… А где же Марья Петровна? – воскликнул, оглядываясь, Мельгунов.
Хозяйки дома уже не было в кабинете.
– Ты должен простить Мари, – объяснил Глинка. – Она захлопоталась со сборами в деревню, а мы до глубокой ночи заигрались.
Глинка встал и закрыл крышку рояля.
– Глинушка! – в каком-то отчаянии воскликнул Мельгунов. – Да при чем тут время? Ты, надеюсь, не кончил?
– Кончил, – решительно сказал Глинка. – Пора и честь знать.
– Все равно не уйду, – объявил гость. – Ты мне хоть по нотам рассказывай.
Мельгунов долго рассматривал наброски и отработанное.
– Все у тебя какое-то совсем непривычное, – сказал он. – И очень уж учено. Что ж ты, у немецкого учителя руку набил?
– Постиг я у Дена великие хитрости немецкого контрапункта, – отвечал Глинка, – и всегда буду величать его первым знахарем в Европе. Однако честно тебе признаюсь: хоть он мне многие правила собственноручно в тетрадку записал, но мне они не пришлись ко двору.
– Откуда же у тебя этакое? – Мельгунов указывал то на увертюру, то на интродукцию оперы, то на польские танцы, то снова возвращался в избу Сусанина. – Откуда, Мимоза, все это?
– Сообразил, – с серьезным видом ответил Глинка. – Всю жизнь соображал, а мне, представь тридцать первый год пошел!
Встречи продолжались и в следующие дни.
– Ты еще ничего не играл мне из сцены в лесу? – спросил Мельгунов.
– А ничего еще и нет, – отвечал Глинка. – Мыслю две сцены. Собинин с крестьянами идет на поиски Сусанина. И другая задумана. Та, в которой Сусанин примет смерть за родину.
– Неужто смертью героя и кончится опера?
– А помнишь наш московский разговор? – в свою очередь спросил Глинка. – Тот, что мы с тобой на Красной площади вели? В эпилоге помещу гимн русскому народу.
– Гимн? Стало быть, опять наперекор пойдешь? Львовского гимна не признаешь?
Мельгунов говорил об официальном гимне, недавно введенном в России. Музыку этого гимна написал Алексей Федорович Львов, с которым в давние годы встречался Глинка.
– А тот гимн для казенных надобностей писан, – равнодушно отвечал Михаил Иванович. – Немецкая музыка, и предназначена для высокопоставленных ушей.
– Так судишь?
– А как же иначе, Николаша! И мне придется через казенную словесность пробиваться. Жуковский к львовскому гимну приладил стихи «Боже царя храни», а мне тот же Василий Андреевич для эпилога оперы такие вирши представил…
Глинка поискал на столе и прочитал:
Ура царю!
Воссел во славе он
Воссел на трон,
На славный русский трон!..
– А я все эти «ура» взял да и прочь смахнул… Тоже, брат, не лыком шит.
– А для гимна у тебя что-нибудь есть?
– Наброски есть, а окончательного ничего нет. Одно могу сказать: и с Львовым и с Жуковским окончательно разойдемся.
– А я тебе, Мимоза, обещаю и клянусь: едва приеду на место, буду писать о твоей опере статью. Коли музыке пора балагурить перестать, то и критике не к лицу в нетях оставаться.
Мельгунов уехал за границу. У Глинок продолжались сборы в Новоспасское. И то ли виноваты были портнихи, то ли модистки, в доме обнаружились денежные затруднения. Марья Петровна не столько огорчилась, сколько удивилась. Налетело легкое облако и уже готово было кинуть тень на семейное счастье, но столь же бесследно исчезло. Большое благородство проявила при этом и Луиза Карловна. Она утешала дочь тем, что, будучи в Новоспасском, Мишель обязательно получит от матушки солидную сумму. По настоянию той же Луизы Карловны решено было ехать через Москву. Она считала необходимым нанести визит какому-то важному родственнику.
– До отставки, – объясняла Луиза Карловна, – мой дядя служил в кригскомиссариате.
Можно ли было ей возражать?
Стоял май. Глинки отправились в деревню. И чем дальше позади оставался Петербург, тем приветливее встречала путников весна. За столичной заставой она уже походила на лето. В карете были настежь открыты окна. Даже Луиза Карловна ограничилась только тем, что куталась в пуховый платок, презрев теплый плед.
Поездка всех освежила. Мари смотрела в окно. Можно представить себе удивление и восхищение юной дамы, никогда не покидавшей Песков. Но мысли ее неслись не к Новоспасскому, а назад, в Петербург.
Вопреки соображениям Луизы Карловны, легкомысленная Мари нисколько не интересовалась имениями Мишеля. Опера, одна только опера владела ее помыслами.
А сам сочинитель оперы, выехав из Петербурга, словно совсем о ней забыл. Глинка был оживлен, много рассказывал Мари и то смешил ее, то, набрав каких-нибудь придорожных цветов, открывал ей такой же удивительный и неведомый мир, как и тот, по которому путешествовала Марья Петровна.
Громоздкая карета медленно тащилась по тракту. Путешественники были под Новгородом.
– Что это там вдали, Мишель?
Марья Петровна обернулась к мужу и увидела в его руках нотный альбом и карандаш. Он быстро писал.
– Погоди, погоди! – отвечал он жене, не отрываясь от альбома. Потом еще раз пробежал запись. – Теперь изволь, дорогая, спрашивай. Видишь ли, в опере моей должен быть девишник. Вот девушки и идут на него в избу Сусаниных, не подозревая, что там случилась беда. Идут девушки и поют… Вот мне и спелась сейчас эта песня.
– Как это хорошо, Мишель, что ты умеешь сочинять даже в дороге! А я так боялась, что путешествие остановит твою работу. Ты ведь скоро кончишь свою оперу? Да?
Он не мог ответить на этот вопрос при всем желании.
Ты взойдешь, моя заря!
Глава перваяВ московском Большом театре репетировали «Аскольдову могилу». Премьера была отнесена на осень, однако опера Верстовского уже стала событием. В Москве трудится на благо родины создатель народных романсов. В Москве же родилась и долгожданная русская опера. Чего стоит одно сочетание имен: поэма Загоскина, музыка Верстовского!.
Ценители изящных искусств, обитавшие в московских особняках, готовились к наступлению. Правда, торжественная премьера была отложена на осень, но уже состоялись открытые показы и мнение московских патриотов сложилось окончательно.
И тут-то прянул гром с ясного неба. Критик «Московского наблюдателя», укрывшийся под псевдонимом, воспользовался оперой, чтобы пустить ядовитую стрелу в Загоскина:
«Глубок ли источник, из которого музыкант черпал вдохновение для своих идей?»
Поставив этот вопрос, автор рецензии немедленно поднимал забрало.
«Что за несчастье, – писал он, – произведение искусства, где допускается деспотизм бессмыслицы… Важно, – продолжал критик, – чтобы любое содержание опиралось на предание и поверье народное».
Отсюда и следовал вывод, убийственный для автора поэмы:
«Если в опере нет понятия, в какой стране, под каким небом происходит действие, то и под звуки русских песен почудится мне сцена из «Фрейшюца», а герой, которого вы называете Неизвестным, будет сродни Роберту».
«Итак, оставляем пьесу, – заключал автор статьи. – В ней ни интереса исторического, ни преданий, ни интереса естественного, ни причины, ни связи…»
Вот, казалось бы, и весь вывод. Но не кончены счеты с автором поэмы.
Опера Верстовского, написанная на текст Загоскина, давала возможность вернуться еще к одному острому вопросу.
«На сцене, – писал критик «Московского наблюдателя», – звучит похвальное слово кулаку, которое с некоторых пор слишком часто встречается в нашей литературе. Неужто это народность? Русский человек не забияка и не грозит никому. На начинающего бог! – вот правило, с которым он прошел всю историю свою. Уверять его, что его и меч не рубит и пуля не берет, что у него кулак стоит ваших мечей, – смешно и больно. Это ребяческая народность. Нам ли теперь хвалиться преимуществами дикости, когда и враги стыдятся назвать нас варварами…»
Вот какие строки должен был прочитать о себе Михаил Николаевич Загоскин. Его, признанного патриота, уличали в похвальбе дикостью, ему приписывали такое оскорбление русского народа, на которое решится не каждый враг. Критик «Московского наблюдателя» с негодованием отвергал ту самую народность, за которую автору «Юрия Милославского», «Рославлева» и «Аскольдовой могилы» накурили столько фимиама.
Так обстояло дело с поэмой, которая увлекла Верстовского. Но тот же критик, который обрушился на Загоскина, оказался весьма сговорчив в оценке музыки «Аcкольдовой могилы». Правда, он писал, что приверженность Верстовского к романтизму приводит к неясности музыкальных идей.
«Ну и что из того, – неожиданно заключал рецензент, – если у него все, что называют песней, романсом, прекрасно, если музыкант уловил тайну музыкальной народности…»
Критик «Московского наблюдателя» очевидно противоречил сам себе. Он забыл свой собственный вопрос, поставленный в начале статьи. Если совсем не глубока, попросту фальшива поэма оперы, которой вдохновлялся музыкант, то как же могла открыться тайна музыкальной народности? Если песни, столь обильно присутствующие в опере, не отражают главного в народной жизни, то как может отразиться в них истинная народность?
Статья «Московского наблюдателя» не давала ответа на все эти вопросы и наглядно свидетельствовала о том, что многие истины, высказанные в словесности, все еще оставались нераскрытой тайной в рассуждениях о музыке.
Поклонникам Загоскина в свою очередь было мало дела до музыки «Аскольдовой могилы». Они видели в ней пышное цветение сарафанов и балагура Торопку. В музыке не звучал ни один голос из тех, которые могут быть неприятны для барского слуха. В опере погибал лютой смертью подстрекатель к бунту «Неизвестный».
Правда, многие напевы оперы были, несомненно, ближе к народным песням, чем псевдонародные герои Загоскина. Автор оперы кое в чем ушел от фальшивой поэмы. Музыка попыталась занять промежуточную позицию, но… оказалась между двух борющихся лагерей.
Михаилу Глинке, когда он проездом побывал в Москве, не пришлось ознакомиться с «Аскольдовой могилой». А когда разыгралась буря, поднятая «Московским наблюдателем», он давно был в Новоспасском.
С утра он усаживался в той самой зале, в которой стоял памятный с детства рояль Тишнера. Когда-то именно здесь он готовил музыкальные уроки для гувернантки и впервые ощутил сладостное недоумение: на подставке стояли ноты, по которым он начал разыгрывать какую-то увертюру, а он оторвался от нот и пошел неведомым путем. Вскоре то же самое случилось с очередной сонатиной. Первые робкие шаги, как вас забыть?
Теперь он снова сидел в новоспасской зале и, пристроившись за столом подле окна, склонялся над большими листами партитуры. Теперь он знал, куда пришел.
Зала с утра была пуста. Евгения Андреевна занята хозяйством. Луиза Карловна знакомится с имением. Издали смоленский замок казался ей гораздо величественнее. Оказывается, здесь нет ливрейных лакеев! И – какой ужас! – в господский дом приходят настоящие мужики. Луиза Карловна осматривает каждого из них: ведь теперь они принадлежат ее дочери. А Мари так молода и неопытна…
Луиза Карловна вздыхает от предчувствия забот, потом продолжает подробный осмотр дома: интересно знать, в каких сундуках хранит капиталы уважаемая сватья?
Марья Петровна совсем не разделяет волнений матери. Окруженная сестрами мужа, она продолжает с ними оживленный разговор.
– Когда вы приедете к нам в Петербург, – говорит Мари, – вы сами увидите, как живут в столице, и вы поймете, что значит прозябать в деревне. Вы разрешите мне протежировать вам, мои дорогие? А когда Мишель напишет оперу…
Новое вдохновение нисходит на Мари.
– Вы слышите? – она указывает пальчиком по направлению к зале.
Оттуда слышны звуки рояля.
– Это именно из оперы, – продолжает Мари. – Теперь уже совсем недолго ждать!
Постепенно в залу сходится вся семья – кто с книгой, кто с вязаньем. Все говорят наперебой и все друг друга унимают:
– Тише, не мешайте Мишелю!
– Пожалуйста, не стесняйтесь. – Глинка отрывается от работы. – Чем больше вы будете болтать, тем скорее у меня пойдет.
Чувство благодарности к Мари переполняет его душу. Милая Мари! Она так ласкова с матушкой, она так быстро сроднилась с сестрами, будто всегда жила в Новоспасском.
И воскресшая муза не знает усталости.
– Послушай, Машенька, – говорит Глинка жене, оставшись с нею в зале.
Сев за рояль, он напевает:
Не томи, родимый,
Не круши меня…
– Что это?
– Это из нового трио в первом акте, – объясняет Глинка. – Антонида и ее жених молят у отца согласия на свадьбу… Давно запала мне в голову эта мысль. Она мучила меня с тех пор, как я тебя полюбил и каждая минута без тебя была нестерпима. Но, странное дело, только теперь отлилась музыка со всей полнотой.
– А та песня, которую ты придумал под Новгородом? – вспоминает Марья Петровна. – Помнишь, про девишник.
– Изволь!
Он играл ей девичий хор. Нельзя сказать, чтобы Марья Петровна очень интересовалась музыкой оперы. Она каждый раз оживлялась лишь, когда муж исполнял танцы из польского акта. Тогда молодая женщина закрывала глаза, чтобы полнее отдаться этой обольстительной музыке.
– Что ты? – Мари открыла глаза и посмотрела на мужа.
– Мазурка кончилась, Мари.
– Как жаль! А мне вдруг показалось… – Она провела рукой по лбу, словно желая отогнать какие-то видения. – Пожалуйста, прикажи зажечь огонь!
Глинка сам зажег свечи на рояле. Мари перевела глаза на жалкие огоньки. В ее потемневших глазах светились отблески других, волшебных огней. Она сидела близко к мужу, по-детски шевеля губами.
– Как ты думаешь, – вдруг спросила Марья Петровна, – государь хорошо танцует?
Только она одна умела задавать такие неожиданные и удивительные вопросы. Глинка до сих пор к ним не привык.
– Почему это пришло тебе в голову? – Он залился смехом, глядя на растерянное лицо жены.
– Очень просто, мой глупенький! Вдруг на бале в Зимнем дворце грянет твоя мазурка? Или полонез? – Она крепко обняла его и говорила между поцелуями: – Разве мне, твоей жене, нельзя и помечтать о будущем?
Каждое утро он усаживался за партитуру, занося в нее окончательно отделанное. Муза его была попрежнему воинственного нрава. И это как нельзя лучше отражалось на нотных листах. Вот она, бескрайная Русь! Косогоры да избы, крытые соломой. И нет ей конца, как нет конца песням. Но вот встает народ, движимый единым порывом, и тогда смятение происходит в пышных замках. Померкнут их ослепительные огни, а свет, который зажегся в русской избе, будет вечно сиять над миром неугасимой правдой.
Усталый и довольный работой, Глинка водил жену по заповедным местам. Ему непременно хочется показать ей те заросли в парке, в которые забирался он со скрипкою в руках.
– А вот здесь, – он внимательно оглядывает берег Десны, – да, именно здесь я любил слушать нянькины песни.
И куда бы они ни пришли, везде и всюду у него воспоминания.
– Пойдем, Машенька, в село, – предлагает Глинка.
– Опять в село? – удивляется Мари.
– Там моя консерватория… И там, и там! – он показывает на село и на заречные луга.
С лугов доносится песня.
– Слышишь? – говорит Глинка. – А пойдем на село – опять будут петь…
Но Мари устала от блужданий.
– Нас, наверное, ждут к ужину. – Она наклоняется к мужу. – Пристало ли нам, словно влюбленным, бродить в потемках?
Марья Петровна никак не может привыкнуть к ночной темноте. Больше всего ее и удивило, пожалуй, в Новоспасском, что в деревне не зажигают фонарей, как на петербургских улицах.
– Идем домой, милый,, – говорит Мари и берет мужа под руку.
Сквозь гущу парка светятся окна столовой. Между многих голосов слышится чей-то знакомый мужской голос.
Едва успевают они войти в столовую, Глинку радостно приветствует Карл Федорович Гемпель, сын органиста из Веймара, промышляющий музыкой в Смоленске.
Карл Федорович уже знает о задуманной Глинкой опере. Но он слышал кое-что важное в Смоленске. Карл Федорович не может утерпеть:
– Вы слыхали, Михаил Иванович, что в Москве делает много шуму опера Верстовского?
– Ничего не слыхал.
– О! – Карл Федорович поражен. – Его уже обгоняют, а он ничего не слышит и не видит. Москва уже имеет свою русскую оперу… Как это называется по-русски?.. Чья-то могила…
– «Аскольдова могила», Карл Федорович!
– Опять обман! – возмущается Гемпель. – Он сам все знает!
– Ничего не знаю, сделайте милость, расскажите!
– Говорят, там кто-то кому-то грозит кулаком, – объяснил Карл Федорович. – А я думаю так: господин Верстовский плохо знает правила музыкальной грамматики, и оттого у него много лишних нот: бум-бум! Но я имею один журнал, – вспоминает рассказчик, – и вы лучше меня поймете, зачем понадобился музыке кулак.
Так к Глинке попал номер «Московского наблюдателя».
А в Москве шел все тот же спор о народности. В свет вышла очень скромная по объему книжка стихов воронежского мещанина, сына прасола Алексея Кольцова. Столь необычная для поэта профессия уже не была диковиной. В поэзии и раньше появлялись люди из простонародья. Таков был подгородный петербургский крестьянин Слепушкин. Переметнувшись на торговые дела, Слепушкин охотно славил в стихах труд счастливого земледельца и радость крестьянского бытия. Стихи были так же бесталанны, как и благонамеренны. Журнальные баре с надеждою ухватились за Слепушкина. Вот живое подтверждение истины: русский простолюдин всегда доволен судьбой, а сердце его преисполнено благодарностью.
Кольцов тоже принадлежал к людям из народа. Он окончил приходское училище, то есть выучил букварь и четыре правила арифметики. Но талант этого самоучки был так ярок, мысль так непосредственна, а стихи так свежи, что молодые люди из Московского университета, собиравшиеся у Станкевича, не пожалели ни средств, ни энергии, чтобы выпустить в свет песни Кольцова.
«Вот этакую народность мы высоко ценим, – немедленно откликнулся в печати Виссарион Белинский. – По крайней мере до сих пор мы не имели никакого понятия об этом роде народной поэзии, и только Кольцов познакомил нас с ним… Кольцов является в то время, когда хриплое карканье ворона и грязные картины будто бы народной жизни с торжеством выдаются за поэзию…»
Вопрос о народности так и не сходил с журнальных страниц. Автор драмы «Дмитрий Калинин», сменив перо драматурга на меч критика, яростно нападал на тех, кто подменял истинную народность грязными картинами, не имеющими ничего общего с народной жизнью. В народной жизни властвовали гнет и насилие. Но в народе жила ненависть к настоящему и неугасимая вера в будущее. Об этом нельзя было писать открыто. Но именно от этих мыслей рождалась истинная народность искусства.
Книжка «Московского наблюдателя» мирно присоединилась ко многим другим книгам, накопленным Глинкой в Новоспасском, а сочинитель «Ивана Сусанина» с ненавистью вглядывался в немецко-русские вирши Розена. Что, если найдется критик, который, не зная истории создания героико-трагической народной оперы, поставит и ему, Михаилу Глинке, суровый вопрос: глубок ли тот источник, которым он вдохновлялся? Поэма барона Розена превращалась в тяжкую цепь. Ею пытаются сковать музыку, вылившуюся из самых сокровенных глубин сердца, родившуюся от лучших помыслов о народе.
А Карл Федорович Гемпель с жадностью набросился на партитуру «Ивана Сусанина».
– Вот это и есть русский контрапункт, Михаил Иванович, о котором вы говорили мне и именно в этом доме?
– Я не отказываюсь ни от одного слова. Но вы, Карл Федорович, смотрите, как сочетаются звуки, а надобно судить о том, как отражается в этих звуках русская жизнь.
– Карл Гемпель плохой судья в этом вопросе. Но он с несомненностью видит, что все здесь написанное очень учено.
– А зачем бы нам, русским музыкантам, прибедняться?
Карл Федорович открыл листы интродукции.
– Если я не ошибаюсь, – продолжал допрашивать он, – эти русские хоры идут фугою. Но русские мужики, на которых вы всегда ссылаетесь, Михаил Иванович, не учились у Баха.
– А если гений нашего народа издавна пользуется этой формой в своих хорных песнях? Ни величие Баха, ни русская музыка, ничуть не пострадают от этой фуги.
– Стало быть, русская фуга? – Гемпель недоверчиво смотрит в партитуру.
– Русская музыка, Карл Федорович, и все этому подчинено!
Подобные разговоры происходили почти каждый день. Карл Федорович приходил с какими-нибудь новыми сомнениями.
– Я понимаю кое-что в партитурах, – начинал он издалека, – ибо я есть сын органиста из Веймара, – но и сам бог, если он что-нибудь понимает в музыке, скажет вам, Михаил Иванович, что эта партитура не похожа ни на одну оперную партитуру в мире.
– Экая беда! – Глинка покосился на собеседника. – Но как же нам, Карл Федорович, быть, если хотим всюду быть русскими?..
Лето повернуло на осень. Все больше было на столе готовых партитурных листков. Прогулки стали короче. Марья Петровна попрежнему боялась темноты и каждого шороха. Глинка работал, не считаясь с временем. В далеком Домнине, в избе Сусанина, уже завязался трагический узел. Глинка писал ответы Сусанина незваным гостям. В музыке прорастало едва видимое зерно – предвещение славы герою.
Глинка оторвался от работы, встал и открыл дверь на террасу. Закатное солнце заливало парк не по-осеннему жаркими лучами. Глинка всматривался в даль, и снова слышался ему будущий светоносный гимн народу Сусаниных.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































