Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
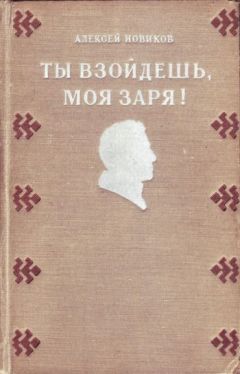
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 44 страниц)
– «…Услад ехал на свидание с Марией…» – Глинка перевернул страницу и усмехнулся. – Нет, ничего не выжмешь из этой сентиментальной чепухи!
– А я и то дивлюсь: зачем тебе понадобилась сия ветошь? Пожалуй, сам Жуковский отказался бы теперь от своей «Марьиной рощи». – Мельгунов взял у Глинки книгу и заглянул в конец повести. – «И поехал Рогдай в стольный Киев-град к князю Владимиру, к богатырям Илье, Чуриле, Добрыне…» Ну, не Жуковскому писать о русских богатырях.
– В том вот и дело, – подтвердил Глинка. – А мне все думалось: не найду ли в повести хоть какие-нибудь картины богатырской жизни богатырского народа? Плохо мое дело: ни сюжета, ни поэмы для оперы нет! А воображение не ждет, и жизнь нас, музыкантов, торопит. Все еще норовим русский характер в кадрили представить. Или сочиним дурацкие куплеты и любуемся: вот он, мол, каков наш русский мужик, – всем доволен!
– И Пушкин замолк, – с сокрушением отозвался Мельгунов.
– Статочное ли дело?
– Слышно было, – продолжал Мельгунов, – что собрался отвечать Александр Сергеевич Загоскину еще на «Рославлева». Но в свет ничего не вышло. А теперь жди «Историю Пугачева».
Глинка покосился на Мельгунова.
– Стало быть, не безмолвствует народ?
– Не знаю только, как Пушкин Пугачева через цензуру протащит. Если такое и случится, ей-богу, только Пушкину по плечу! На страх всем продажным перьям – шасть в словесность Пугачев: а про меня, мол, Пугача, забыли? А впрочем, гадательно! Весьма гадательно!
Глинка, слушая приятеля, подошел к фортепиано, стал листать тетрадь романсов и песен Мельгунова. Перелистал, положил на место и глянул на автора.
– Ну, что? – встрепенулся Мельгунов. – Говори!
– Да сказывал я тебе.
– Ты, сделай милость, обстоятельно расскажи. Хватит с меня недомолвок и присказок.
– В таком случае изволь. Вот ты песни для трагедии «Ермак» сочинил. Положил ты на музыку и пушкинские стихи. А промышлял кое-какими попевочками из тех, что сами в уши лезут. В том-то и беда, что эти ходячие романсы хоть от немецких песен отстали, да к нашим не пристали. Не выйдет, милый, дело, пока, подобно Ермаку или Пушкину, не проложишь своей, русской дороги. Или охота тебе быть во всеядных любителях?
– Да мы все и во всем любители, – неожиданно и с охотой согласился Мельгунов, – начиная с игры на фортепиано и кончая игрой в промышленность.
– Охоч же ты на капитуляции! – Глинка неудержимо рассмеялся. – Думаешь, угрем у меня из рук уйдешь? Нет, брат, сам хотел дельного разговора, так изволь слушать до конца. Помнишь, я писал тебе о нашей национальной музыке?
– Ничего ты мне не писал, – съязвил Мельгунов.
– А не писал, так на днях говорил.
– И все-таки не добьюсь я от тебя толку, Мимоза: что же это за русская музыка, русская музыкальная система?
– Для примера, послушай, что я на днях сообразил. Представь себе: беда на Руси; колеблются основы государства, как это было во времена Минина или хоть при Бонапарте, и в Москве засел враг; вот в это время и встает народ. Слова могут быть разные, а смысл один…
Он стал играть.
– Не знаю, с чем твою музыку сравнить…
– А ты не сравнивай, – Глинка на минуту оторвался от фортепиано. – Суди, как слышишь.
Он опять весь ушел в музыку. А когда кончил, сказал, весело потирая руки:
– А контрапунктик-то каков, а?
– Но ведь ты говорил о русской музыкальной системе!
– О ней и говорю. Изучи до глубины самый состав наших песен и исполнение их умельцами. Тут все важно: каждое придыхание, каждая светотень, переход от грустного к живому, от громкого к тихому, всякая неожиданность в течении напева. Это тебе раз. А второе – изучи в нашем хорном пении особую гармонию, не основанную ни на каких принятых правилах. Вот тебе и система русской мелодии и гармонии. И еще одну заповедь помни: творит музыку народ, мы, артисты, только ее аранжируем. Коли этого не поймешь, будешь из собственного пальца высасывать. Многие, конечно, и к этому охочи.
– Постой, постой… Как ты говоришь? – переспросил Мельгунов. – Этакая у тебя, Мимоза, глубина мысли! Дай-ка запишу на случай.
Разговор продолжался до вечера. А вечером у Мельгунова было назначено литературное чтение. Николай Павлов должен был прочесть свою новую повесть. В ожидании гостей Мельгунов с воодушевлением рассказывал о нем Глинке. По происхождению крепостной, Павлов был отдан в театральную школу. Допущенный в общество, где велись дебаты о художествах и прогрессе, он либо принимал участие в этих спорах, либо прислуживал за обедом своему просвещенному меценату. Не удержавшись на театральных подмостках, молодой человек попал в канцелярию надворного суда и одновременно, как поэт и переводчик, печатавшийся в журналах, был допущен даже в салон княгини Волконской.
– А самое удивительное, Мимоза, – закончил Мельгунов, – этот потомок крепостных рабов окончил Московский университет! – Следя за впечатлением, которое должны были произвести его слова, Николай Александрович добавил: – Вот какие люди приходят в словесность.
Вечером вместе с Павловым в кабинете Мельгунова появилось несколько молодых людей. Стали съезжаться гости, званные хозяином. Степан Петрович Шевырев, уже по-профессорски застегнутый на все пуговицы, завладел Глинкой.
– А что сталось с княгиней Волконской? – спросил у него Глинка.
– Княгиня переходит в лоно католической церкви, – отвечал Шевырев. – Но кто осудит эту возвышенную душу? Для общения с богом ей нужны те прекрасные формы, которыми обладает католический ритуал.
Глинке хотелось знать подробности этой печальной истории гибели таланта. Но уже начиналось чтение другой повести, и все разговоры смолкли.
– Я хочу предварить свой рассказ коротким пояснением, – сказал Павлов. – Не воображение, но жизнь подсказала мне сюжет. Думали ли вы, господа, о наших талантливых и образованных простолюдинах, пребывающих в рабстве? Напомню недавний случай. Музыкант графа Каменского, получивший образование в Лейпциге, был жестоко высечен деспотом. Загляните в кулисы наших театров. Многие являющиеся на сцене во всем блеске искусства могли бы рассказать вам повесть своей жизни, от которой застынет кровь у самых равнодушных. Обратитесь, наконец, к свежему газетному листу. Невежество и алчность ведут бесстыдный торг людьми. Если значится коротко, что продается флейта или контрабас, мы все хорошо знаем, что за этими названиями бездушных предметов стоят, ожидая продажи, живые люди.
Сочинитель говорил свободно, без аффектации, лишь изредка подчеркивая речь выразительным жестом.
– Итак, господа, – заключил Павлов, – приношу на ваш благосклонный суд мою повесть «Именины».
Действие повести развертывалось стремительно. Выдающийся крепостной музыкант сопровождает своего барина-мецената при поездке в деревню. Происходят встречи артиста с соседними помещиками. Возникает его любовь к барышне-дворянке, наделенной чуткой душой. Александрина платит взаимностью. Но едва узнает она, что ее избранник раб, – от ужаса впадает в глубокий обморок. В поисках воли артист бежит от своего барина. Следуют скитания, солдатчина. В награду за храбрость, проявленную на Кавказе, беглый крепостной получает чин офицера и благодаря этому становится свободным человеком.
Чтение повести близилось к концу. Герой снова нашел свою Александрину, превратившуюся в скучающую жену скучающего помещика. Прошлое неожиданно встало перед ней. Может быть, и проснулось бы теперь ее сердце, которое в ужасе отшатнулось от любви раба. Но автор спешит опустить занавес – героя повести убивает на дуэли муж Александрины.
Останься герой повести рабом, покончили бы с ним либо на конюшне, либо забили его шпицрутенами в полку, а может быть, и сам он накинул бы себе петлю на шею. В повести «Именины» бывший раб «почетно» умер на дуэли. Но трагический смысл произведения от этого не менялся.
– Ты мужественно взялся за самый роковой вопрос, заглянул в самую сердцевину жизни, – говорил автору студент, размахивая трубкой. – Писатель, имя которого мы произносим с опаской и шепотом, еще в прошлом веке первый воззвал к обществу: смотрите, какова судьба мыслящего существа, пребывающего в рабстве!
– Но Радищев, – перебил кто-то из присутствующих, – взывал не только к обществу, но и к простолюдинам: «О, если бы рабы разбили головы господ своих!» Помнится, так писал Радищев?
Студенты снова зашумели: а давно ли ходила в университетских номерах драма «Дмитрий Калинин», автор которой бичевал те же проклятые законы рабства?
– Господа! – Мельгунов тщетно пытался управлять прениями. – Николай Филиппович, несомненно, хочет послушать наше мнение о литературных достоинствах его повести.
– Да что и говорить о них, когда все описано с натуры! – решительно заявил студент, который начал диспут. – Печатай, Николай, и первый экземпляр пошли Загоскину, а второй – Кукольнику в Петербург.
– Зачем же забывать Булгарина? – среди общего смеха вставил Мельгунов. – Он вам, Николай Филиппович, тотчас укажет, что повесть ваша родилась не от русской действительности, но от дьявольских якобинских идей.
– Мне кажется, – веско сказал Степан Петрович Шевырев, который до сих пор не проронил ни слова, – что мы присутствуем при напрасном кипении страстей. Читанная повесть прежде всего есть произведение искусства, решительный ее слог – редкое явление в нашей вялой прозе. Не так ли, господа?
Похвалив сочинителя, Степан Петрович привлек общее внимание.
– Этот яркий эпитет, – продолжал Шевырев, – эта отточенная фраза, все это у нас как-то ново и свежо! – оратор глянул снисходительно на Павлова. – Можно сказать, ваш слог – это слог Шатобриана по щегольству и отделке, но украшенный простотой.
Воодушевившись, Степан Петрович перешел к сравнениям из немецкой словесности. В его искусной речи потонуло наконец все содержание повести. Молодой профессор обошел молчанием трагедию крепостного артиста. Шевырев еще больше воодушевился, когда призвал автора и всю русскую литературу избегать крайностей и брать только типические явления. Повидимому, участь крепостных вовсе не представлялась ему таким типическим явлением для искусства, призванного служить прекрасному.
Едва Шевырев успел кончить призывом к вечным и высоким идеалам искусства, Глинка подошел к Павлову.
– Искренне жалею, что, живя с вами под одной крышей, я не был раньше знаком с вашей повестью. Зато сегодня вы доставили мне истинное удовольствие.
– А Николай Филиппович сам имеет на тебя виды, – вмешался Мельгунов. – Почитая твой великий талант, он мечтает о том, чтобы ты положил на музыку его стихи.
– Я почел бы за честь, – отвечал Глинка, – отблагодарить автора «Именин».
Мельгунов пришел в полный восторг от такой податливости. Он тотчас вручил Глинке журнал со стихами Павлова «Не называй ее небесной…»
– Попробую, непременно попробую, – сказал, прочитав, Глинка.
– Садись немедля, – приказывал Мельгунов.
– А почему бы и нет? – Глинка снова удивил своего приятеля. – Позвольте мне уйти к себе, и если муза моя заговорит…
Литературные споры возобновились с новой силой. Сочинителю «Именин» предрекали блестящее поприще. Ему прочили место в первых рядах русской литературы. Никто не думал о том, что повести Павлова, едва выйдя в свет, привлекут внимание самого императора и подвергнутся запрету. Молодые поклонники писателя, вышедшего из крепостных, были полны самых радужных надежд.
Должно быть, и Глинка, удалившись к себе, испытал необыкновенный подъем. Муза заговорила.
Гости еще не разошлись, когда он вошел в кабинет Мельгунова с нотными листами.
– Стало быть, сейчас и исполнишь? – Мельгунов не верил собственным глазам.
– Если собранию будет угодно прослушать мой экспромт…
Она безгрешных сновидений
Тебе на ложе не пошлет
И для небес, как добрый гений,
Твоей души не сбережет.
Музыка, названная сочинителем экспромтом, лучше слов говорила о силе земного человеческого чувства. От куплета к куплету повышалось общее внимание. А Глинка, оканчивая романс, еще раз вдохновенно повторил так задавшийся ему припев:
Не называй ее небесной
И у земли не отнимай!..
– Печатать! Немедля печатать! – кричал в восторге Мельгунов. – Надеюсь, что теперь ты уж не будешь возражать? Иначе завтра же будет списывать вся Москва.
– Ну что ж, – отвечал Глинка, – будем печатать. – Он многозначительно поглядел на Мельгунова, как бы напоминая недавний разговор. – Только не превратиться бы в фабриканта романсов.
Он собрал свои листы и обратился к Павлову:
– Пересмотрю завтра пьесу и буду просить вас принять мой скромный дар в память о столь знаменательном вечере…
По свойственной Глинке нелюбви к излияниям на людях он не сказал, какую бодрость почувствовал сам. В русском искусстве поднимались новые силы.
Глава седьмаяЖизнь в Москве проходила в той же толчее. Если не собирались у Мельгунова, он возил Глинку к знакомым.
Правда, музыкальных собраний было не много. Москва по-летнему опустела. Глинка тоже собирался уезжать.
В один из жарких дней Мельгунов вернулся из города раньше обыкновенного.
– Что с тобой? – опросил его Глинка. – Или заболел?
Николай Александрович отрицательно махнул рукой, долго и жадно пил воду.
– Полиция арестовала студентов, – сказал он. – Может быть, взяли кого-нибудь из тех, кто был у меня на чтении «Именин». Вот тебе и именины, Мимоза!
Постепенно выяснились подробности. Студенты были арестованы за пение вольных противоправительственных песен на вечеринке.
Император Николай не закрыл Московский университет. Но действовал отданный им приказ о длительном и неослабном надзоре за университетскими. В студенческих кружках орудовали секретные агенты, появились провокаторы. В лапы полиции между прочими студентами попал Николай Огарев. Его связи привели к бывшему студенту Московского университета, титулярному советнику Александру Герцену.
По городу в связи с этими арестами ходили зловещие слухи. И чем больше подробностей узнавал Николай Александрович Мельгунов, тем больше был смущен. Всякие сходки на Новинском бульваре прекратились. Суматошный актуариус не говорил более о том, что свобода есть клич нового времени.
– Подумай, Мимоза: неужто даже за песни будут хватать людей?
– А песни живучи, Николаша. Сколько студентов в полицейскую часть ни посади, жизнь не остановишь.
Московские события говорили об этом со всей очевидностью. Следователи рылись в переписке арестованных, она была наполнена свободомыслием. Студент Огарев оказался, по мнению следователя, «упорным и скрытным фанатиком».
С властью говорили люди нового поколения, разбуженные громом пушек на Сенатской площади.
Квасные патриоты с негодованием кричали о студенческих безумствах. Словено-россы еще громче трубили о незыблемости коренных русских устоев: православия, самодержавия и народности.
Между тем толки о студенческих арестах сменились толками о предстоящем событии. Загоскин закончил поэму для оперы «Аскольдова могила». На сцене предстанет смиренномудрый, христолюбивый русский народ. А недоучившихся студентов пусть образумит участь Неизвестного. Подстрекателей к бунту наказует само небо. Об этом никогда не устанет говорить Михаил Николаевич Загоскин. Но если медлит всевышний с громом и молнией, тогда является на помощь шеф жандармов и многоликая полиция. Случай с московскими студентами положительно говорил о бдительности если не небесных, то земных сил.
Впрочем, сам граф Бенкендорф не раскусил, кто попал в руки правительства. Шеф жандармов не раз писал в докладах царю о том, что наблюдается усиленное беспокойство умов. Он писал и о том, что все крепостное сословие считает себя угнетенным и жаждет изменения своего положения. Царь и жандармы делали из этих фактов один вывод: хватать виновных! Но сам бессменный шеф жандармов не понял и не мог понять, что студенческая история, случившаяся в Москве, как в зеркале отражала движение русской мысли. Московская история была прямым отголоском той непрекращающейся борьбы, которую вело по всей России «крепостное сословие». Именно этого не поняли жандармы. Студенты университета, уличенные в закоренелом фанатизме, представились им одинокими безумцами, ничем не связанными с народом.
Ни Герцен, ни Огарев не попали на каторгу. Им не забрили лоб. Дело кончилось ссылкой. А именитые москвичи, задававшие тон обществу, вернулись к изящным искусствам.
Везде шли разговоры о музыке, сочиняемой Верстовским. Против обыкновения, Алексей Николаевич никому и ничего из «Аскольдовой могилы» не показывал. И это еще больше интриговало москвичей.
Глинка из деликатности не искал встречи с прославленным маэстро. Но Верстовский очень хорошо помнил Глинку. До него и теперь доходили подробные известия. Он внимательно прочитал заметку в «Молве». Пашенька Бартенева много раз пела ему глинкинские романсы. Верстовский слушал и хвалил.
А Мельгунов при случае взял да и рассказал Верстовскому о замыслах своего друга. Рассказ был очень сумбурный. Но одно было ясно: едва первый композитор Москвы задумал русскую, народную оперу, с той же самой мыслью явился в Белокаменную и заезжий артист.
– Пристало ли тебе, титулярному советнику, хотя бы и в отставке, пускать мыльные пузыри? – сердился на Мельгунова Глинка. – Ведь ничего готового для оперы у меня нет.
– Да я так ему и сказал, – оправдывался Мельгунов. – Алексей Николаевич даже посочувствовал тебе: «Ничего, говорит, нет труднее для музыканта, чем найти счастливый сюжет».
– Еще важнее идея, Николаша!
– Да… идея… – нерешительно подтвердил Мельгунов.
Он никак не мог определить свое место в начавшемся столкновении идей. Наслушавшись зажигательных студенческих речей, Мельгунов готов был идти навстречу бурям. Но подуло леденящим ветром, раздался грозный окрик всероссийского квартального – и опять стоит на горестном распутье отставной титулярный советник Мельгунов: идеи-то, конечно, идеи, но что они могут против жестокой действительности?
– Идеи дают движение жизни, Николаша, и направляют труд артиста, – возражал Глинка. – Ты наш разговор о русской музыке даже на заметку взял.
– И непременно использую.
– Сделай одолжение. Только помни непременно: система музыки будет только тогда русской, если родится от русской мысли, разумею – от народной жизни.
…В последний вечер перед выездом из Москвы Глинка долго гулял с Мельгуновым. Шли, не торопясь, бульваром, потом по набережной Москвы-реки свернули на Красную площадь. Сквозь легкую дымку проступали главы Василия Блаженного. Друзья подошли к памятнику, воздвигнутому посредине площади.
– «Князю Пожарскому и гражданину Минину», – прочел вслух Глинка. – В 1818 году, – продолжал он, – еще могли написать «гражданину Минину». Но не прошло и двадцати лет, как нашлись писатели, которые хотят превратить великого гражданина России в смиренного холопа и отнимают у народа его славу. Ан нет, не отнимут!
Красная площадь, хранимая башнями Кремля, полнилась ночной тишиной. А Глинке вдруг представилось, как сюда, к алтарю России, стекается победоносный народ и поет родине ликующую славу.
Не называй ее небесной…
Глава перваяНи официальная история, ни изустные предания не сохранили известий о том, как жил в Петербурге мелкий чиновник с малопримечательной фамилией – Иванов. Между сотен других канцелярских Ивановых он квартировал из экономии на окраине столицы – на Песках. А здесь и вовсе легко укрыться человеку от зоркого взгляда летописца: приличный петербуржец за всю жизнь не заглянет на Пески. Надо полагать, что Петр Петрович Иванов, о котором идет речь, ходил, сколько себя помнил, в департамент, не стесняясь расстоянием, и по обычаю чиновничьей мелюзги старательно замазывал ваксой дыры на сапогах, прохудившихся до срока.
Петра Петровича не видели на сборищах в трактире даже в день получки жалованья. Щепетильный по женской части, он конфузливо избегал и тех разговоров, в которых любой петербургский писец заткнет за пояс парижского кавалера Фоблаза.
Умеренный во всем, Петр Петрович не строил воздушных замков. Слово «счастье» всегда казалось ему беспредметным.
И вдруг счастье без всякого зова предстало перед бедным чиновником в лице Луизы Карловны. По вдовству Луиза Карловна промышляла тем, что держала на квартире жильцов. Жильцы могли получить у нее полный пансион, или обед, или наконец один семейный уют, который гарантировала каждому постояльцу почтенная вдова.
Женившись на Луизе Карловне, Петр Петрович приобрел все эти блага сразу и притом совершенно безвозмездно. Тут и могла бы обернуться унылая проза жизни волшебной сказкой для счастливца, но сказочные истории редко случаются на Песках. Благоприобретенный Луизой Карловной супруг попрежнему ходил в должность пешком: Луиза Карловна решительно не видела нужды в извозчиках даже в осеннюю непогоду. Чуждая сентиментальности, она сама вела переговоры с портным, приказывая ему перелицевать сюртук или другую принадлежность мужского туалета, доставшуюся в наследство Петру Петровичу от первого мужа Луизы Карловны. Перелицованные вещи свидетельствовали об изобретательности портного и о чудодейственных рецептах, которыми пользовалась Луиза Карловна при хранении вещей от моли. Но едва появлялся на службе Петр Петрович в новой паре, завистливые сослуживцы затыкали носы, как по команде.
– Откуда так нестерпимо несет? – невинно спрашивали они друг у друга.
– Позвольте, господа! – перебивал канцеляристов признанный остроумец, метивший в столоначальники. – Ей-богу, воняет покойником!
Шутка, очевидно, имела в виду почившего господина Шумахера, которому наследовал новый супруг Луизы Карловны. Но Петр Петрович за давностью прошедших лет не имел о нем никакого понятия и потому не считал нужным обижаться. К тому же и вицмундир и панталоны были добротны. А дома счастливого супруга всегда ждал сытный обед. Не каждый из насмешников мог этим похвастать.
Но Луиза Карловна, допустив неслыханную роскошь, явившуюся в ее квартире на правах молодого мужа и бесплатного нахлебника, вовсе не была склонна принять на себя все последствия этой женской слабости. Как ни плохо вела свои приходо-расходные книги счастливая супруга, однако даже итоги медового месяца засвидетельствовали ей, что законный и милый сердцу муж ни копейки ей не стоит. Может быть, какой-нибудь холостой чиновник или клубный музыкант, имевшие честь состоять пансионерами Луизы Карловны, получали теперь меньше мяса и не такой сладкий, как раньше, чай. Бесшабашные квартиранты сами не знали, что в складчину участвуют в семейном счастье почтенной хозяйки.
У супругов Ивановых родилась дочь, потом опять дочь. Луизе Карловне хотелось другого: ей хотелось иметь мальчика и девочку. Но поскольку с богом не поспоришь, Луиза Карловна благоразумно отказалась от дальнейших попыток. А посланные ей небом дочери опять не пришлись в тягость счастливой матери. Перемену в семейном положении Луизы Карловны скорее могли бы ощутить ее квартиранты. Теперь это сказалось не только на мясе и на рыбе, но решительно на всем, что подается к столу.
Супруги старели, дочери подрастали, жильцы благоденствовали. Но никакое счастье не прочно под луной. Любезный сердцу супруг скончался. Луиза Карловна снова осталась вдовой.
И сколько бы ни разбираться в бухгалтерии Луизы Карловны, надо помнить одно: квартира на Песках, даже из четырех комнат, даже при постоянных жильцах, не может идти в сравнение с золотоносной жилой. У самой предусмотрительной хозяйки случается, что съедет, не заплатив по счету, ловкий жилец. А кухарки, которые бесстыдно крадут целыми пятаками?! А полиция, начиная с бравого пристава в офицерских эполетах и кончая золотушным паспортистом?! Всем им нужно делать подарки к каждому празднику. А в России так много праздников!
Приходы Луизы Карловны, при всей ее изворотливости, были столь ничтожны, что даже она растерялась, когда дочери стали подрастать. Никакие хитроумные изменения в меню пансионеров, введенные хозяйкой, уже не могли помочь, когда старшую дочь Софочку стали называть невестой. Для этого не было никаких оснований: у невесты не было женихов. Но в сердце матери жила неугасимая надежда: бесприданница Софочка была красавицей. А красавице были нужны нарядные платья, дорогая обувь, тонкое белье и всякие замысловатые мелочи, которые, даже будучи невидимы глазу, стоят безумных денег.
В эту эпоху приходо-расходные книги Луизы Карловны пришли в полное смятение. Она не всегда решалась занести туда сомнительный доход, на который может подвигнуть только святая материнская любовь. Именно в это время один из жильцов, отличавшийся, правда, невыносимым характером, посмел уличить Луизу Карловну в приписке к месячному счету! Но бог с ним, с этим жильцом-грубияном. Зато какие платьица появились у Софочки!
В жизни красивых девиц, проживающих на Песках, случается разное. Счастливица попадет на содержание к именитому барину или, на худой конец, выйдет по закону за лавочника. Прочие, которые не могут похвастать ни лицом, ни фигурой, идут в модистки или в швеи. С Софочкой Ивановой случилось иное – она вышла замуж за полковника. И не за какую-нибудь отставную гарнизонную крысу, переселившуюся на Пески по бедности или по скаредности, а за бравого полковника, состоящего на действительной службе в столице.
Историю женитьбы Алексея Степановича Стунеева на дочери Луизы Карловны надо считать событием чрезвычайным. Но ведь бывало же в истории, что захмелевший корнет въедет верхом в офицерское собрание; бывало, что кавалергард проигрывал в ночь состояние из тысячи крепостных душ; бывало, что офицеры-конногвардейцы, будучи на маневрах, поили шампанским девок, согнанных из ближних деревень.
А полковник Стунеев был тоже кавалерист-душа. Проиграть несметное состояние он не мог, потому что происходил из захудалых смоленских дворян. Поить шампанским сельских красавиц ему не приходилось по той же причине. Да и времена молодости прошли. А кавалерийская душа осталась. Женитьба полковника, состоящего при Школе гвардейских подпрапорщиков, на девице Софье Ивановой произвела такое же впечатление, как если бы Алексей Степанович на склоне лет, будучи в штаб-офицерских чинах, въехал верхом на иноходце в собственную квартиру.
Но чего не делает любовь кавалериста! Отец невесты был посмертно повышен в чине и для большей убедительности награжден орденами, которых никогда не имел. Мать невесты была оставлена в приличной обстоятельствам тени. Ей было строго внушено: не распространяться на свадьбе о многих подробностях. И тогда Луиза Карловна впервые произнесла, понимающе кивая головой: «О да! Надо хранить честь нашей фамилии!»
Свадьба состоялась при немногих приглашенных. На семейном торжестве присутствовала и младшая дочь Луизы Карловны. Машенька была еще в том возрасте, когда девочки-подростки могут привлечь взор только неуклюжестью манер и движений. Но Мари была так изящна в танцах, так блистала улыбками, так мила в своей застенчивости и так непосредственно резва, что не один из товарищей полковника Стунеева, глядя на нее, задумчиво крутил седоватый ус. Девочка напоминала смелый набросок к будущей роскошной картине. Дальновидный мужской ум, разбирающийся в незрелых этюдах, мог основательно заключить, что младшая сестра превзойдет старшую. А ведь Софья Петровна сама была красавицей – в этом не было разногласия между офицерами, приглашенными на свадьбу.
Поздно ночью Луиза Карловна закутала Машеньку в поношенную шубку, выдававшую своим жалким видом все то, о чем воспрещалось повествовать в доме новобрачных. Машеньку увезли. Софья Петровна осталась у мужа.
Казенная квартира полковника Стунеева находилась в верхнем этаже огромного здания Школы подпрапорщиков на Вознесенской улице. За окнами расстилалась широкая площадь с величественным зданием Исаакиевского собора. Дальше явственно ощущались просторы Невы. Софья Петровна подолгу стояла перед окном, очарованная шумными картинами столичной жизни. По площади непрерывной чередой катились экипажи, сновали прохожие, шли, печатая шаг, военные караулы. Все это было совсем не похоже на убогую жизнь Песков. В ожидании мужа Софья Петровна расхаживала по просторным комнатам, то любуясь старинной мебелью, то устраивая в будуаре изящный уголок. И опять с ужасом вспоминала она материнскую квартиру: постоянный чад от прогорклого масла, шмыгающих по коридору полуодетых жильцов, чьи-то громкие разговоры из-за тонких стен, и пьяный смех, и перебранки…
Все это уходит в прошлое, но прошлое неумолимо напоминает о себе, когда появляется Луиза Карловна. Ей отведены для посещений утренние часы: в это время не приезжает никто из визитеров.
Почтенная вдова, расположившись в столовой, пьет кофе без цикория – роскошь, которую она никогда не позволяет себе дома, – а Машенька перебегает из комнаты в комнату, любуясь чудесами и подолгу разбираясь в гардеробе сестры.
Девочка возвращается в столовую с блистающими глазами.
– Опять новое платье! – говорит она, обнимая Софью Петровну. – Ты попала в рай, Сонька!
Софья Петровна смотрит на нее с ужасом.
– Когда ты отучишься от этих ужасных привычек! Ты должна звать меня Софи!
– Ты должна хранить честь нашей фамилии! – наставляет Луиза Карловна.
Машенька, попавшая впросак, готова на все, только бы подольше остаться в раю, в котором живет Софи. Девочка убеждена, что именно отсюда, от Школы гвардейских подпрапорщиков, начинается прямая дорога в рай. Порой думает о том и сама Софья Петровна – и не без оснований.
Когда Николай посетил Школу будущих гвардейских офицеров, ему были представлены жены начальствующих лиц. Император приветствовал их с армейской любезностью, потом остановил восхищенный взор на жене полковника Стунеева. Он подошел к ней и закончил короткую беседу громогласным комплиментом:
– Вы так хороши, что на вас страшно смотреть!
О Софье Петровне заговорили. Некоторые дамы, не бывавшие у этой выскочки, сочли своевременным заехать к ней с визитом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































