Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
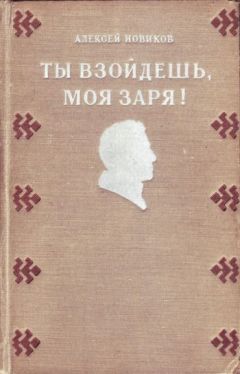
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 44 страниц)
На листе бумаги крупно обозначено: «Иван Сусанин. Отечественная героико-трагическая опера».
Глинка пишет не отрываясь. В воображении вдруг сложился весь план драмы. Видится сочинителю деревушка, раскинувшаяся на берегу реки. Вешнее солнце придает неповторимую прелесть картине, в которой нет ни роскоши, ни особой яркости красок. И то сказать – неприметно приходит весна на русские просторы, будь то село Новоспасское на Смоленщине или Домнино под Костромой.
Сочинитель вглядывается в далекое село Домнино, уходит мыслью вглубь истории, в те времена, когда встал против польских панов захватчиков домнинский пахарь Иван Сусанин.
А память возвращается к событиям собственного детства, когда поднялись против захватчика Наполеона новоспасские пахари – новые Сусанины. И в Домнине, и в Новоспасском, хоть и в разные времена, прозвучал один и тот же голос непокоримой народной силы.
Глинка снова берется за перо и, возвратясь ко временам Ивана Сусанина, пишет: «Вдали раздаются сперва хор мужчин, потом, в противоположной стороне, хор женщин, кои, сходясь, сливаются в один». Характер музыки ясен сочинителю отечественной оперы. Народ явится на сцене в грозную для родины годину. Для музыки нужны суровые и вдохновенные слова. Музыкант и продиктует их поэту. Глинке вспоминается Василий Андреевич Жуковский. «Не допущу ухищрения злобы!» – шепчет сочинитель оперы. С первых строк плана он начинает спор с автором поэмы.
«Сей хор, – записывает Глинка, – должен выражать силу и беззаботную неустрашимость русского народа».
– Силу и неустрашимость! – громко повторяет он.
Настало время действовать музыканту. В один голос кричат казенные писаки о смирении русского народа. Дружным хором вопят о любви народа к царю и полном довольстве своею участью. Рабскую покорность хотят приписать они русским людям, создавшим свою историю в тяжких испытаниях и борьбе. Пусть же музыка прославит героический дух народа Сусаниных. С этого надо начинать. Такая музыка давно, пожалуй, сложилась для первого хора оперы. Здесь – ключ к народному характеру.
Мужские голоса, суровые и непреклонные, сольются с песней, с которой вышли к реке женщины. Все мысли домнинцев отданы родине. О ней, о родине, и должен написать свои стихи поэт.
В плане возникает образ дочери Сусанина Антониды. Легко будет литься ее вешняя песня. Мысли Антониды летят к любимому. Но любимый ушел под Москву, на битву с захватчиками. Неотделимы и девичьи думы от судеб родной страны. Пусть и в речах Антониды все будет заранее предопределено для поэта! Недавний разговор с Жуковским так и не дает покоя музыканту.
Но уже настало время явиться на сцену самому Сусанину. «Характер важный!» – пишет в плане Глинка и слово за словом намечает всю речь Сусанина. Пахарь-гражданин напомнит девушкам, собравшимся на берегу, что отечество стонет от иноплеменных. «Сусанин излагает вкратце, – записывает Глинка, – события тогдашнего времени: вторжение поляков, ужасы войны». Довольно было на сцене оперных пейзан, пусть заговорит живой русский человек.
Перо отложено в сторону. Глинка внимает голосу Сусанина. Он слышит этот голос, простой и мудрый, исполненный той глубокой скорби, которую может ощутить только истинный хозяин оскорбленной врагами земли. В напевах Сусанина слышатся Глинке те песни, которые певала ему нянька Авдотья Ивановна в грозные дни нашествия Наполеона, когда зловещим заревом пылало небо за Десной.
Взволнованный и растроганный, музыкант снова берется за план оперы.
В Домнино возвращаются ратные люди и среди них жених Антониды, удалой Собинин. Новая картина развертывается перед мысленным взором сочинителя.
С какой же песней вернутся с ратного поля русские воины? И чтобы и здесь не было никакого соблазна будущему автору поэмы, музыкант заранее исключит словесные фейерверки и барабаны. Не кичится победой русский человек. Мысли его снова отданы родной земле, ее попранной, но нетленной красоте. Как бы все это объяснить поэту? Глинка задумывается и пишет: «Гребцы поют протяжную песню… все сравнения в ней должны быть взяты из предметов, относящихся к реке, к судну и пр.» Написал и усмехнулся. Стало быть, не будет места ни барабанам, ни фейерверкам. А вешняя река, освобожденная ото льда, станет символом освобожденной родины.
Глинка встал из-за стола и быстрыми шагами прошелся по кабинету.
«А не напомнить ли Василию Андреевичу о том, что русский народ исстари складывал вольнолюбивые песни, ну хотя бы в честь раздольной Волги-матушки?»
И сейчас же представил себе возможный эффект от такого напоминания. У ученых мужей те вольнолюбивые песни именуются не иначе, как разбойничьими. Лучше помолчать о них до случая, пока не отразятся они в музыке оперы…
Михаил Иванович вернулся к столу и, пробежав написанное, продолжал излагать развитие драмы.
Воинов, вернувшихся в Домнино, радостно встречает народ. Жених Антониды рассказывает о победах всенародного ополчения Минина и Пожарского. Далее сообщает Собинин об избрании на царство Михаила Федоровича.
Музыкант снова вспоминает разговор с Жуковским. Именно здесь не допустит он никакого искажения народной идеи оперы. Он опять берется за перо и решительно пишет: «Сей рассказ должен быть чрезвычайно краток».
Так создается завязка драмы. Глинка еще раз перечитывает план: везде ли ясно, что музыка будет диктовать содержание поэмы? Как будто сомнений нет. Недаром же намечены и характеры и речи всех действующих лиц, и везде в этих речах звучат мысли о родине, о ее защитниках, о Минине и Пожарском. Недаром в одних случаях ясно видно из плана, что музыка уже сложилась, а в других случаях сказано так же ясно, что если номер и не сделан, то материалы для него обдуманы, а смысл музыки предрешен…
Зимний рассвет застал Глинку за письменным столом. Где-то в дальних комнатах уже начиналась утренняя приборка. Собирая бумаги, он снова увидел записку Мари. Сколько трогательной укоризны, сколько чистосердечия уместилось в этих наивных и скупых словах! Как же он мог о ней забыть?
А увидеться с Мари пришлось только вечером. Она была бледна, пожалуй, даже чуть-чуть похудела. Сердце Глинки еще больше сжалось. Милая Мари!
– Я так и знала, – покорно, без всякого упрека, сказала она.
– Что именно вы знали? – удивился Глинка.
– Я так и знала, что вам скоро надоест такая обыкновенная девушка, как я.
Он взглянул на нее. Вот так обыкновенная девушка! Хороша, как небесная звезда, которая способна сиять даже при солнечном свете.
– Мари, неужто я дал вам повод?
– Недаром говорят, что артисты ветрены.
Глинка даже не понял, о чем она говорит.
– Я знала, – продолжала Мари, – что мужчины недостойны доверия, и вы, Мишель, первый тому пример.
– Ради бога, объяснитесь!
Стоит ли объяснять? Она так ждала его вчера до поздней ночи. Но может ли она упрекать его в том, что он забыл ее в обществе красивых и образованных дам? Где же состязаться с ними бедной Мари! Слеза, подобная чистейшему алмазу, скатилась на побледневшую щеку.
Михаил Иванович почувствовал полную растерянность. Он не мог равнодушно видеть этих слез. Он пытается утешить шуткой. Он готов дать ей любые клятвы, только бы не плакала обиженная Мари.
Стунеевы собирались в театр. Глинка должен был сопровождать Мари, но она отказалась из-за головной боли.
Он ушел к себе, хотел разобраться в происшедшем. Неужто ревность? Но ведь ревности должна предшествовать любовь. А как мог он, давно вышедший из любовных бурь, разбудить ревность в этом непорочном сердце? Но что же значат тогда эти слезы? Он так ничего и не решил, погрузившись в занятия.
Перед ним снова был план оперы и многие разрозненные нотные листы, на которых слагались ее напевы. Вероятно, этих листов еще бы прибавилось сегодня, если бы в комнату не вошла Мари.
– Мишель, вы обещали многому меня научить. Если помните, наш последний разговор был о Шиллере, но вы ничего не успели мне сказать.
– Шиллер подождет! Как ваша головная боль, Мари?
– У меня совсем не болела голова, – с трудом признается она.
– Так почему же вы лишили себя театра?
– Потому что… – Мари роется в памяти: что говорят в таких случаях благовоспитанные девицы? – Потому что… – повторяет она и смолкает.
Глинка тоже смущен. Молчание становится положительно неловким. Он целует сопротивляющуюся ручку и клянется, что никогда больше не забудет о том, что несчастная Мари так часто остается в одиночестве и, одинокая, непонятая, страдает.
Они провели вместе целый вечер, но разговор так и не дошел до Шиллера. Зато какой сдвиг! Мари начала читать «Онегина». Можно сказать, она с ним не расстается и, уезжая от Стунеевых, непременно берет книгу с собой.
Нелегко читать размышления поэта о любви или признание Татьяны, когда за стеной уныло бренчит на гитаре жилец, а кто-то настойчиво кличет кухарку, чтобы послать ее за пивом. Мари затыкает уши и углубляется в волшебные строки, но ненадолго. Она то и дело спотыкается на непонятных именах и теряет нить романа. То ли дело «Прекрасная персиянка»! Мари оставляет «Онегина» и тянется к растрепанной книге, доставшейся ей от съехавшего квартиранта. Вот это роман! Девушка в рассеянности перелистывает засаленные страницы, свидетельствующие о горячей любви читателей к прекрасной персиянке. Как красноречив обольстительный разбойник! Вот это любовь! А за стеной опять шум, и Мари возвращается к жестокой действительности.
– Маменька, – говорит она Луизе Карловне, – когда вы откажете, наконец, жильцам? Сил больше нет терпеть такой моветон!
Луиза Карловна отставляет вязанье.
– Ты же знаешь, что я принимаю мои меры. Но кто возместит нам убытки?
– Сколько раз Соня вам говорила, а вы опять за свое! Неужто вы не можете подумать о будущем родной дочери?
– О да! Честь нашей фамилии… – вдова кивает головой.
Мари, выведенная из себя, топает ножками.
– Неужели вы не понимаете? Кто возьмет меня замуж из этого притона?
На беду ей попадается в это время под руку ни в чем не повинный «Онегин». Мари бросает книгу на пол и, горько рыдая, находит наконец виновника несчастий: он вечно что-нибудь выдумывает, этот несносный Мишель!
А потом Мари опять едет к Стунеевым. Глинка так привыкает к ее присутствию, что не находит места, если рядом нет милой, трогательной Мари.
Ему кажется, что даже работа над оперой идет гораздо лучше, когда он вдоволь налюбуется ее красотой.
С тех пор, как Алексей Степанович не устает говорить о будущей опере, Мари никогда не забывает спросить об этом Глинку.
– Поздравьте меня, Мари, – отвечает он, – на днях я кончу весь план…
– А потом, когда вы сочините свою оперу, Мишель, о вас напишут в «Северной пчеле»?
– Какой вы ребенок, Мари! – Глинка смеется от души. – Избави меня бог от этой «Пчелы»! Но не пора ли вам узнать ноты?
Девушка вспыхивает от удовольствия. Мишель, как всегда, угадал ее сокровенное желание: она так давно мечтает петь его романсы!
Уроки начались. У девушки был далеко не блестящий слух. У нее не было, пожалуй, и терпения. Но надо же знать упорство учителя! К тому же у ученицы обнаружился небольшой, но свежий голосок.
Из-за занятий пением Мари почти не выезжала от Стунеевых, но урокам попрежнему мешали музыкальные сходки. Бог знает, зачем они нужны Мишелю. Впрочем, пускай лучше музыканты собираются здесь, по крайней мере Мишель будет реже уезжать из дому. Каждый раз, когда Глинка собирается ехать, Мари мерещатся красавицы, которые музицируют с ним под сенью малахитовых колонн.
Но настает утро, и тревожные призраки исчезают. Когда Глинка сидит над своими нотами, сердце Мари не знает терзаний. Усталый и счастливый, он придет непременно к ней. В один из таких коротких дневных часов, когда никто не мешает сердечной беседе, Глинка долго рассказывал Мари о себе и вдруг признался с глубокой горечью:
– Каждый несчастлив по-своему, Мари. Я не знал другой любви, кроме той, которая приносит страдание.
В тот вечер он опять уехал из дому и даже раньше обыкновенного, но, прощаясь, Мари доверчиво сказала ему:
– Как бы поздно вы ни вернулись, я все равно буду ждать, хоть до утра. – А в потемневших глазах были смущение и нежность.
Глинка уехал. Мари взялась за рукоделье и размышляла: почему он завел этот странный разговор о любви?
Если девушка вышивает по канве какой-нибудь несложный узор, мысли ее совершают куда более замысловатый путь.
«Разве любовь может приносить страдания?»
Мари стало досадно, и она перекусила зубами запутавшуюся нитку. Мысли перешли от Мишеля к опере:
«А если сам император услышит эту необыкновенную оперу и сам устроит счастье Мишеля?..»
Мари застыла с иголкой в руках.
Глава восьмаяКабинет Владимира Федоровича Одоевского похож на кунсткамеру. Химические колбы соседствуют с нотными тетрадями, а среди древних рукописей и физических приборов, изобретаемых хозяином, мирно уживаются диковинные творения природы и изящные произведения искусства. Все это живописно располагается вокруг двух роялей, образующих центр огромной комнаты. Расстановка предметов в кабинете наглядно отражает интересы хозяина, в центре которых всегда остается музыка.
Однако в последние годы Владимир Федорович уделяет значительное внимание словесности. Повести его, печатавшиеся в журналах, изобличали внутреннюю пустоту светской жизни. Но и словесность, по глубокому убеждению Одоевского, должна послужить музыке. Для этого и задумана им новелла о Себастьяне Бахе.
Беда только в том, что стоит оторваться Владимиру Федоровичу от рукописи хоть на короткий час – потом долго приходится ее разыскивать.
Владимир Федорович долго роется на письменном столе, но под руку попадаются кулинарные рецепты, созданные им на основании химических расчетов, а рядом оказывается либретто оперы, которое друзья, с участием Одоевского, пишут для графа Виельгорского. Граф желает писать оперу «Цыгане». Очень хорошо. Вот и взял бы пушкинскую поэму. Но Михаил Юрьевич непременно хочет вплести в романтическую интригу события 1812 года.
Одоевский, натолкнувшись на либретто, сокрушенно качает головой: нечего сказать, пристегнул же автор 1812 год! По мысли Виельгорского, героем оперы должен стать русский офицер, участник победоносной войны против Наполеона. С таким лестным аттестатом герой и предстает перед зрителями, а представившись, немедленно влюбляется в девушку из цыганского табора. И тогда шумной толпой являются в опере цыгане. Русский офицер днюет и ночует в таборе и мучается от любви к безродной дочери степей. Но после долгих мучений узнает о благородном происхождении героини. Оказывается, ее в детстве похитили цыгане. Все благополучно объяснилось, и дело поворачивается к счастливому концу. Не желая обидеть Пушкина, Виельгорский отдал должное и его поэме. По настойчивому желанию Михаила Юрьевича, в либретто должна войти общеизвестная песенка из пушкинских «Цыган»: «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда…»
Владимир Федорович Одоевский давно забыл о первоначальном предмете своих поисков и сызнова углубляется в эскизы будущей оперы. Русский офицер, изъясняющийся в приятных ариях, подозрительно похож на тех романтических героев, которые толпами бродят по оперным сценам всего мира.
– Ну и бог с ним, – говорит Владимир Федорович, отодвигая ноты.
Но как ни рассеян Владимир Федорович, будущая опера графа Виельгорского кажется ему чреватой многими и не только музыкальными последствиями. Неясно, как всемогущий граф отнесется к возможным соперникам на поприще русской музыкальной драмы.
Размышления Одоевского были прерваны наконец счастливой находкой. Под грудой книг, накопившихся в дальнем углу письменного стола, обнаружилась новелла о Себастьяне Бахе.
Владимир Федорович стал перечитывать рукопись.
«Почему писатели не пишут о музыкантах? А если и пишут, то как? Вы спрашиваете портрет – вам показывают брюзгливого старика. Вы читаете биографию – вам расскажут, когда родился, у кого учился, на ком женился… О, для этих писателей нет, не существует жизни художника в его искусстве…»
Для начала, кажется, неплохо. Но пора познакомить читателей и с тем, как надо писать о музыкантах. В новелле возникает образ старшего брата и учителя юного Себастьяна Баха – заслуженного органиста Христофора Баха. Христофор верит, как в евангелие, в древнюю теорию музыки, написанную Гаффарием, и держится дисциплины, как воин. В церкви он сорок лет играет один и тот же хорал. Если же в большой праздник органист решится прибавить какой-нибудь форшлаг, тогда почтенные прихожане, удивленные дерзостью, говорят друг другу: «О, сегодня наш Христофор разгорячился!»
Каждый раз, когда автор новеллы перечитывает это место, он испытывает удовлетворение. Владимиру Федоровичу кажется, что его меткая стрела поражает не только сурового поклонника Гаффария и не только почтенных церковников шестнадцатого века.
А под началом у Христофора Баха живет юный Себастьян. Ему предстоит вырваться из узилища, проклясть собственного учителя и брата и разбить оковы косности. Рядом с Себастьяном действует в новелле верный друг юности, а потом любимая жена – Магдалина. Они проводят вместе двадцать лет, не зная разногласий. Себастьян Бах достигает высот прозрения. Все таинства гармонии подчинены его мысли. И вдруг в скромное жилище гения, где самоотверженно служит он музыке, приходит гость-венецианец. Он приносит с собой новую итальянскую музыку, которая еще только нарождается, и которая покорит впоследствии мир. Магдалина поражена звуками этих песен. Верная подруга не может скрыть правды от мужа.
– Вот музыка, Себастьян, – говорит она. – Брось в огонь твои фуги. Пиши итальянские канцонетты!..
Развязки новеллы еще нет. Автор не хочет осудить Магдалину, но он не хочет погрешить и против основной своей идеи: откровения гениев недоступны даже близким. Гений обречен на одиночество.
Владимир Федорович раздумывает над своей новеллой, а мысли его обращаются к другому музыканту – Михаилу Глинке. В царстве музыки опять совершается небывалое. С ужасом думает Одоевский о том, что петербургские меломаны повторят гению слова Магдалины: «Пиши итальянские канцонетты!» Нет, теперь скорее скажут ему: «Пиши по-немецки». И никому нет дела до того, что Михаил Глинка хочет быть русским.
Владимир Федорович приступает к работе над повестью о Себастьяне Бахе и хочет пустить несколько ядовитых стрел в новых Гаффариев от музыки, которые встречаются у всех народов во все времена. Но в кабинете появляется лакей, посланный княгиней.
– Не угодно ли его сиятельству пожаловать в гостиную?
– Занят, – сердито отвечает Владимир Федорович. – Передай княгине, что буду занят весь вечер и покорно прошу меня простить.
На сегодня назначена поездка с Глинкой к Жуковскому, и Владимир Федорович нетерпеливо поджидает дорогого гостя. А Глинка приходит такой веселый, такой радостный, что у Одоевского срывается невольный вопрос:
– Что случилось, Михаил Иванович?
– Ничего не случилось, – отвечает Глинка Не станет же он рассказывать о том, что в его одинокой жизни произошли какие-то едва заметные перемены. Милая Мари ждет его каждый вечер, как бы поздно он ни вернулся; она поет его романсы, правда нетрудные, и учит их с голоса, потому что все еще не тверда в нотах; Мари прочитала «Онегина» и берется за «Дон-Кихота». Глинка улыбнулся своим мыслям: совсем было бы нелепо рассказывать об «Онегине» или «Дон-Кихоте».
– Слава богу, ничего не случилось, – повторяет Глинка. – Прежде чем мы поедем к Василию Андреевичу, я покажу тебе кое-что обработанное. – Он достал ноты из портфеля. – Я начал с того, чем обычно кончают. Увертюра «Сусанина» написана в четырехручном изложении. За какой рояль ты сядешь, Владимир Федорович?
Они сыграли увертюру, и, прежде чем Одоевский мог что-нибудь сказать, Глинка снова заиграл.
– А вот тебе и первое явление Сусанина. Песню эту я, помнится, услышал от извозчика под Лугой.
– Ты нашел редкостную песню! – сказал, прослушав, Одоевский.
– Нашел? – переспросил Глинка, проигрывая тему. – Нет ни заслуги, ни труда в том, чтобы отыскать песни на Руси. А правда, хороша? Этакий в ней характер… – Он покосился на Одоевского и увидел, какое неотразимое впечатление произвели на Владимира Федоровича первые звуки будущих речей Ивана Сусанина.
Глинка встал из-за рояля.
– Надеюсь я, – сказал он, – что песня не только арии насытит, но и все речитативы преобразует. Когда откажемся от итальянских скороговорок и упраздним диалоги, которые прерывают течение музыки в немецких операх, тогда приблизимся к драме в музыке.
– А хоры? – спросил Одоевский. – Много ли будет у тебя хоров?
– Ох, уж эти мне хоры! – Глинка вздохнул. – Придут люди неизвестно зачем, пропоют неизвестно что, а потом и уйдут с тем же, с чем пришли.
– Такова, к сожалению, оперная практика, – согласился Одоевский, улыбаясь меткому определению Глинки. – Но разве тот же хор не может стать действующим лицом? – Исчерпав многие ученые аргументы, Владимир Федорович прибег к последнему: – Ведь ты задумал «Ивана Сусанина» как драму народную. Как же ты покажешь Сусанина без народа?
– Вот то-то и оно, Владимир Федорович. Народ будет главным действующим лицом в моей опере, иначе не понять, откуда родился характер Сусанина. И без хоров мне никак не обойтись. Только ни в чем не будут они схожи с теми хорами, о которых я сказывал. Музыкального бомбаста, сиречь напыщенной бессмыслицы, никак не приемлю.
– Выходит, что я ломился в открытую дверь?
– Выходит, так, – признался Глинка. – Хотелось мне мои собственные мысли еще раз проверить.
– А план оперы? – вспомнил Одоевский. – Ведь ты обещал изложить все содержание и развитие драмы.
– Кое-что сделал. Впрочем, еще не все картины записал. А готовые у Жуковского прочтем, нечего время зря терять. Хочется мне музыкой тебя попотчевать, изволь слушать! В интродукции действуют у меня два хора. В костромском селе Домнине по весеннему времени на берегу реки толпится народ, а время, сам знаешь, какое. Паны ляхи довели Русь до крайности. Мужикам, конечно, не до весны. Ну, а бабы на солнышке пригрелись. Как тут хоть на минуту в песне не забыться? Приходилось ли тебе, Владимир Федорович, наблюдать, как поют одновременно разные песни? Слышится в них то случайное смешение звуков, то получается удивительное согласие, словно пошли песни в обнимку. Тут перед музыкантом открываются такие неожиданности… Но сколько бы новизны и житейской правды ни открылось мне в этом смешении песен, ни к чему бы было все это, если бы не послужило средством к раскрытию мысли.
– Да играй, наконец, твою интродукцию! – не вытерпел Владимир Федорович.
Глинка подошел к роялю.
– Ох, несчастье! – сказал он. – Ведь мы к Жуковскому и так опоздали!
По дороге к Жуковскому Одоевский размышлял вслух:
– Опера твоя, Михаил Иванович, требует проникновенных слов. Тут нельзя сфальшивить. А писать за народ нелегкое дело. Посмотрим, как справится Василий Андреевич, когда услышит твою музыку.
– А план-то для чего? – перебил Глинка. – В плане все указано. Недаром сижу ночами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































