Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
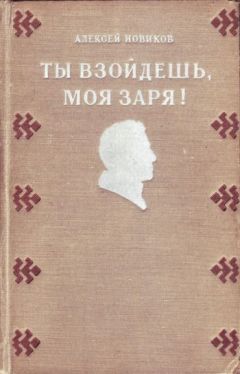
Автор книги: Алексей Новиков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 44 страниц)
Заехав к Одоевскому, Глинка увидел Пушкина, который сочувственно внимал речам Владимира Федоровича.
– Этакая удача! – воскликнул Одоевский, встречая Глинку. – Александр Сергеевич только что интересовался твоими делами.
– И рад повторить, – перебил Пушкин, – что счастливый сюжет избрали вы для оперы. К стыду нашему, до сих пор не отдали мы дани ни Владимиру, ни Дмитрию Донскому, ни Ермаку. Иван Сусанин не менее достоин памяти потомства. От души поздравляю.
– Надобно слышать музыку Михаила Ивановича, – вмешался Одоевский, – чтобы понять, какое событие нас ожидает. Теперь все дело за Жуковским, который взялся писать поэму…
Пушкин искоса взглянул на Глинку.
– Не вижу, однако, чтобы вы являли собой счастливого артиста, изласканного вниманием Василия Андреевича. Или он вам не угодил?
Глинка объяснил свое смущение. Судя по эпилогу, Жуковский решительно удаляется от идеи и характера музыки, которая посвящена изображению народа. А Василий Андреевич славословит царей.
– Стало быть, акафисты слагает лукавый царедворец? – Пушкин улыбнулся. – И, вдохновленный древностью, метит в современность? – Поэт стал серьезен. – Замышляя народную драму, вам нужно быть готову ко многим огорчениям. Истина страстей в правдоподобных обстоятельствах – вот закон для драматического писателя…
– И не менее того для музыканта, Александр Сергеевич, – согласился Глинка.
– Не буду спорить. Но кто, чудотворец, сумеет дать правдивую картину народной жизни и увидит свой труд в печати? Нужны многие жертвы, чтобы противостоять хору, действующему в словесности по высочайшему указу его величества… Впрочем, вам, музыкантам, дано счастливое право живописать звуками, к которым глуха всеведущая цензура. Однако любопытно было бы мне знать, – продолжал, оживясь, Пушкин, – как обрисуется в музыке костромской мужик Иван Сусанин после тех оперных пейзан, которых представил нам господин Кавос?
– Вот и покажем Александру Сергеевичу твое создание. – Одоевский встал, готовясь идти к роялю. – Когда еще будет такой счастливый случай?
– Помилуй, Владимир Федорович! – ужаснулся Глинка. – Еще ничего готового нет и слова отсутствуют. Но если вам будет угодно, Александр Сергеевич, я почту за честь представить вам мой опыт, как только определится существенное.
– Буду ждать с нетерпением, – откликнулся Пушкин, – тем более что помню наш давний разговор. Стало быть, пришло время заговорить музыкантам русским языкам?
– Как бы ни были слабы мои опыты, время давно приспело, – подтвердил Глинка. – Но если вам, Александр Сергеевич, памятен наш давний разговор, то и я позволю себе напомнить, что возник тот разговор в связи с замыслом вашей трагедии о Моцарте и Сальери.
– Очень хорошо помню, – отвечал Пушкин. – Но тогда трагедия только дразнила мое воображение, а ныне она отходит в прошлое.
– Для кого как, Александр Сергеевич! Начертанные вами характеры обращены не только в прошлое. Еще не раз ученые педанты, числящие себя по департаменту музыки, будут повторять в похвальбу себе слова вашего Сальери:
Отверг я рано праздные забавы:
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке…
Пушкин хотел что-то сказать. Но Глинка в увлечении продолжал:
– В вашей трагедии, Александр Сергеевич, Сальери сам раскрывает печальную участь, которая ждет артиста, отрекшегося от жизни. – И Глинка снова прочел из трагедии:
Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп.
– Надеюсь, однако, – с улыбкой сказал Пушкин, – что здесь еще нет оснований для будущего умерщвления Моцарта?
– Но есть все основания для духовного самоубийства Сальери, – отвечал Глинка. – Нет более печальной эпитафии для артиста, чем собственные слова вашего Сальери:
…Поверил
Я алгеброй гармонию…
– Так вот как судит о музыканте музыкант? – откликнулся Пушкин.
– Судит и сурово осуждает! Но вместе с вами, Александр Сергеевич, – подтвердил Глинка. – Жизнь и только жизнь может питать вдохновение… Разве не в том заключается смысл вашей трагедии о Моцарте и Сальери?
– Если бы критики пришли к подобным выводам, я бы первый к ним присоединился. И тем более, – продолжал Пушкин, – что жизнь учит нас этому на каждом шагу. Если вы задумали оперу и хотите выразить в ней идею русской жизни, русские характеры, как вам подсказывает ваша мысль…
– Но отнюдь не приверженность к музыкальной алгебре, – перебил Глинка. – Надобно ли уточнять?
– Не забудьте, однако, что до искусства охочи не только современные Сальери, но и достойные потомки Маккиавелли.
– И прочий хор, действующий по именному повелению его величества? – добавил Глинка.
– Ну вот, мы опять поняли друг друга, – рассмеялся Пушкин. – Ждем мнения вашего сиятельства, – обратился он к Одоевскому.
– Да мне уже привелось однажды изрядно погорячиться в споре с Жуковским. Представьте себе, Александр Сергеевич, в оправдание своих славословий царю он ссылается на «Думу» Рылеева, в которой Сусанин так же говорит у него о Михаиле Романове.
– Престранно было бы и отрицать исторический факт, – сказал Пушкин. – Но, зная жизнь, убеждения и гибель несчастного Рылеева, не будем пятнать его память. Рылеев и его товарищи видели в избрании на царство Михаила Романова прежде всего волю и власть Земского собора, то есть идею народоправства. Но хотел бы я знать, как мог открыто сказать об этом Рылеев? Однако читайте исполненную достоинства речь Сусанина, вдумайтесь в его мысли о родине, о служении народу и родной земле, и тогда будут ясны мысли Кондратия Рылеева. Но теперь настали другие времена. Думается мне, что Кукольник в своей драме «Рука всевышнего» наилучше потрафил спросу. – Пушкин вскочил с места. – Мочи нет, как хорош у Кукольника монолог князя Пожарского. – Поэт поднял руку, подражая трагическому актеру:
…И помните: кого господь венчал,
Кого господь помазал на державу,
Тот приобщен его небесной силе,
Тот высший дух, уже не человек…
– Как же подобное красноречие, – продолжал Пушкин, – могло не прийтись по душе «высшему духу», именуемому самодержцем всероссийским Николаем Павловичем?
– Каждый подданный монарха возмутится этой низкопробной лестью, – отозвался Одоевский.
– Но не монарх, – отвечал Пушкин. – И вопят ныне на всех перекрестках: «Великий Кукольник!.. На колени перед Кукольником!»
– Завидная поза, – Глинка нахмурился, – нечего сказать!
– Поверьте, на нее найдется немало охотников, – отвечал Пушкин. – Расправились с Пожарским, расправились с Мининым, теперь непременно захотят, чтобы и древний Сусанин пел славу царствующему монарху.
– Но я не собираюсь писать оперу для надобностей высочайшего двора! – сказал Глинка.
– Не сомневаюсь, – Пушкин поглядел на него с сочувствием. – Не сомневаюсь, Михаил Иванович, как не сомневаюсь и в том, что предстоят вам большие трудности. Но какое утешение для вас: в музыке не властен сам Нестор Кукольник. Одно могу сказать: жертвуйте малым, чтобы выиграть в главном. Сальери уединяется от жизни и, по собственному вашему слову, тем обрекает себя на духовное самоубийство. Моцарта могут убить, но Моцарт побеждает…
– Я никогда не верил, Александр Сергеевич, в убийство Моцарта.
– Тем и лучше… И для вас, и для «Сусанина», и для всех тех, кто будет торжествовать вашу победу.
Глава третьяМосковская газета «Молва» кончила печатать «Литературные мечтания», которые взбаламутили литературное болото. На автора статьи лаяли из каждой журнальной подворотни.
«А каково мнение петербургских оракулов? – запрашивал Глинку Мельгунов. – В Москве имя Белинского склоняют при любом разговоре о словесности. Как же не гордиться «Молве»? Впрочем, – оговаривался автор письма, – многие маститые ветераны, которых я давно не считал способными ни к какому проявлению чувств, брызжут слюной и, едва произнеся ненавистное имя Виссариона, задыхаются от ярости… Умора!.. Дался им этот недоучившийся студент, который сам скоро будет университетом! А когда я читал в «Литературных мечтаниях» о театре, тотчас вспомнил, Мимоза, о твоей опере. Но и здесь не обошлось без спора. Верстовский решительно утверждает, что мысли Белинского о народном театре не новы: во всяком случае, он, Верстовский, еще раньше принялся писать народную оперу и… черпает вдохновение в «Могиле» Загоскина. Ох, и оговорился же я! Автор романа «Аскольдова могила» вовсе не считает себя покойником и готовит новые творения, а у Верстовского опера летит на всех парусах. И потому снова спрашиваю тебя и требую немедленного ответа: как ползет твоя опера? Уж не будет ли твой герой из тех, о которых размечтался неистовый Виссарион?»
Глинка отложил письмо, взял «Молву», где отчеркнуты такие близкие ему строки: «О, как было бы хорошо, если бы у нас был свой, народный, русский театр!.. В самом деле, видеть на сцене всю Русь, с ее добром и злом, с ее высоким и смешным, слышать говорящими ее доблестных героев, вызванных из гроба могуществом фантазии, видеть биение пульса ее могучей жизни».
«Именно таков будет мой герой!» – мысленно отвечает Мельгунову автор оперы «Иван Сусанин».
Он уже собирался писать московскому другу и излить ему горестные мысли об участи музыканта, который должен не столько создавать оперу, сколько сражаться с поэтами, но в эту минуту в дверях появилась Мари.
– Мишель, ваша покорная ученица ждет учителя.
Теперь долго будет ждать ответа на свое письмо Николай Александрович Мельгунов.
Молодые люди идут в гостиную. Мари поет романс Глинки, поет неуверенно; нежный голосок ее слегка дрожит, певица то и дело фальшивит.
– Машенька! – так зовет девушку Глинка, когда хочет быть особенно ласковым. – Машенька! Здесь нужно взять си-бемоль… Смотрите в ноты… Впрочем, обойдемся пока без нот, слушайте внимательно.
Глинка ударяет несколько раз по клавише и напевает не задавшуюся Мари ноту. Она повторяет до тех пор, пока не попадает точно в си-бемоль.
Ученица проявляет покорность и усердие. Но еще неутомимее усердный учитель. Так всегда бывает у Михаила Ивановича с каждым учеником или ученицей. Все больше развивается у него страсть учить пению. А если Мари не принадлежит к числу способных учениц, тем больше времени и внимания отдает ей маэстро.
Мари снова поет романс.
– Не так! – останавливает ее Глинка и сейчас же поправляется, чтобы не огорчить ученицу: – Не совсем так! Вдумайтесь: ведь речь идет о любви, то есть о чувстве самом сладостном.
– Но ведь вы сами говорили мне, Мишель, что любовь приносит страдания? – робко спрашивает покорная ученица.
– Любовь может приносить страдания, – соглашается учитель. – Но любовь не перестает быть прекрасной. Послушайте, я спою вам еще раз.
Он поет, а потом опрашивает:
– Удалось ли мне передать зов сердца?
– Откуда же мне знать, Мишель! – говорит Мари, потупив глаза. – А вы были очень несчастны в своей любви?
– Да, очень, – чистосердечно признается маэстро. – И был готов потерять всякую надежду.
– И что же? – едва слышно спрашивает Мари.
– Я ее не потерял, – отвечает Глинка. – Мы повторим романс завтра.
Девушка отрицательно качает головой.
– Сегодня вечером я уеду к маменьке. На прощание расскажите мне о той, кому посвящен ваш романс, который мы только что пели. Или, хотите, я сама угадаю? Елене Демидовой, да? – Голос Мари звучит совершенно спокойно: не все ли ей равно?
– Вы не угадали, Мари, но что вздумалось вам спросить?
– Она такая музыкантша! – Мари глубоко вздыхает. – Как я ей завидую!
– Никому не завидуйте, Мари, – наставляет ученицу маэстро. – Предоставьте другим завидовать вам. А Демидова? Что же о ней сказать? Это такая певица, которые родятся по прихоти небес.
Он охотно пускается в подробности. И по тому, как он говорит о Демидовой, Мари окончательно решает: «Нет, не она!»
В гостиную, помешав продолжению урока, зашел Алексей Степанович.
– Что нового имеешь от Жуковского, Михаил Иванович?
– Решительно ничего.
– Стало быть, творит!.. Оно, конечно, Жуковского не поторопишь. Но воображаю, что это будут за стихи! Положительно под счастливой звездой ты родился. Об опере твоей от Жуковского, пожалуй, и самому государю известно.
Мари украдкой взглядывает на Мишеля: значит, все правда?
Когда она уезжала на Пески, Глинка ощутил, что ее пальчики дольше обыкновенного задержались в его руке/ Мари еще никогда так горячо не благодарила его за уроки пения.
Он проводил ее и вернулся к письменному столу. Все на месте – и план оперы и нотные записи. Надобно разрабатывать важную сцену, происходящую в избе Сусанина. Эту сцену начнет приемыш Сусанина, сиротка Ваня. Песня для него готова, ее певала Наташа еще в Берлине. В опере обретет новую жизнь все то, что отбирал, оттачивал и совершенствовал его слух.
Но пора дать развитие сцене. В семье Сусаниных готовятся к свадьбе. Сладостным чувствам любви и счастья должны полниться напевы. Не в первый раз слышит он сливающиеся голоса Сусанина, Антониды, жениха и сиротки Вани. И все-таки сцене чего-то не хватает. Но чего?
В дверях раздается стук. Может быть… Нет, Мари стучится совсем иначе. В кабинет входит в халате полковник Стунеев.
– Зашел к тебе на огонек. – Алексей Степанович с почтительным уважением смотрит на нотные листы. – Ишь ты, сколько накропал! Пожалуй, не на одну оперу хватит… – Полковник-меломан конфузливо мнется. – Неужто из партии Сусанина ничего нет? Вот бы попробовать, а?
– Из партии Сусанина ничего готового нет, – отвечает Глинка. – И стихи еще не приделаны.
– Нечего делать, подождем, – соглашается Алексей Степанович. – Жуковский тебе такое напишет…
– Еще бы! Сам, пожалуй, рыдать будет.
– Ему, поэту, слезы вдохновения по чину положены, – подтверждает Алексей Степанович. – А, ей-богу, не терпится из Сусанина попробовать. Ну, спокойной ночи!
Двери за полковником закрылись. Глинка снова принялся за работу. Он сосредоточился, мысленно представив себе картину счастья в избе Сусанина. А вместо нужных напевов в ушах звучал неуверенный голосок Мари.
На следующий день Глинка сделал решительную попытку отбиться от великодушной опеки Жуковского. На музыкальном вечере у Виельгорских он встретился с молодым литератором Владимиром Сологубом. Это было давнее, хотя и не близкое знакомство. Сологуб принадлежал к тому кругу светской молодежи, в котором когда-то вращался Фирс Голицын, Штерич, Феофил Толстой.
Давние знакомцы помянули старину, разговорились, и Глинка напрямки предложил молодому писателю попробовать силы в сочинении поэмы. Рассказал о первом действии оперы, развертывающемся в селе Домнине. Сологуб выслушал с живейшим интересом.
– А теперь, – продолжал Глинка, – зрители увидят пышную залу польского замка. Ясновельможные паны празднуют победу над Русью. Поют хоры, идут танцы. Но во время мазурки на балу появляется вестник, сообщающий о разгроме панских отрядов под Москвой. – Глинка на минуту задумывается. – В музыке, – продолжал он, – до сих пор пышной и торжественной, произойдет первое смятение. Но собирается в поход новый отряд смельчаков, и мазурка снова зазвучит со всем блеском.
– И таково все действие? – удивился Сологуб.
– Ну да, – подтвердил Глинка. – Стан заносчивых врагов получит полную характеристику в музыке, и здесь же, под внешним блеском этой музыки, ощутится первая растерянность гордых вояк.
– Все это очень интересно, – признал Сологуб, – и, быть может, очень оригинально по музыкальной идее. Но я должен предупредить вас, Михаил Иванович, что невозможно построить целый акт оперы на одних хорах и танцах. Где же действующие лица, где развитие интриги?.. Немыслимый для театра проект!
– Но я ни в чем не могу поступиться, – с сожалением отвечал Глинка.
На том разговор и кончился. Жуковский хотел подменить народную идею оперы, Сологуб не понял музыкальной основы драмы – противопоставления двух борющихся музыкальных стихий.
Поэма так и не сдвинулась с мертвой точки, но Глинка продолжал писать свой план. Разрабатывая сцену приготовления к свадьбе в избе Сусанина, он снова определял каждое положение, каждую мысль действующих лиц:
«Сей номер, выражающий тихие и сладкие чувства семейственного счастья, должен непременно быть написан русским размером в подражание старинных песен».
Особенно заботит Михаила Ивановича, как бы не расправился поэт с Сусаниным. В избу Сусанина нагрянули незваные гости. Русскому пахарю предстоит вступить в единоборство с ними… Теперь прозвучит голос героя. Здесь музыкант готов продиктовать чуть ли не весь текст поэту.
«Когда поляки предлагают Сусанину золото, славу, почести, – пишет Глинка, – Сусанин говорит: разве золотом можно искупить проклятие, а почестями – бесславие за измену?»
Однако автор оперы все еще не уверен, что он оградил Сусанина от автора будущей поэмы.
«Прошу роль Сусанина, – записывает Глинка, – написать, как можно проще. Ответы его полякам должны быть кратки и сильны, и чем будут кратче, тем удобнее для музыки». И снова, говоря о плаче Антониды, предупреждает автора поэмы: «Сей номер нельзя писать без музыки».
Михаил Глинка всерьез собирался диктовать самому Жуковскому. Он в самом деле собирался стать диктатором, этот строптивый музыкант, не представивший ни одной оперы ни в один театр.
А Жуковский, так преждевременно сообщивший императору о предприятии, был застигнут врасплох вопросом Николая Павловича:
– Как идут дела? Помнится, хвастал, что будет у нас новая опера об Иване Сусанине?
– Справедливо, ваше императорское величество. Мне уже привелось слышать кое-что из музыки.
– Сочинитель кто?
– Из смоленских дворян… Для усовершенствования музыкальных знаний провел более трех лет в Европе. Граф Виельгорский возлагает большие надежды…
Император был в хорошем расположении духа. Случайно встретив Жуковского во дворце, он охотно слушал рассказ поэта.
Николай недавно посетил Нижний Новгород – родину Кузьмы Минина, а затем и Кострому – родину Ивана Сусанина. Казалось, бы, такое путешествие должно было вдохновить поэтов. Но лишь один Нестор Кукольник ответствовал желанию монарха драмой «Рука всевышнего». Никто еще не решался воспеть подвиг Сусанина. Василий Андреевич перешел к патриотическим идеям будущей оперы.
– Знаю, знаю, – прервал император. – Ты давно внушаешь эту мысль. Одобряю твои труды.
– Признаюсь, однако, ваше императорское величество, что не могу ручаться за успех, – продолжал Жуковский. – Многое еще неясно и самому сочинителю музыки.
– Пусть трудится, – сказал император. – Тебе надлежит продолжить попечение.
– Воля вашего величества для меня священна. Но, взяв на себя сочинение поэмы для этой оперы, я с грустью вижу, что не имею дара драматического писателя…
– Кого же предлагаешь?
– Барона Розена, ваше величество. Он силен в стихе не меньше, чем в искусстве драмы. Не сомневаюсь, что барон вложит в поэму глубокие чувства верноподданного.
– Главное – поэма, – подтвердил император. – Одобряю твой выбор. На Розена можно положиться. Верю, что и ты ему поможешь.
Теперь Василию Андреевичу оставалось только передать разговор барану Розену, личному секретарю наследника престола. Егор Федорович Розен, поэт и драматург из обрусевших немцев, быстро понял все выгоды и преимущества работы, желанной самому государю. Патриотические чувства остзейского барона тотчас вспыхнули.
– Поэма будет высший сорт поэзии, – отвечал он Жуковскому. – Но кто переложит мои стихи на музыку?
– Дело не в музыке, но прежде всего в поэме, – разъяснил Василий Андреевич. – Вспомните, Егор Федорович, что сам государь недавно посетил Кострому. А музыку сочиняет некий господин Глинка. Может быть, вам приходилось слыхать его романсы?
– Бессомненно…
– Да, – протянул Жуковский, – очень хорошие романсы. А опера должна быть еще лучше. Но повторяю – не музыка будет делать погоду. Кукольник уже заслужил благоволение монарха своей драмой. Вам, барон, предстоит стяжать лавры поэмой.
– За мной дело стоять не будет.
– И прекрасно! На днях познакомлю вас с музыкантом. Глинкой… Кстати, – Жуковский приостановился, – показался мне господин Глинка строптив и несговорчив, но тут уж я надеюсь на вас, Егор Федорович.
– Как говорится по-русски, придет коса на камень.
– Вот-вот! – обрадовался Жуковский. – И помните: главное – поэма.
Василий Андреевич будет направлять перо поэта. С другой стороны, он не будет непосредственно участвовать в создании этой сомнительной оперы. Музыка, конечно, не делает погоду, но вдруг не угодит императору? Веет от этой музыки, как и от самого музыканта, духом непокорства.
Василий Андреевич поведет беспроигрышную игру. На случай, если музыка действительно не угодит монарху, он, Жуковский, не будет связан ни с замыслом, ни с намерениями господина Глинки. При благополучном исходе Василий Андреевич останется искренним другом молодого таланта. А покровительство отечественным талантам всегда было общепризнанной привилегией маститого поэта.
Жуковский медленными шагами прохаживался по кабинету. Может быть, втянуть в это дело Пушкина? Участие его в поэме, пусть даже малое, придаст широкую огласку предприятию среди бесчисленных почитателей поэта. С этим приходится считаться. И сам Пушкин даст доказательства своих верноподданнических чувств. Давно бы пора искупить ему свои грехи перед престолом.
– В самом деле, не привлечь ли эту ветреную голову? – вслух спросил себя Жуковский.
Он долго ходил с трубкой в руке, но так и не нашел желанного хода. А может быть, помешала праздничная суматоха. Во дворце шли рождественские балы, столица готовилась к встрече Нового года. Словом, даже поэт-отшельник был вовлечен в праздничный круговорот.
Именно в это время в книжных магазинах столицы стали продавать «Историю пугачевского бунта». Пушкин размышлял над задуманным романом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































