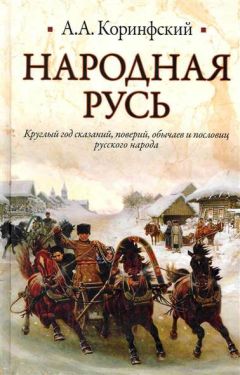
Автор книги: Аполлон Коринфский
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 53 страниц)
«Алатырь-камень», зачастую упоминаемый в русских простонародных заговорах, всегда представляющийся лежащим «на острове Буяне, на море-окияне», считается – по слову «Голубиной Книги» – за «всем камням отца». «Белый латырь-камень всем камням отец, – гласит о нем седая мудрость народная, – почему же ен всем камням отец?» – задает она вслед за этим вопрос и тут же держит свою речь ответную:
«С-под камешка, с-под белого латыря
Протекли реки, реки быстрые
По всей земле, по всей вселенную —
Всему миру на исцеление,
Всему миру на пропитание…»
«На белом латыре на камени беседовал да опочив держал сам Исус Христос, Царь Небесный, с двунадесяти со апостолам, с двунадесяти со апостолам, с двунадесяти со учителям; утвердил он веру на камени: потому бел-латырь-камень каменям мати!» – говорится в другом разносказе народного стиха. Записано и такое слово об этом чудном отце-матери всех камней: «Среди моря синяго лежит латырь-камень; идут по морю много корабельщиков, у того камня останавливаются; они берут много с него снадобья, посылают по всему свету белому…» О целебной силе камня-«латыря» ходит по народной Руси до сих пор немало и всяких других россказней…
«Под восточной стороной есть окиан-синее-море», – гласит заговорное слово: «на том окияне на синем море лежит бело-латырь-камень, на том бело-латыре-камне стоит святая золотая церковь, во той золотой церкви стоит свят золот престол, на том злате престоле сидит сам Господь Исус Христос, Михаил-архангел, Гавриил-архангел…»
П.Н. Рыбниковым записана в Олонецкой губернии любопытная былина о Василье Буслаевиче, – разносказ, не встречающийся у других собирателей народной старины. Тешится новгородский богатырь своею могучею силою, тешит моченькой и удалую дружинушку… «Дружина моя хоробрыя! – говорит Буслаевич. – Скачите через бел-горюч-камень!» Стали скакать Васильевы дружинники, перескочили раз, и другой перескочили, и третий… Принялся скакать и сам Васильюшко: «раз скочил и другой скочил, а на третий говорит дружине хоробрая: – Я на третий раз не передом, задом перескочу! – Скочил задом через бел-горюч-камень, и задела ножка правая, и упал Васильюшко Буслаевич о жесток камень своима плечмы богатырскима… Расколол он свою буйну голову и остался лежать тут довеку»… В сказочной передаче – Васильева смерть пришла не от камня-алатыря, а от морской пучины, – причем последняя является живым существом… Плыл Василий-богатырь, по словам старой сказки, «через море к зеленым лугам». Плывет Буслаевич, видит: лежит «Морская Пучина – кругом глаза…» Не смутился Василий, не робок парень был: зачал он вокруг Морской Пучины похаживать, сафьян-сапожком ее попинывать. Посмотрела на богатыря новгородского Морская Пучина – кругом глаза: «Не пинай, – говорит, – и сам тут будешь!» Смешлива была дружина Буслаевича, зачали дружинники смехи водить – посмеиваться, принялись через Пучину перескакивать: все перескочили… Взяло за живое и самого богатыря: прыгнул Василий, не перескочил, задел за Морскую Пучину пальцем правой ноги… Тут ему и смертный час пришел, смертный час, последний час…
По сводному безсоновскому разносказу стиха о «Голубиной Книге», помещенному во втором выпуске его «Калик перехожих», народное окиян-море представляется таким: «Окиян-море морям мати: сиредь моря, сиред Кияни что выходит из ней церковь соборная-богомольная, самого Клима, попа Рымскаго; что во той церкви во соборныя стоит гробница на воздухах бела-каменна; в той гробнице белокаменной почивают мощи попа Рымскаго, слава Клементьева; обкинуло то море вокруг землю всю, обошло то море около всей земли; вокруг земли, всей подселенныя – всего свету белаго»… Но это еще не самое главное, почему окиян-море – «всем морям мати». Стих продолжает свой сказ: «В нем окияне во мори пуп морской, а уси реки, уси моря всих Кияню морю собегалися, всих Кияню морю приклонилися, никуды вон не выходили; окиян-море зголубается, – вси моря ему покланяются… С-под восточной со сторонушки, как из славнаго окиян-моря, выставала из моря церковь соборная со двенадцатью со престоламы, святу Клименту, папы Рымскому, святу Петру Александрийскому. Во той церкви во соборныя почивают книги самого Христа. В этой церкви собиралось много князей и три тримполитора… На церкви главы мраморныя, на главах кресты золотые… Из той церкви из соборной, из соборной из богомольной, выходила Царица Небесная. Из окияна-моря она умывалася, на собор-церковь она Богу молилася…» Так объединил народ-сказатель свои поверья, почерпнутые со дна моря позабытого язычества, с приросшим к его чуткому стихийному сердцу евангельским повествованием, переродившимся в ряд неумирающих преданий, приукрашенных неувядаемыми цветами песенного слова.
Сине море, разбегающееся могучими валами во все стороны света белого, населено в суеверном представлении бесчисленным народом русалок – водяных дев, плавающих по волнам морским, колеблющих зыбь водную. Кроме русалок-красавиц с рыбьими хвостами, плавают в морских глубинах, иногда всплывая и наверх, проклятые отцами дочери-утопленницы. Есть там, по словам старых людей, доведавшихся за свою долгую жизнь до причины всех причин, и морские люди-фараоны («моряне»), предсказывающие судьбы мира. Не диво для зоркого воображения среди видимых и несуеверному глазу рыб морских встретить и рыб-оборотней, лезущих в рыбацкие сети на грех-беду нежданную. Потому-то и принимаются старые морские рыбаки тянуть сети-невода не иначе как с крестным знамением да с молитвою. «Молитва и со дна моря подымает!» – говорит народная пословица; так как же не вспомнить о ней православному люду, промышляющему трудом галилейских рыбарей, возвестивших утопающему в темных безднах язычества миру благую – светлую власть о Распятом Учителе Жизни…
Не одни русалки, морские люди да рыбы-оборотни населяют для суеверного люда зыбь и глубь морскую. Достаточно вернуться все к той же «Голубиной Книге», чтобы вспомнить как и о Кит-рыбе, на которой «основана Мати-Сыра-Земля», так и о том, что Стратим (Страфиль, Естрафиль – по иным разносказам) птица – всем птицам мати. На вопрос: «Почему Стратим-птица – всем птицам мати?» – следует обстоятельный ответ:
«Живет Стратим-птица на окиан-море,
И детей кормит на окиян-море;
По Божьему все повелению,
Стратим-птица вострепенется, —
Окиян-море восколыхнется:
Потому Стратим-птица – всем птицам мати…»
От птицы – «всем птицам мати» – сказатели-певцы переходят к зверю – «всем зверям отцу», который обитает поблизости от Стратим-птицы: «Живет Индрик-зверь за окиян-морем, он происходит из все горы белокаменныя, а хвалу произносит самому Христу»… – гласит о нем духовный стих.
Море является в народном представлении олицетворением всего необъятного, необозримого, неисчерпаемого: «море бед», «море хлопот», «море напастей», «море радостей», – говорится в живой обыденной речи. «Чернильное море, бумажны берега», – приговаривают краснословы о приказной волоките, тянущейся по целым годам. Не доверяет морю народная молва. «Хорошо море с берегу!» – замечает она: «Тихо море, поколе на берегу стоишь!», «Жди горя с моря, беды – от воды!», «Хвали море, на полатях лежучи!», «Кто в море не бывал, тот и горя не видал» («Богу не маливался!» – по иному разносказу), «Дальше море – меньше горя!», «В море глубины, а в людях правды не изведаешь!», «Не верь тишине морской да речи людской!», «Молва людская – что волна морская!», «Морских топит море, а сухопутных горе!» и т. д., и т. д. Но не на одном синем море беда живет, человека сторожит. Потому-то и сложились в народной Руси, обок с только что приведенными, и такие крылатые слова, как: «По горе – не за море, не огребешься и дома!», «Не ищи моря, и в луже утонешь!», «Не море топит, а лужа!», «В море горе, а без него двое!», «От горя – хоть в море!», «Горе – что море: ни переплыть, ни выпить!», «Пришло горе, взволновалось море: люди тонут и нас туда же гонят!»… У бывалых людей, сжившихся с морем, сложились свои поговорки красные об этой могучей стихии, приковывающей к себе взоры. «Был и на море, был и за морем!» – говорят они о самих себе. «Таланный и в море свою долю сыщет!» – приговаривают о счастливцах. «Море – рыбачье поле!», «С Богом – хоть за море!», «Не море топит корабли, а ветры!», «Пасть не пасть, да уж в море, а что толку – в лужу!» – пускают по людям свое словцо беспечные не-горюй-головы: «Море даст – что возьмешь!» О хвастливых краснобаях приговаривает словоохотливая деревня: «Шилом моря не нагреешь!», «Щепкой моря не перегородишь!», «Чашкой синя моря не вычерпаешь, ложкой не выхлебаешь!», «Хвалилась синица сине море зажечь!» О крепких задним умом людях говорят: «Ум за морем не купишь, коли своего батька не припас («коли дома нет!» – по разносказу, подслушанному В.И. Далем)!», «Журавли за море летают, а все одно – курлы!», «Ум за морем, а смерть за воротом!» При слухах о дешевизне в каком-нибудь дальнем месте зачастую оговариваются словами: «За морем телушка полушка, да рубль перевозу!», «Купил заморского товару, да не донес до амбару!», «Дешевы в заморской деревне орехи, да никто домой не принашивал!» Умеет слово впору молвить русский простота-мужик, об иной час скажет – что рублем подарит. «Ветром море колышет, молвою – народ!», «По капле дождь, а дождь реки поит: реками море стоит!», «И быстрой реке слава – до моря!» Недолюбливает народная Русь сидеть у моря да ждать погоды, если только пришлось ей хоть раз выйти из-под власти земли-кормилицы. «Ох, сине море, унеси ты мое горе!» – приговаривает она: «Под лежач камень и вода не течет!», «Кто у моря был, да за море не заглядывал – век тому шилом воду хлебать!» Море, по народному слову, сравнивается с матерью, сосущею своих дочерей: «Кая мать своих дочерей сосет?» – спрашивает о нем старинная загадка, ходящая по людям до сих пор. Из связанных с понятием о море загадок особенно изобразительны: «Ни море, ни земля; корабли не плавают, а ходить нельзя!» (болото), «На море на Коробанском много скота тараканского, один пастух королецкий!» (звезды частые со светлым месяцем), «Промеж двух морей, по мясным горам гнутый мостик лежит!» (коромысло с ведрами на плечах).
Русская народная песня не обходит моря молчанием, не оставляет синего без своего слова ласкового. Величает она его «морюшком», «широким раздольицем», то и дело возращаясь к нему в своих волнами льющихся напевах. «Ах, и по морю, ах, и по морю, ах, по морю, морю синему, по синему по Хвалынскому!» – звенит-разливается она в хороводном кругу, величающем «лебедь белую с лебедятами со малыми со детятами»:
«…Плывши, лебедь встрепенулася,
Под ней вода всколыхнулася;
Плывши, лебедь вышла на берег…
Где ни взялся, где ни взялся,
Где ни взялся млад-ясен сокол, —
Ушиб-убил, убил-ушиб,
Убил-ушиб лебедь белую;
Он кровь пустил по синю морю;
Он пух пустил, он пух пустил,
Он пух пустил по поднебесью,
Сорил перья по чисту полю…»
От этого хватающего за сердце напева неунывающие певуны готовы перейти и к такой смешливой, пляшущей словами песне, как: «За морем синичка не пышно жила, не пышно жила, пиво варивала, солоду купила, хмелю взаймы взяла, черный дрозд пивоваром был…» Среди свадебных песен, поющихся на девичнике красными девушками – невестиными подружками, еще не забыта в народе старинная: «Поверх моря, поверх синяго, поверх синяго, поверх Хвалынскаго, налеглись туманы со морянами, не видно ни лодочки, ни молодчика»… А во скольких других свадебных песнях слышится упоминание о море: «На море селезень косу вьет, серая утушка полощется…», «По морю корабль плывет, а по кругу бережку каретушка…», «Как на синем на море, что ль на белом камене строила Анна-душа, строила Ивановна, строила себе широкий двор…» Но все эти песни замирают без следа в душе слушателя перед такою «семейной», по определению собирателей песенного богатства, как поющаяся во всех уголках народной Руси:
«Уж как пал туман на сине море,
А злодей-тоска в ретиво сердце;
Не осаживать туману со синя моря,
Злодейке кручине с ретива сердца…»
Отразилось море и в разгульных песнях («Протекало синее море, слеталися птицы стадами» и др.), и в удалых («Уж как по морю, морю синему, по синему по Хвалынскому туда плывет сокол корабль…» и др.), и в солдатских – помогающих нести русскому воину тяготы службы царской. Есть и в казацких, ведущих речь о царе Иване Васильевиче, Ермаке сыне Тимофеевиче, донском, гребенском, яицком и селенгинском казачестве, свой сказ о море. И в каждом упоминании об его широком раздолье чуется глубина простодушного вдохновения, льющегося могучим разливом из народного сердца.
А и широко же это сердце, как сине море глубокое!..
VI. Лес и степь
Стихийная душа русского народа, – как в зеркале отразившаяся со всеми достоинствами и недостатками в памятниках изустного простонародного творчества, сохраненных от забвения трудами пытливых народоведов-собирателей, – во все времена и сроки стремилась на простор. Тесно было ей – могучей – ютиться веки вечные в насиженном поколениями родном гнезде, – хотя она и была прикована к нему неразрывными цепями кровной любви и всегда, куда бы ее ни закинула судьба, возвращалась к этому «гнезду», – хотя бы только мысленно, если нельзя на деле. Широкий размах был, – как и теперь остается, – неизменно присущ русской душе. Невместно было ей прятаться в норы от веяний внешней жизни, отовсюду наступавшей на нее. Как же ей было не рваться на простор, когда ее обуревала разлитая по всему народному духу силушка богатыря Святогора, не нашедшего на белом свете «тяги земной» и «угрязшаго» в недра Матери-Сырой-Земли?.. Самобытная в каждом своем проявлении богатырская душа пахаря и в искании простора оказалась не менее своеобразною. Желанный, он являл ей себя и в живых стенах деревьев – в лесу, и на вольном воздухе безлесной степной равнины, волнующейся, как море синее – ковылем, травой шелковою. «Степь леса не хуже!» – говорит народная Русь, но тут же новым крылатым словцом сама себя оговаривает: «Лес степи не лучше!» и прибавляет к этим двум поговоркам другие, еще более красные. «В степи – простор, в лесу – угодье!», «Где угоже, там и просторно!», «От простора угодья не искать, от угодья – простора!», «На своем угодье – житье просторное!» и т. д. Этими поговорками-присловьями поясняется сближение степного «простора» с лесным «угодьем». «Просторно вольному казаку на белом свете жить: был бы лес-батюшка да степь-матушка!» – подговаривается к ним, что присказка к сказке, речение, подслушанное в жигулевском Поволжье, – в тех местах, где когда-то задавала свой грозный пир понизовая вольница, оторвавшаяся от земли и выливавшая горючую тоску по ней в своих воровских да разбойничьих песнях. И теперь еще хватают за сердце, щемят ретивое свои «удалым» напевом такие песни, как:
«Не шуми ты, мати зеленая дубровушка!
Не мешай-ка ты мне, молодцу, думу думати:
Как поутру мне, добру-молодцу, во допросе быть,
Во допросе быть, перед судьей стоять,
Ах, пред судьей стоять – пред праведным,
Перед праведным, пред самим царем…»
С такими словами обращается удалой казак «вор-разбойничек» к охранявшей его волю вольную зеленой дубравушке. «Еще станет меня царь-государь спрашивати», – продолжает свою речь удалая песня: «Ты скажи, скажи, детинушка, крестьянской сын, уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал? Еще много ли с тобою было товарищей? Я скажу тебе, надежа православный царь, всю правду, я скажу тебе всю истину: что товарищей у меня было четверо, уж как первой мой товарищ темная ночь, а второй мой товарищ – булатный нож, а как третий товарищ мой – добрый конь, а четвертой мой товарищ – тугой лук, что рассыльщики мои – калены стрелы. Что возговорит надежа православный царь: исполать тебе, детинушка-крестьянской сын! Что умел ты воровать, умел ответ держать, я за то тебя, детинушка, пожалую середи поля хоромами высокими, что двумя ли столбами с перекладиной!..» В этой песне разбойник остается все тем же «крестьянским сыном», что и был до своего разбойничества. Слышится в ее словах биение все того же горящего любовью к родной земле, хотя и обагренного кровью, сердца, звучат та же неизменная преданность царю-государю, та же вера в его «правду праведную».
В других, родственных с этою, песнях воспеваются «леса, лесочки, леса темные», в которых были когда-то разбиты разоренные теперь «станы, станочки, станы теплые». Одна кончается таким заветом зачуявшего смертный час разбойника: «Вы положите меня, братцы, между трех дорог: между киевской, московской, славной муромской; в ногах-то поставьте мне моего коня, в головушки поставьте животворящий крест, в руку правую дайте саблю острую. И пойдет ли, иль поедет кто – остановится, моему кресту животворящему он помолится, моего коня, моего ворона испугается, моего-то меча, меча остраго приужахнется…» Одна песня – задушевнее другой, несмотря на то что пелись-слагались они в стане разбойничьем, вылетали на светлорусский простор из глубины опаленной грозною тоской груди, на которой тяжким бременем лежали дела душегубные. Вслушиваешься в такую, например, песню и только диву даешься, каким это чудом могли уживаться бок о бок звериная жажда крови и истинно человеческие чувства:
«Как досель, братцы, через темный лес
Не попархивал тут, братцы, млад-белой кречет,
Не пролетывал тут, братцы, ни сизой орел;
А как нынче у нас, братцы, через темный лес
Пролегла, лежит дороженька широкая!
Что по той ли по широкой по дороженьке
Проезжал ли млад-удал добрый молодец.
На заре-то было, братцы, на утренней,
На восходе было, братцы, светла месяца;
Как убит, лежит удал добрый молодец,
Что головушка у молодца проломана,
Ретиво сердце у молодца прострелено,
Что постелюшка под молодцем – камыш-трава,
Изголовьецо под добрым – част ракитов куст.
Одеяличко на молодце – ночка темная,
Ночка темная, осенняя – ночка холодная…»
Воспевая леса-дубровушки, русская вольная душа не оставила без хвалебного песенного слова и степь широкую, где приходилось ей размыкивать свою грусть-тоску. «Уж ты, степь моя, степь-раздольице, – льется песня, – степь широкая, степь Моздокская! Про тебя ли, степь, приготовил я три подарочка молодецкиих: первый дар тебе – удаль смелая, удаль смелая, неуемная; а другой тебе мой подарочек – руки крепкия, богатырския; а уж третий-то мой подарочек – голова буйна разудалая»… и т. д. Прислушиваясь к словам другой песни, слышишь, как шумит ковыль-трава шелковая, как бегут по ней ветры буйные, – видишь, как, припадая грудью к ней, уносит добра молодца от погони резвоногий конь, о котором сложилась пословица: «Степного коня не объездить на корде!»
«Широко ты, степь, пораскинулась,
К морю Черному понадвинулась…»
– невольно подсказывает сердце слова народного певца, льющиеся могучими свободными волнами из жаждущей вольного простора души.
Но не только притоном воров-разбойников были русские леса и русские степи. Сохранилась о них в народе и другая живучая память – об иных связанных с ними думах, об иного склада людях, об иных былях родной, политой трудовым потом и некупленною кровью земли.
Русский лес… Что может быть загадочнее нашей северной дубровы? Что более подскажет воображению углубляющегося в родную, поросшую быльем, быль русскому человеку? Красота леса бесконечно разнообразна в своем кажущемся однообразии. Она веет могучим дыханием жизни; она дышит ароматом девственной свежести. Она зовет за собою под таинственные своды тенистых деревьев. Она шепчет мягким пошептом трав, расстилает под ноги путнику пестрые цветочные ковры, перекликается звонким щебетом птиц, аукается с возбужденной памятью гулкими голосами седой старины.
Она близка сердцу русского человека – эта могучая красота русского леса, укрывавшего когда-то в себе не одно зверье да птаство, a и наших пращуров-родичей от лютого ворога, с огнем и мечом врывавшегося в родные мирному пахарю пределы, уводившего в полон жен и детей Русской Земли. Памятны сказания родного леса народу-хлеборобу и тем, что под лесною гостеприимной сенью находила свою «любезную мати-пустыню» хоронившаяся от неумолимой буквы беспощадных законов «мира сего», искавшая единения с Небом боговдохновенная мечта, исходившая тропами незнаемыми-нетоптаными из затаенных недр бездонно-глубокого сердца народного.
Северный дремучий лес говорит даже своим безмолвием, своей неизреченной тишиной, своими тихими шумами. Он словно воскрешает в русской душе миросозерцание забытых дедов-прадедов, словно подает ей весть о том, что следят за каждым ее вздохом из мрака бесконечности эти переселившиеся в область неведомого пращуры. Под сенью леса как будто пробуждается в этой душе вся былая-отжитая жизнь дышавших одним дыханием с матерью-природою предков – простых сердцем людей неустанного потового-страдного труда и непоколебимо-могучей силы воли. Лесное молчание исполнено шорохов безвестных. Оно помогает хоть одним глазом заглянуть в великую книгу природы, наглухо закрытую для всех не пытающихся припадать на грудь родной матери-земли. И вековечная печаль, и тихий свет радостей, и грозные вспышки стародавних обид, и тайны – несказанные тайны – все это слышится, внемлется сердцу в молчании родных лесов. Пробегает ветер по вершинам старых богатырей, сосен – скрипят-качаются могучие деревья, готовые померяться с грозой-непогодою. Ратует с бурею дремучая лесная крепь, шумит – многошумная, обступает захожего человека, перекликается с ним, перебегает ему дорогу, манит вещими голосами под свою широковетвистую сень, навевает на душу светлые думы о том, что он – этот человек – сын той же матери-природы, взрастившей на своей груди лес, зовущийся таинственным садом Божиим. Лес говорит русскому сердцу не в пример больше, чем море синее, и этот говор откровеннее и понятнее для нас – как все кровное родное… Не следует ли искать причину этого явления в том, что русский народ-пахарь слишком долгое время был отрезан от своих теперешних семи морей вражьей силою, слишком долго хоронился в родных лесах – со своей народной верою в поруганную пришельцами-ворогами государственную самобытность, ревностно оберегая ее от всякого лихого глаза!.. Под лесными тиховейными сводами нисходит на уязвленную житейской борьбою душу благодатный, неизреченный покой. Быть может, это и есть то самое чувство, которое вызвало у излюбленного народом-стихопевцем – покинувшего отчий дом и сменявшего царский трон на покой пустынножительства – «младаго царевича Иосафия», умилительные, западающие в сокровенную глубину души слова:
«Любезная моя мать,
Прекрасная мать-пустыня,
Приемли меня во пустыню!
От юности прелестныя,
Научи меня, мать-пустыня,
Как Божью волю творити!
Укрой меня, мать-пустыня,
От темныя ночи!
Приведи меня, любезная мать.
Во свое во небесное царство!»
«Под темными лесами, под ходячими облаками, под частыми звездами, под красным солнышком» – так определяет русский народ местоположение своей родной земли. От моря до моря, через леса дремучие, через степи раздольные, через горы толкучие идут ее рубежи, определенные-проведенные неисповедимыми судьбами Божиими. И вот на этом-то неоглядном светлорусском просторе слагались, шли от безбрежного океана стародавних времен к пологим берегам наших дней живучие родные сказания с пестрой свитою звонкоголосых пословиц, разодетых в цветно платье поговорок, окрыленных жизнью присловий. В глубине этих кладезей богатства народной стихийной души таится неиссякаемый ключ, бьющий живою водой простодушной правды, пред которою меркнет искусственный свет высокомерной мудрости, пытающейся на наших глазах переступить чуть ли не за пределы беспредельного.
Крылатая народная молвь говорит о лесе в самых любовных выражениях. Лучшим украшением жилого места является, по ней, густая зелень деревьев. «Лес – к селу крест, – гласит она, – а безлесье – неугоже поместье!» Не на чем глаза остановить, по выражению русского человека, там, где нет «ни прута, ни лесинки, ни барабанной палки». Там же, где всюду поднимаются вокруг жилья зеленые стены лесов, где все – лес да лес, «только в небо и дыра», – как-то самодовольно приговаривает посельщина-деревенщина: «Был бы хлеб да муж, а к лесу привыкнешь!», «Леса да земли – как корову дои!», «Вырос лес, так будет и топорище!», «Возле леса жить – голоду не видеть!», «Лесная сторона не одного волка, а и мужика досыта накормит!» и т. д. Недаром слывет лес в народной Руси садом Божиим, насаженным для всех и про всякого, – большого труда стоит внушить живущему под лесом пахарю, что не смеет он в чужой даче срубить ни леснинки. «Аль тебе в лесу лесу мало?» – того и гляди вырвется у него в ответ на увещания дышащее раздражением слово. «Дальше в лес, больше дров!» Попробуйте представить ему то либо другое возражение, – сейчас же начнет он сыпать словами-присловьями. «Лес по дереву не тужит!» – скажет он в свое оправдание, – «Лес по лесу – что рубль по рублю – не плачет!», «Так тебе и заплакал лес по топорищу!» и т. д. Но как бы ни старался подлесный житель доказывать свое право на «топорище» в соседней чаще, – сплошь да рядом случается, что оправдываются на нем самом сложившиеся, вероятно, не в особенно давние времена поговорки: «Под лесом живу, а печку соломой топлю!», «Лесная сторона, да лесники без дров!», «Хороши дрова у соседа: от его тепла к нам пар идет!»
Бывает и так, что над подлесными жителями, сидящими без полена дров, подсмеиваются степники-пшеничники. «В лесу люди лесеют!», – говорят они: «Где им по-людски жить: в лесу родились, под кустом крестились, вокруг куста венчались, пенькам молятся!», «Хорошо люди живут: мякинный хлебушко за пазухой носят; а хлебца нет – коры невпроед!», «На что нам мякина с лебедой, когда сосна кругом: поскоблил и брюхо набито!..» Не остается в долгу перед пшеничниками и лесной народ. «Эва – диво, братцы, – отговаривается он, – живут же люди на свете: хлебом давятся, а пекут хлебы на коровьем назьме (кизяке)!» или: «Весело – куда ни глянешь, глаза косят-разбегаются!», «Стеновые мужики, лепите кизяки: зима на носу!», «Степняк хитер, дров нет – у коровы тепла выпросит!», «Что пшеничному брюху дрова, был бы навоз у хлева!», «Много ли степному селу и тепла надо: завело село быка – и сыто, и нагрелось!» и т. д.
Ко многому приплетает охочий до красных речей русский народ понятия, связанные с зеленой дубровушкою. «Обманет – в лес уйдет!» или: «Как волка ни корми, все в лес смотрит!» – говорится о ненадежном человеке. «Будто на пусты лесы!» – приговаривают положительные люди о любящем прилгнуть-сбрехнуть краснобае; «Кто в лес, кто – по дрова; кто два, кто – полтора!» – говорят при поднимающейся за беседою разноголосице. «Бог и лесу не сравнял!» – замечает народная молвь, поясняя: «В лесу Бог лесу не уравнял, в народстве – людей!» О попавших в совершенно неведомые дотоле дела и растерявшихся принято говорить, что они бродят «как в темном лесу». О бывалых людях сложено свое присловье – «Соколу лес не в диво!» Сами же «соколы» не прочь обмолвиться о себе и таким словцом, как: «Беда не по лесу ходит, а по людям!» Когда, еще не сделав дела, кто-нибудь начинает судить-рядить о том, что должно выйти из этого последнего, в обычае говорить: «Медведь в лесу, а шкура продана (или: «…а на шкуру торг идет!»). К тем, кто не в меру осторожен, подходят свои пословицы: «Волков бояться – в лес не ходить!», «Пошло поле в лес!» и т. п. Есть люди, что на каждом шагу оговаривают себя то одной, то другою приметой. Не обошли они своим словцом и леса темного. Так, по их поверью, если идти по лесу да петь и увидеть ворона, это значит – надо ждать встречи с волком или (еще того легче!) с самим «лесным барином» – медведем. Если худо говорить про кого-нибудь из близких, идучи лесной дорогою, да не сказать: «На сухой («…на пустой» – по иному разносказу) лес будь помянуто!» – случится с тем, о ком велась речь, какое ни на есть лихо. О людях, к которым применима пословица «Глупому сыну не в помощь богатство!», можно иногда услышать и такой прибауток, как: «Догнал батькину полосу до самого лесу!», «Все был лес да лес, оглянулся – одно залесье!» и т. д.
Отбрасывающие во все стороны от себя тень лесные кущи веют захожего путника чем-то несказанным. Под их навесами чувствуется общение с каким-то стоящими вне обычного течения жизни миром. И весь тайна, весь загадка, этот мир для не посвященного в его «святая святых» человека.
Должно быть, загадочность мира, отдаленного от человека темными навесами зеленокудрого царства, и вызвала то многое множество загадок, что ходят по светлорусскому простору, ведя речь обо всем, связанным с ним. Народ-землепашец с особой внимательностью приглядывается к жизни леса, – от его зорких глаз не ускользает ни малейших подробностей ее: словно он сердцем чует каждое мимолетное дыхание творческой силы, создавшей это могучее царство, где – что ни шаг, то яркое проявление ее чудодейного духа.
Выше лесу, по словам русской загадки, солнышко красное; но этим же свойством наделяет народная Русь и ветер, который – по ее слову – «выше лесу, тоньше волоса». У русского человека в душе всегда сидит художник, прислушивающийся к музыке природы. Не диво поэтому, что любит он свои самодельные гусли-самогуды да балалайку-веселуху, бряцать по струнам которых исстари веков слыл великим мастером. Речь о последней утехе-забаве связана у него и с лесом. «В лесу выросло, из лесу вынесли, на руках плачет, а по полу скачет!» – говорит он о ней. К балалайке же относится и такая загадка, как: «В лесу-то тяп-тяп, дома-то ляп-ляп; на колени возьмешь – заплачет!» Про гудок загадывают на тот же самый лад: «В лесу вырос, на стене вывис, на руках плачет; кто слушает – скачет!» Не сделаешь, однако, ни балалайки, ни гудка без топора; а и топора нет – без топорища. Вот и о нем пустила словоохотливая деревня гулять по людям свою загадку. «В лес идет – домой глядит; из лесу идет – в лес глядит!» – гласит она, вызывая перед слушателями живую картину (мужика, идущего с топором за поясом).
Что ни дерево в лесу, то своя краса, своя особая жизнь, свои приуроченные к ней, выхваченные из нее пытливым слухом народные поговорки. Но едва ли не более всего прочего лесного народа зеленого по сердцу простодушному пахарю береза – эта белая, кудрявая красавица.
Несмотря на крупные задатки мечтателя, русский мужик всегда остается себе на уме, человеком хозяйственным. Зоркий взгляд его прежде всего приглядывается к полезности того, что встречается ему на пути зрения. Так и здесь. «Шел я лесом, – загадывает народная Русь загадку о березе-березыньке, – нашел я древо, из этого древа выходят четыре дела: первое дело – слепому посвеченье (лучина); второе дело – нагому потешенье (веник в бане на полке); третье дело – скрипячему поможенье (береста, деготь для телеги); четвертое дело – хворому полегчение (сок – березовица)»… По ярославскому разносказу: первое – «от темной ночи свет», второе – «некопаный колодец», третье – «старому здоровье», четвертое – «разбитому связь»; по самарскому: «третье дельце – ах, хорошо!» Псковичи говорят про это дерево в четырех словах: «Летом мохнатенька, зимой сучковатенька!», куряне – немногим больше: «Хоть малая, хоть большая – где стоит, там и шумит!»; казанские загадчики ведут более сложную-мудреную речь: «На поле на Арском стоят столбики белены, на них шапочки зелены…» Народное песенное слово величает березу в целом ряде песен – то грустных-проголосных, то веселых частушек. И в тех, и в других это любимое дерево великоросса является наделенным ласкательными именами. «То не белая березынька к земле клонится, не бумажные листочки расстилаются»… – выводит одна запевка. «Кудрявая березынька под окошечком, а в окошечке не касаточка, не ласточка – сидит красна девица…» – сливается с первой другая песня. «Вечор моя березынька, вечор моя кудрявая, кудрявая, зеленая, ах мелколистная, вечор моя березынька долго шумела, долго шумела – сердечушку от мила дружка несла весточку, ах кудрявая!»… – заливается третья… «Во поле березынька стояла, во поле кудрявая шумела. Люли-люли, стояла; люли-люли, шумела!» – звенит залихватский перебор четвертой. И не будет конца этим песням, если приняться перебирать их одну за другой.









































