Текст книги "Европейские мины и контрмины"
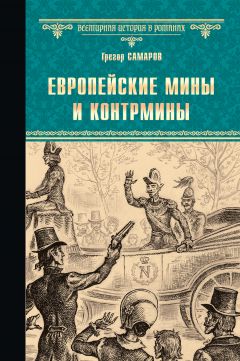
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц)
Зоннтаг схватил с полки несколько корзин и подал их молодой девушке.
– В пакете две тысячи талеров золотом, – сказала Елена тихо. – Этого хватит?
– Вполне, – отвечал Зоннтаг. – Надеюсь, сегодня вечером он будет спасен.
– Я должна увидеться и проститься с ним, – сказала Елена тихим, но твердым и решительным голосом.
– Невозможно, – отвечал Зоннтаг, бросая взгляд в лавку, где его жена занимала госпожу фон Венденштейн.
– Почему невозможно? – прошептала Елена, внимательно осматривая корзину. – Я сделаю все, чего требует осторожность. Но прошу вас, умоляю вас, доставьте возможность еще раз увидеться с ним.
И со слезами на глазах она взглянула на умное лицо маленького купца.
Последний задумался на минуту.
– Хорошо, – сказал он потом, – может быть, даже будет лучше, если вы пойдете с ним из города – это не возбудит любопытства. Может быть, здесь, в девять часов вечера?
– Приду ровно в девять, – сказала Елена.
– Еще одно, – продолжал Зоннтаг, повернувшись спиной к двери и подавая молодой девушке стеариновую свечу, – пошлите сегодня вечером эту свечу фон Венденштейну. – Но только одну эту.
Елена спрятала свечу под мантильей.
– Теперь пойдемте в лавку. Возьмите корзину.
Зоннтаг бросил привезенный Еленой пакет в ящик и запер его. Потом они оба вышли в магазин.
– Как я рад, – сказал Зоннтаг госпоже фон Венденштейн, – что фрейлейн нашла наконец то, чего желала.
Елена с улыбкой показала корзину, которую держала в руках.
– Я также купила все, – сказала госпожа фон Венденштейн, вставая.
Зоннтаг с женой проводили дам до кареты и подали им покупки.
* * *
Вечером того же дня лейтенант фон Венденштейн скучал в своей комнате. На дворе темнело постепенно: погружаясь в печальные мысли, молодой человек смотрел на бледную вечернюю зарю, которая слабо догорала на облачном небе.
Это был час, в который семейство Венденштейнов собиралось вокруг чайного стола, и чем яснее выступала эта картина в мыслях молодого человека, тем печальнее казалось ему настоящее его одиночество.
Он глубоко вздохнул.
– Бедная Елена, – прошептал молодой человек. – Было бы несравненно лучше идти навстречу битве, пусть даже в ней грозила опасность смерти, большая, чем предстоит мне здесь! Я припоминаю картину, представлявшую молодого человека в тюрьме, и над картиной надпись: первая четверть часа от срока в двадцать пять лет. Ее напоминает мне мое теперешнее положение, однако я здесь уже целые сутки, и, – прибавил он весело, – арест, конечно, не продлится двадцать пять лет.
Снаружи загремели ключами, замок заскрипел, задвижка отодвинулась, дверь отворилась.
Вошел старый слуга оберамтманна в сопровождении сторожа и чиновника; он принес корзину и поставил ее на стол.
– Господа и фрейлейн Елена прислали сердечный привет, – сказал он, с участием взглянув на молодого человека.
– Здоровы ли они? – спросил лейтенант с живостью. – Матушка все еще беспокоится, а Елена?
– Господа очень огорчены несчастием господина лейтенанта, – сказал старый слуга, – но не теряют духа и надеются, что господин лейтенант скоро освободится.
– Что ты принес? – спросил молодой человек, с любопытством открывая корзину.
– Прошу извинить, – сказал чиновник, – я должен осмотреть каждую вещь.
Слуга вынул из корзины несколько булок, которые лейтенант разломил по требованию чиновника; потом холодное мясо, уже нарезанное ломтями, бутылку бордо и стакан; затем подсвечник, свечу и спички. Чиновник внимательно осматривал каждый предмет и, казалось, ни один из них не счел подозрительным.
– Могу ли я вас просить исследовать и это бордо? – сказал лейтенант, подавая чиновнику стакан вина.
Чиновник колебался с минуту, потом выпил вино, сказав:
– За ваше скорое освобождение!
– Я не могу чокнуться, потому что стакан один, – сказал лейтенант весело, наполняя его опять, – но мы, солдаты, привыкли к этому, и, когда меня выпустят, я предложу вам выпить со мною бокал вина на радостях.
Вечер становился все темней и темней.
Иоганн вставил свечу в подсвечник и зажег ее.
– Как скудно! – посетовал лейтенант. – Только одна свеча?
– Господин оберамтманн полагал, что нельзя послать больше одной; завтра господин лейтенант получит больше, если это не запрещено, – сказал слуга, вопросительно взглянув на чиновника
– Я не вижу никаких препятствий к тому, – заметил последний.
– Вот еще и книга, – продолжал старый слуга, вынимая том из кармана.
– Позвольте! – вскинулся чиновник, выхватил книгу и сильно встряхнул ее.
Упала записка.
Чиновник поднял ее и прочел: «Сердечный и искренний привет. Елена».
– От моей невесты, – сказал молодой человек, протягивая руку.
– Сожалею, что не могу отдать вам записки, – сказал чиновник. – В ней может содержаться надпись симпатическими чернилами, – прибавил он с тонкой улыбкой.
Молодой человек печальными глазами провожал записку, которая скрылась в чиновничьем кармане.
– Теперь прощайте. Вам ничего больше не нужно? – спросил чиновник.
– Благодарю вас, ничего. Прощай, Иоганн! Поклонись домашним!
Ключ заскрипел в замке, задвижка завизжала, и молодой человек остался один.
Грустно уселся он у стола – одиночество становится прискорбнее, когда на минуту осветится ярким лучом кипучего, полного жизни света.
Он открыл книгу. Это были «Записки Пиквикского клуба» Боза3535
Псевдоним Чарльза Диккенса, под которым он выпустил свою первую книгу «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837).
[Закрыть] – неистощимая сокровищница юмористических познаний света и людей.
Лейтенант стал читать, и вскоре невольная улыбка явилась на его губах, он читал дальше и дальше и среди веселых, вечно юных и радостных картин жизни позабыл о своем положении.
Вдруг свеча стала гаснуть и, вспыхнув несколько раз, потухла совсем.
Молодой человек встал в изумлении, отыскал ощупью спички и хотел опять зажечь свечу, но вместо воска нашел твердый предмет, который не загорался.
Фон Венденштейн вынул свечу из подсвечника и обнаружил маленький тоненький металлический цилиндр, открытый с нижнего конца и так искусно вставленный внутрь свечи, что последняя была снаружи совершенно гладка и казалась годной для горения.
Молодой человек перевернул свечу, поставил ее в подсвечник и зажег с нижнего конца.
В цилиндре находился туго свернутый клочок бумаги.
Совершенно неизвестная лейтенанту рука написала на этом клочке следующие слова: «Не раздевайтесь и не спите, освобождение близко».
– Что это значит? – вскричал он в удивлении. – Освобождение близко? Как возможно освободиться отсюда? Но как бы то ни было, хорошо и то, что мне улыбается надежда. Подождем.
И он опять взялся за книгу и стал читать.
Но ум его не следил за строчками – лихорадочное беспокойство возбуждало нервы; он слышал, как в глубокой тишине раздавался каждые четверть часа бой городских часов, и каждая четверть часа казалась ему вечностью.
Пробило десять часов, смолк шум шагов и голосов, который доселе глухо и неясно доносился до него; волнение молодого человека усиливалось.
Пробило четверть одиннадцатого. У дверного замка послышался легкий шорох.
Молодой человек встал и впился глазами в дверь, отделявшую его от света.
Можно было расслышать, как тихо, медленно и твердо поворачивали ключ в замке.
Дверь отворилась так же медленно и бесшумно.
Вошел человек с узлом под мышкой.
Лейтенант с любопытством посмотрел на пришельца.
И увидел совершенно незнакомое лицо.
– Вот, господин фон Венденштейн, – шепотом сказал пришедший, – это пальто полицейского вахмистра и его форменная фуражка, надевайте скорее. Вот черные усы и бакенбарды. Так, теперь застегните пальто и спрячьте в карман фуражку. Выйти отсюда нельзя иначе, как через главный вход. Сойдите по большой лестнице, внизу стоят двое часовых, передняя ярко освещена, дверь на улицу отперта. Задача в том, чтобы скоро, твердо и уверенно выйти, и тогда вы спасены. Слушайте внимательно, – продолжал незнакомец, подойдя к молодому человеку ближе и шепча ему на ухо, – выйдя на улицу, ступайте в первую беседку на площади Ватерлоо. Там снимите пальто и фуражку, наденьте штатскую фуражку, но оставьте усы и бакенбарды; потом идите медленным и спокойным шагом к мосту, ведущему к Фридрихсваллю, там узнаете остальное. Не расспрашивайте, – сказал он, заметив желание фон Венденштейна задать вопрос, – исполняйте буквально то, что я вам сказал, и счастливого пути!
Фон Венденштейн, неузнаваемый в накладной черной бороде, полицейском пальто и фуражке, тихими шагами добрался до конца коридора, потом твердо и скоро сошел с большой лестницы.
Когда он вступил в просторную переднюю, где расхаживали двое часовых, сердце его стучало так громко, что его почти можно было слышать. Из находящейся вблизи караульни раздавался шум тихих голосов.
Молодой человек прошел между обоими часовыми, отворил наружную дверь, перед которою стоял на улице караульный, вышел и скрылся в ночном мраке.
Все было тихо в здании полиции, раздавались только спокойные, однообразные шаги часового.
Фон Венденштейн вошел в одну из беседок близ площади Ватерлоо, сбросил пальто, надел штатскую фуражку и медленно направился к мосту, указанному незнакомцем.
Из-за угла улицы, выходящей на площадь, показался человек, вошел в беседку, в которой только что был лейтенант, собрал оставленные вещи, взял узел под мышку и медленно отправился к внутреннему городу.
Молодой человек перешел мост. Несколько человек прогуливались за мостом, между деревьями, при мерцающем свете газовых фонарей.
Навстречу лейтенанту шел небольшой мужчина, ведя под руку женщину в бюргерском наряде.
– Добрый вечер! – крикнул мужчина громким голосом. – Наконец-то ты пришел, кузен – мы тебя заждались! Что ты там делал без нас? Теперь пойдемте скорее домой!
И тихо прибавил, почти наклонившись к уху лейтенанта:
– Ни слова, ни жеста, дайте руку даме!
Дрожащая рука оперлась на руку молодого человека.
– Зоннтаг, Елена! – прошептал последний, но маленький купец уже быстро шагал по обсаженной деревьями улице. Елена увлекла жениха за собой.
Вскоре они достигли конца Фридрихсвалля и вошли в так называемую рощу Эйленринде, которая осеняет Ганновер красивыми верхушками своих старых высоких деревьев.
Всякую попытку лейтенанта заговорить Зоннтаг прекращал замечанием: «Подождите, пока выйдем из города!»
Поэтому молодой человек довольствовался тем, что нежно пожимал ручку, покоившуюся на его руке и изредка отвечавшую на его пожатие.
Они достигли последних городских домов, никто не обратил на них внимания, они казались возвращающимися из гостей бюргерами.
Зоннтаг осторожно огляделся: никого не было видно на далеком пространстве.
– Теперь скорее под тень деревьев! – сказал он и пошел впереди молодых людей.
Их приняла темная роща Эйленринде.
– Так, – сказал Зоннтаг, с облегчением выдохнув. – Главная опасность миновала. Фрейлейн, вы нам сильно помогли: мужчина, идущий с дамой, никогда не кажется подозрительным. Теперь разговаривайте, – прибавил он с улыбкой, – у нас есть еще минут десять, а я пойду впереди в двадцати шагах, но с условием, чтобы вы не теряли меня из вида и соразмеряли свои шаги с моими, время дорого.
И быстро пошел по белевшей в темноте дороге.
Молодые люди двинулись за ним, ведя шепотом разговор: они должны были идти скоро, потому что темный силуэт фигуры Зоннтага быстро подвигался вперед по дороге, которая вела к большому шоссе, пересекавшему Эйленринде.
Оба переживали теперь минуты особенного, глубокого волнения. Радость от удачного начала побега, скорбь о разлуке, продолжительность которой нельзя было определить, тяжкие заботы о предстоящем дне, потому что лейтенанту предстояло проехать всю страну до самой границы – все это наполняло и волновало молодые сердца, которые вновь сжимались под влиянием печальных мыслей. Они обменивались только отрывистыми словами, словами любви, уверения в верности, грустного воспоминания о происшедшем, печаль и надежда, счастье и скорбь чудесно сливались в этих словах.
Так поспешно шли они дальше и дальше, запыхавшись от быстрой ходьбы и внутреннего волнения; свежий ночной ветерок касался их горячих щек; с темного неба светили сквозь бегущие облака мерцающие звезды, в величественном спокойствии и безмолвии взирая на бегущих в трепете людей, которые спасались от других им подобных, коим не сделали никакого зла и к коим не питали ни ненависти, ни мщения; таинственная сила совершающейся судьбы народов гнала преследуемых, как гнала их противников, которые преследовали их. Но небесные звезды не ведали ничего об этих страданиях и борьбе жителей земли – те звезды, светлые пути которых, подчиненные вечному строю и гармонии, никогда не пересекаются и не перерезывают враждебно друг друга, как пути борющихся людей, которые на границе света и мрака должны в тягостной борьбе стремиться из области мрака в область вечного света и покоя.
Дорога повернула, сквозь расступившиеся деревья видно было большое шоссе.
Зоннтаг остановился. Через несколько секунд к нему подошли молодые люди.
Из тени вышел на дорогу человек, ведя лошадь в поводу.
– Слава богу, вы здесь, господин фон Венденштейн, – сказал ветеринар Гирше, подойдя к молодому человеку и пожав ему руку. – Я немало беспокоился. Теперь, когда главное сделано, да поможет Бог в остальном!
– Скорей, скорей на лошадь! – вскричал Зоннтаг с живостью. – В кобурах два двуствольных пистолета, а здесь… – Он вынул два полных кошелька. – Золото. С деньгами в кармане и с четырьмя выстрелами можно далеко уехать. Вот еще несколько горстей мелкого серебра, – продолжал он, – спрячьте его в карман, оно понадобится вам в том случае, когда золото может возбудить подозрение. Теперь ступайте, постарайтесь достигнуть моря или голландской границы, а главное, будьте к утру в безопасном месте, в густом лесу или у крестьян, они вас не выдадут. До утра вас не хватятся, у вас впереди восемь или девять часов. Днем не показывайтесь. Вперед, вперед!
Молодой человек похлопал лошадь по шее.
– Это Гамлет фон Эшенберга, – сказал он, – почему же не моя лошадь?
– Что за мысль?! – вскричал Зоннтаг. – Вывести вашу лошадь из конюшни – значит поднять всю полицию на ноги.
– Если нужно, – сказал Гирше, – пожертвуйте лошадью, но, – прибавил он, поглаживая шею красивого животного, – если возможно, поберегите Гамлета. – Отдайте его какому-нибудь крестьянину, тот приведет коня назад.
– Не сомневайтесь, – отвечал фон Венденштейн, – я буду по возможности щадить лошадь. Благодарю Эшенберга за это доказательство дружбы, но прежде всего благодарю вас, господа!
Он пожал руки Зоннтагу и Гирше.
Потом обратился к Елене, которая безмолвно стояла, сложив на груди руки.
– Прощай, моя бесценная! – сказал он глубоко взволнованным голосом.
Елена обняла его и крепко прижала, опустив с рыданием голову на его грудь.
– Когда-то ты пела мне: до свиданья, – сказал лейтенант, приподнимая лицо молодой девушки, – и мы свиделись, хотя перенесли много страданий.
– До свиданья! – прошептала молодая девушка.
– Ступайте, ступайте, ради бога! – вскричал Зоннтаг.
Фон Венденштейн нежно поцеловал уста Елены, потом тихо снял ее руки со своих плеч и вскочил на лошадь.
Он помахал на прощание рукой, лошадь взвилась и через несколько секунд исчезла в темноте.
– Да хранит его Господь! – сказала громко Елена и залилась слезами; чрезмерное напряжение сменилось глубокой скорбью разлуки, и она почти лишилась сил.
– Будьте мужественны, фрейлейн, – сказал Зоннтаг, подавая ей руку. – Он уже миновал главнейшую опасность, не теряйте сил, по крайней мере до тех пор, пока мы не привезем вас домой!
Елена встала и оперлась на руку купца.
Все трое безмолвно возвратились в город.
Глава пятнадцатая
На улице Камбасерес, напротив задних ворот здания министерства внутренних дел, стоит маленький двухэтажный дом, с воротами посредине.
К этому дому подошел низенький мужчина, лет сорока-пятидесяти, с резкими чертами смуглого лица того оливкового оттенка, который присущ южным французам, с небольшими черными усиками и блестящими умными глазами. Он позвонил в колокольчик.
Немедленно отворились ворота, посетитель вошел и, повернув к лестнице на второй этаж, спросил у привратника:
– Герцог дома?
Получив утвердительный ответ, посетитель поднялся по устланной мягким ковром лестнице и, встретив в передней камердинера, сказал ему:
– Спросите, угодно ли герцогу принять Экюдье.
Камердинер ушел во внутренние комнаты и через несколько секунд отворил дверь:
– Пожалуйте.
Экюдье, умный и искусный редактор журнала «Франс», вошел в маленький салон, убранный и меблированный в стиле Людовика XV. Позолоченная мебель, стенные часы, фамильные портреты по стенам, пестрые ковры на красивом паркете – все это составляло роскошное и вместе с тем элегантное целое.
Это изящное и старинное убранство вполне гармонировало с высокой аристократической фигурой и красивыми, древнефранцузскими чертами герцога Граммона, который, несмотря на раннее утро, был уже совсем одет.
– Я услышал, что вы здесь, герцог, – сказал Экюдье, – и не захотел откладывать своего визита. Вы приехали из Вены, и, может быть, вам не будут бесполезны некоторые сведения. Я был в отеле «Граммон», – продолжал он, – там мне посоветовали, чтобы я отправился сюда.
Герцог указал на стул и, сев в широкое кресло, сказал, обводя глазами комнату:
– Уютные покои этого домика, в котором я жил еще в бытность Гишем, я, когда бываю в Париже один, предпочитаю большим дворцам в Сен-Жерменском предместье. Очень рад видеть вас, дорогой Экюдье. Как идут здесь дела? Что говорит общественное мнение и политический мир? Никто, кроме вас, не может иметь лучших сведений обо всем этом, – прибавил он с легким поклоном.
– Политический мир, – отвечал Экюдье, – представляет в настоящую минуту хаос, в котором борются противоположные стихии. Жаль, очень жаль, – прибавил он со вздохом, – потому что никогда не было столь удобной минуты, чтобы сразу восстановить тот авторитет, которого мы лишились по вине битвы при Садовой.
Герцог пожал плечами.
– Я употребил тогда все силы, чтобы дать политике иное направление, – сказал он.
– Конечно, конечно, – согласился Экюдье. – Но поможет ли взгляд в прошлое – нам следует опять приобрести то, что мы потеряли!
– Да. И что думает император? – спросил герцог как бы невзначай, устремляя пристальный взгляд на оживленное лицо журналиста. Лагерроньер, кажется, обладает тонким умом…
– Лагерроньер убежден, – отвечал Экюдье, – что император желает серьезно действовать и ждет только случая, чтобы преодолеть все препятствия, которыми его окружают.
– Окружают? – спросил герцог. – Кто? Я полагал, что здесь все в воинственном настроении.
– Вовсе нет, – ответил Экюдье. – Маркиз де Мутье желает войны, я в этом твердо убежден, и довольно ясно выражает свое мнение, равно как граф Сен-Вальер, начальник его кабинета. Но Руэр и Лавалетт и все их клевреты, – прибавил он, пожимая плечами, – ревностно и неутомимо хлопочут о мире. А это значит, – сказал он недовольным тоном, – о новом унижении Франции.
Герцог слушал внимательно.
– Руэр и Лавалетт? – спросил он. – Разве Руэр опять пользуется столь большим влиянием? Говорили, что его звезда закатилась.
– Она стоит выше, чем когда-либо, – вскричал Экюдье. – Ибо, – продолжал он тише, наклонившись немного к герцогу, – его сильно поддерживает императрица.
– Императрица? – удивился Граммон. – Ее величество хлопочет о мире?
– Со всей ревностью, – отвечал Экюдье. – Никто не может найти причину: ее величество вдруг приобрела такое сильное отвращение к пушечному грому, такой сильный страх пред пролитой кровью…
– А! – произнес герцог и в задумчивости опустил голову.
– Это переворачивает весь свет, – сказал Экюдье пылко, – Лагерроньер в большом затруднении – опасно идти против желания государыни; мы все здесь, надеющиеся и хлопочущие о мужественном и славном возвеличении Франции, совершенно упали духом и ожидаем, – прибавил он с поклоном, – сильной поддержки от вас, герцог. – И от Австрии.
– От Австрии? – переспросил герцог медленно и пожал плечами.
– В своих письмах, – сказал Экюдье торопливо, – вы ведь знаете, герцог, я регулярно посылаю туда письма…
Герцог кивнул головой.
– В этих письмах, – продолжал Экюдье, – я особенно живо указываю на необходимость немедленно и без всякого колебания воспользоваться любой возможностью, чтобы разрушить незаконченное дело минувшего года, пока Германия еще не сложилась и не окрепла под прусской военной гегемонией, ибо как только это случится, Австрия на веки будет исключена из Германии.
– Но может ли воспрепятствовать этому требование компенсаций, и притом настоятельное? – сказал герцог, будто про себя.
– Как только начнется война, – сказал Экюдье, – как только сломится прусское могущество, тогда нечего и говорить о вознаграждении. Нужно только сделать первый шаг, чтобы проснуться от летаргии, в которую мы впали с прошедшего года – с того времени, как сменили Друэн де Люиса.
– Он в Париже? – спросил герцог. – Я хочу повидаться с ним. В каких с ним отношениях император?
– Внешне – в очень хороших, – отвечал Экюдье, – император чрезвычайно внимателен к нему, а Друэн де Люис настолько патриот и аристократ, что не станет разыгрывать роль недовольного. Внутренне же – в очень дурных.
– Следовательно, он на дружеской ноге с нынешним министерством? – спросил герцог.
– На отличнейшей, – отвечал Экюдье. – Единственная насмешка, какую он позволяет себе, состоит в том, что он назначил прием в своем отеле в один день с министром иностранных дел…
– И? – спросил герцог с улыбкой.
– И, – продолжал Экюдье, – весь свет собирается у Друэн де Люиса, даже чиновники министерства иностранных дел, а салоны на Ке д’Орсэ3636
Улица в Париже, на которой располагается министерство иностранных дел Франции.
[Закрыть] пустуют.
Герцог улыбнулся.
– Престранное положение, – сказал он. – Итак, вы думаете, что император внутренне желает войны и разделяет мнение Друэн де Люиса?
– Я убежден, – сказал Экюдье, – что император желает войны. Быть может, он встретил какое-нибудь препятствие – говорят о недостаточной организации армии. Я убежден и в том, что в минуту действия он призовет опять Друэн де Люиса управлять делами. Но его величество ошибается в этом случае, ибо Друэн де Люис, желавший в прошлом году войны, во что бы то ни стало не хочет ее теперь – утверждает, что удобная минута прошла, и прошла безвозвратно. Вы знаете, герцог, он несколько упрям и, я думаю, что никогда не согласится руководить действиями.
– Ваш рассказ очень интересен для меня, – сказал герцог, вставая, – вы понимаете, что, прожив долго за границей, теряешь нити внутренних дел. Надеюсь видеть вас часто – засвидетельствуйте мое почтение Лагерроньеру, я надеюсь повидаться с ним.
И с вежливым поклоном он отпустил Экюдье, проводив его до дверей.
– Положение запутано, – промолвил Граммон с задумчивым видом. – Императрица, император, Мутье, официальный министр, Друэн де Люис в виде министра теневого: все это требует крайней осторожности. Быть может, – прибавил он, улыбаясь и делая несколько шагов по комнате, – я приехал именно в такое время, что могу угодить каждому и распутать нити удовлетворительным для всех образом.
В передней послышался шум. Дверь быстро растворилась, и вслед за камердинером вошла в салон дама лет двадцати восьми.
Пышные, черные как смоль волосы этой дамы прикрывались маленькою, опушенной мехом шляпкой с небольшим пером; тонкие черты свежего лица с пунцовыми, несколько полными губами выражали бы ум, если бы даже не было блестящих глаз такого цвета и разреза, какие встречаются очень редко. Зрачок этих удивительно больших глаз, осененных тонкими темными бровями, имел бархатный черный цвет, блестящий и сверкающий, как темные драгоценные камни; белок, отличавшийся беспримерной чистотой, отливал синеватым цветом. Но эти глаза, которые на картине казались бы фантазией художника, не были задумчивы и томны; они горели и сверкали мыслью, жизнью и силой воли, были полны огня и движения.
Эта дама, закутанная в красивое манто, украшенное мехом и шнурками, была Мари-Александрин Дюма, дочь известного романиста, которая после кратковременного несчастного супружества с испанцем приняла снова фамилию отца, у которого и жила, ухаживая за ним и с неутомимым старанием исправляя его гениальный беспорядок в домашнем хозяйстве.
– Добрый день, дорогой герцог, – сказала она звучным голосом, – я услышала о вашем приезде и поспешила приветствовать вас как доброго товарища – я, как вы знаете, мужчина для своих друзей, мне не нужны те жалкие приторные фразы, которые обыкновенно говорят женщинам. Итак, без комплиментов и фраз: добро пожаловать в Париж, к своим друзьям.
И, взяв руку герцога, она пожала ее с истинной искренностью.
Герцог подвел ее к дивану с позолоченной спинкой и сказал с улыбкой:
– Я буду счастлив, если все друзья сохранят такое же дружественное расположение ко мне и примут с такою искренностью. Как здоровье вашего отца? Я навещу его, как только освобожусь.
– Мой бедный отец стареет с каждым днем, – сказала Дюма со вздохом. – Хотя его сердце и голова по-прежнему молоды; но он редко выходит из дома и силы его слабеют. На мою долю выпала почетная обязанность покоить на закате эту блестящую и бурную жизнь.
– Грустно, – сказал герцог, – что бессмертие ума… и славы, – прибавил он с учтивым поклоном, – не могут победить владычество лет над телом.
– Но сознание в бессмертии служит величайшим утешением в старческих недугах, – сказала Дюма с блестящим взором. Однако, – продолжала она, кладя свою руку на руку Граммона, – не правда ли, мой дорогой герцог, что вы привезли нам хорошую, добрую войну, отмщение за удар, под которым пала в минувшем году Австрия, моя милая Австрия?
Герцог сделался серьезен. Помолчав с минуту, он поднял глаза на оживленное лицо собеседницы и сказал с полуулыбкой:
– Вы, мой прекрасный друг – дама, женщина, принадлежащая миру поэзии и искусства, и вы желаете войны?
– Конечно, я желаю войны, – сказала Дюма с живостью, – и чем скорей она наступит, тем лучше. – Должна ли Франция спокойно смотреть, как ненавистная мне Пруссия подчиняет своему правлению всю Германию, тогда как Австрия, страна поэзии, религии, исторических воспоминаний, оттесняется и глохнет в болотах Молдавии и Валахии? Мы во многом виновны перед Австрией, – продолжала она, скоро и живо произнося слова, – мы вытеснили ее из Италии, – к чему был какой-то политический повод и за что мы получим от Италии странные доказательства ее благодарности. Мы заманили благородного рыцарственного Максимилиана в мексиканское гнездо разбойников, в котором он, может быть, погибнет! – вскричала она со слезами на глазах. – Мы сложа руки смотрели на поражение под Садовой. Неужели теперь, когда представляется случай, мы наконец не протянем Австрии руки, чтобы возвысить ее опять и приобрести себе союзника, единственно возможного для нас? Вам известно, герцог, – сказала гостья, утирая глаза платком, – что я никогда не питала особенной любви к Наполеону и еще менее к Евгении…
Герцог улыбнулся.
– Но дорогой друг, – сказал он, вскидывая руку, – вы говорите с императорским посланником!
– Какое мне до того дело, – отвечала Дюма, щелкая пальцами, – я имею право говорить, что хочу – разве я дипломат?
Герцог опять улыбнулся.
– Итак, я не люблю вашего императора, – продолжала она, – и сознаюсь, что от всего сердца проклинала его за эту безумную и вероломную экспедицию в Мексику, за ту безличную роль, которую он играет в театре Бисмарка. Но, – продолжила она, откидываясь на спинку дивана и устремляя на герцога горящий взгляд, – я готова все простить ему, готова работать для него, если он восстановит Австрию, заплатит Францу-Иосифу за бедствия, причиненные Максимилиану. Кстати, – добавила она через минуту, – как думают в Вене, сохранит ли Максимилиан по крайней мере жизнь в этой кровавой тине, в которую уходит все глубже и глубже?
– Вена очень встревожена его положением, – сказал герцог. – Там старались уговорить его возвратиться, но он хочет довести борьбу до самого конца. Кроме того, и само возвращение прискорбно и тяжело для него – он отказался от своих прав австрийского эрцгерцога и утратил свое достояние…
– Тогда как другие приобрели в эту экспедицию груды золота! – вскричала Дюма. – Спаси, Господи, бедного государя, – прибавила она, складывая руки и поднимая к небу выразительный взгляд. – Но вы ведь побудите начать войну? Австрия…
– Австрия очень слаба, – сказал герцог, пожимая плечами. – Но что же говорит здесь общественное мнение? – спросил он. – Оно может иметь большое влияние на решение императора.
– Общественное мнение? – спросила Дюма, тряхнув головой. – Что такое общественное мнение? Во-первых, у нас два общественных мнения: то, которое печатают и читают в газетах, и то, которое действительно имеют в сердце, питают самые серьезные и почтенные французы и высказывают в салонах, частных разговорах. Это последнее мнение требует войны, не войны quand meme3737
Вопреки всему (фр.).
[Закрыть], но оно убеждено, что при настоящем положении дел не могут удержаться долго ни империя, ни положение Франции в Европе. Надобно или прийти к соглашению с Пруссией, чтобы получить необходимое нам, или расчленить опять Германию и восстановить Союз под главенством Австрии. Так говорят все рассудительные люди и требуют преимущественно какого-либо твердого и ясного решения, вместо вечного пребывания в вооруженном мире, который в тысячу раз хуже войны.
Герцог внимательно слушал.
– Но это общественное мнение, выражающееся в журналах, – продолжала Дюма, – делится на две категории: на газеты, преданные императору и императрице, и на враждебные им; первые не отваживаются, по ясным дипломатическим причинам, говорить о войне, боятся, как бы не упрекнуть правительство в нарушении мира. Другие также проповедуют мир, будучи убеждены, что чем больше теряет Франция свое влияние, чем меньше ходит армия в поход и чем больше, напротив, подвергается губительным внутренним раздорам, утрачивает императорские традиции, тем скорее наступит минута, в которую попросят его величество, Наполеона III, отправиться туда, откуда он пришел. Итак, дорогой герцог, – сказала она со смехом, – желая сохранить престол своему высокому и милостивому государю, вы должны устроить нам войну.
Герцог погрузился в размышления.
– Кстати, – заметила Дюма, – у вас в Вене обитает ганноверский король, бедный государь, к которому я питаю такую симпатию. Мой отец пишет роман, в котором выводится и ганноверский король, каков он, как переносит свою печальную судьбу?
– Достойно и мужественно, – отвечал герцог, явно озабоченный чем-то. – Король – очень привлекательная личность, когда поедете в Вену, познакомьтесь с ним.
– Я поеду! – сказала она с живостью. – Но король прислал сюда своего представителя, я хотела бы…
– Я вместе с ним приехал сюда из Вены, – сказал герцог. – Он здесь, но еще не устроился…









































