Текст книги "Европейские мины и контрмины"
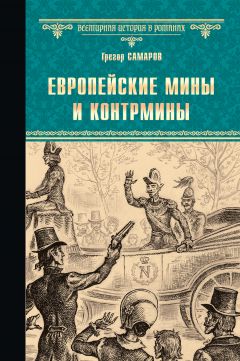
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 46 страниц)
Толен постучал по столу.
– Мнение меньшинства хранится в числе наших актов! – сказал он громко. – Но наши друзья, Варлен и Бурдон, приняли мнение большинства и подписались под ним, причем имя Бурдона стоит в главе шестнадцати подписей, утверждающих это мнение. Следовательно, здесь не может быть никаких прений.
Он бросил на Варлена полувопросительный-полуупрекающий взгляд.
– Действительно, – отвечал Варлен, – мнение большинства должно быть руководством. – Я не хотел возбуждать прений, я имел в виду пополнить историческую часть доклада.
Голоса смолкли.
Толен продолжал:
– Вам известно, что здешняя полиция, не тревожившая никого из нас по возвращении из Женевы, арестовала некоторых иностранных сочленов и конфисковала их бумаги. Оджер и Кремер, англичане, обратились к покровительству английского посольства, и последнее заступилось за них.
– Сделали бы то же для нас французские посланники? – спросили некоторые члены.
Не отвечая на вопрос, Толен продолжал:
– Арестованным возвратили свободу и после долгого колебания и продолжительных переговоров отдали также и бумаги. В числе последних находилось наше мнение, вследствие чего государственный министр Руэр потребовал к себе Бурдона, как первого подписавшегося под тем мнением.
– А-а! – слышалось со всех сторон. Государственный министр Бурдон, это интересно!
– Теперь я попрошу нашего друга Бурдона сообщить вам об его разговоре с первым министром императора, – сказал Толен.
Бурдон, обративший на себя в эту минуту общее внимание, повернулся к собранию и сказал сухим, однообразным, но чистым, звонким голосом:
– Меня ввели в кабинет государственного министра. Оный…
– Каков был прием? Был ли министр вежлив? – перебили некоторые члены.
– Очень вежлив, – отвечал Бурдон, – предупредителен и ласков. На столе лежала копия с нашего мнения.
– Я читал ваше мнение, – сказал Руэр, – оно сильно заинтересовало меня, и мне весьма приятно видеть, что вопросы, в которых сосредоточиваются высшие интересы рабочих, были предметом глубокого и серьезного изучения с вашей стороны.
Я молча поклонился.
– Вы не оставите этого мнения в своем архиве, – продолжил министр, – а пожелаете распространить его по Франции?
– Я отвечал утвердительно, ибо цель наша состоит в том, чтобы соединить всех рабочих в одну великую ассоциацию, которая должна стремиться к осуществлению принципов, выраженных в нашем мнении.
Руэр сказал:
– Я не вижу никакого препятствия сообщить эти принципы французским рабочим; они вообще не враждебны существующим основаниям государственного строя. И в такой стране, какова Франция, где воля народа служит законом, где сам государь никогда не забывает, что он только первый исполнитель верховной власти народа, каждый должен иметь право высказывать принципы, которые не ведут к низвержению существующего порядка вещей. Но хотя ничего нельзя возражать против распространения вашего мнения, однако ж в нем находятся выражения, обороты, фразы, могущие дать повод к недоразумениям и возбудить опасения в робких умах, к которым не принадлежит император и его правительство. Будто в этом мнении заключается злой умысел против общественной безопасности; поэтому необходимо редактировать изложение с целью устранить некоторые обороты, включить ту или другую фразу.
– Государственный министр предложил мне затем просмотреть вместе с ним редакцию мнения и сделать предложенные им изменения. Я отклонил это предложение…
– Хорошо, хорошо! – крикнуло несколько голосов. – Наши желания ясны и чисты, нам нечего скрывать.
Бурдон поднял руку. Голоса замолчали.
– Я отвечал Руэру, что искренне благодарен за его доброе мнение о наших принципах, – что мы все, конечно, не имеем намерения ниспровергать существующий порядок, что мы, не выходя за пределы законности, стремимся только применить совокупную силу всего рабочего сословия к реформе общественного строя. Но, с другой стороны, наши принципы ясны и определенны, составляют результат долговременного изучения и серьезного размышления, они возведены нашими друзьями в правило, форма их изложения тщательно обсуждена и зрело обдумана, изменяя форму, мы должны изменить и самый смысл, мы придали своим мыслям надлежащее выражение, и я не считаю возможным употребить для них другие обороты и сохранить притом откровенность и истину.
Он замолчал и вопросительно взглянул на собрание.
Ему отвечал единодушный крик одобрения.
– Нам не нужно иной редакции наших постановлений! – кричали собравшиеся. – Мы хотим отстоять свою самостоятельность и не должны начинать с того, чтобы становиться под полицейское опекунство.
– Мне приятно, друзья, – продолжал Бурдон, – что мой образ действий, который я счел за лучший, нашел одобрение у вас.
– Что же сказал министр? – спросили члены. – Как принял он ваш ответ?
Бурдон помолчал с минуту, взглянул на бумажку, по-видимому, содержавшую некоторые заметки, и потом сказал:
– Руэр, кажется, удивился моему ответу. Подумав с минуту, он сказал, что при таких условиях едва ли будет ему возможно допустить распространение нашего мнения. Вы знаете, заметил он ласково, правительство, сам император, получают много предостережений относительно стремлений международной ассоциации, не всякий знает ваши принципы и судит о них так, как я, и как судит император; надобно взять в расчет опасности, даже иностранные правительства. Я бы охотно помог вам, а при соответствующей редакции нашлось бы, вероятно, легальное основание для вашего союза, которого, как вы сами знаете, нет теперь.
– Я возразил, что, по мнению нашего адвоката, мы составляем не Французский союз, но секцию общей ассоциации рабочих, сосредоточенной в Лондоне, что французские законы не воспрещают быть членами в иностранных, дозволенных тамошними правительствами, что поэтому мы полагаем себя на совершенно легальной почве, и что до сих пор ни один суд не сделал нам замечания, которое могло бы убедить нас в противном.
Руэр улыбнулся и, пожимая плечами, отвечал, что, по его мнению, наша легальность очень сомнительна и легко может быть опровергнута, и, конечно, стала бы уже предметом полицейского или судебного преследования, если бы императорское правительство, проникнутое симпатическим участием, которое постоянно питает император ко всем интересам рабочего сословия, не отклоняло всех прений о легальности союза, пока тенденции последнего не заявят себя против основного строя государства. Впрочем, – продолжал министр, – можно пополнить недостаточную или сомнительную легальность, если бы из вашего мнения было очевидно и несомненно для нас, что ваша деятельность не представляет никакой опасности для правительства. Вы не хотите, изменив редакцию текста, дать нам тех гарантий, которые необходимы для оправдания наших отношений к вам. Я вполне понимаю это, когда есть убеждение в истине своих принципов, однако требуемая гарантия необходима для вас самих в другом, быть может, более опасном отношении, я даю вам личный, только личный совет – вы сами знаете, как много сделал император для рабочего класса, какое участие он принимает в его судьбе, как он, будучи еще принцем, изучал занимающую вас проблему, и в каком свободном направлении старался разрешить ее. Что было бы естественнее, если бы вы включили в свою редакцию, в начале или в конце или где-либо в ином месте, несколько слов благодарности и признательности к императору. Эти слова, нисколько не изменяя и не ослабляя истинного смысла ваших принципов, послужили об гарантией для публики в том, что вы не злоумышляете против государственного и общественного строя, центром которого служит император.
– Я отвечал, – продолжал Бурдон, – что не имею никакого основания сомневаться в высоком и симпатическом участии императора к положению рабочих, однако должен заметить министру, что международная ассоциация совершенно чужда политике и что поэтому я не считаю себя уполномоченным соглашаться на предлагаемую прибавку к редакции мнения, которая, правда, не изменит выраженных принципов, но набросить тень сомнения на полную нашу независимость, которой мы весьма дорожим. Поэтому я должен предложить этот вопрос парижской секции ассоциации, и, – прибавил он, обводя глазами вокруг зрителей, – предлагаю его вам. Я спрашиваю, согласны ли вы публично выразить признательность императору и получить за то дозволение беспрепятственно распространять во Франции свое мнение? Ибо все дело состоит в этом – министр ясно дал мне понять, что указанное дозволение будет дано не иначе, как с таким условием.
В собрании произошло заметное волнение, каждый говорил со своим соседом, голоса сливались в глухой гул.
– Друзья, – сказал Толен, – позвольте мне, вашему председателю, высказать первому свое личное мнение по этому случаю. Наш друг Бурдон, – продолжал он, когда восстановилась тишина, – совершенно основательно высказал министру наше первое, и важнейшее, правило – не вмешиваться в политику. Однако я сомневаюсь, можно ли применить это правило к настоящему случаю. В силу общей подачи голосов император есть избранный государь нашей страны…
Послышался кое-где ропот; Толен, казалось, не заметил его.
– Известно, – продолжал он, – что он с величайшим интересом следил всегда за рабочим вопросом и постоянно доказывал, что умеет ценить важность производительного труда…
– Кайенна! – крикнул один голос.
– Почему же, – продолжал Толен, с непоколебимым спокойствием, – почему же нам не выразить своей благодарности главе французского правительства за этот известный факт, за который мы были бы признательны всякому частному лицу? По моему убеждению, в этой благодарности нет политической стороны, однако, – прибавил он, – прошу вас не руководствоваться высказанным мной совершенно личным мнением – действуйте по совести, как сочтете полезным для нашего дела, и позвольте мне только заметить, что для распространения наших идей было бы весьма важно позволение действовать беспрепятственно и открыто.
Он замолчал. Голоса становились громче.
– Правда, император много сделал для нас, заявив себя другом рабочих! – говорили в одной группе.
– Что? – слышалось в другой. – Мы должны быть полицейскими агентами? Благодарить того, кто перестрелял на улице наших братьев? Долой Баденге6363
Баденге – насмешливое прозвище французского императора Наполеона III: так звали каменщика, в одежде и под именем которого принц Луи Наполеон бежал 25 мая 1846 г. из Гамской цитадели.
[Закрыть]!
– Не будь император за нас, нашего союза давно бы не было! – возражали с другой стороны. – А это, конечно, заслуживает признательности!
Голоса перебивали друг друга, однако ж большинство, казалось, разделяло мнение об удовлетворении желания всемогущего государственного министра.
Тогда встал Варлен. Мрачный огонь горел в его глазах, непримиримая ненависть и презрение выражались в его улыбке, он протянул руку к собранию, и в ту же минуту воцарилась тишина – всякий хотел слышать, что скажет Варлен.
– Друзья мои, – начал он спокойным, холодным голосом, который не соответствовал взволнованному лицу, и только по сдержанному тону можно было заключить о внутреннем волнении. – Друзья мои, я не могу согласиться с мнением нашего председателя, будто желаемая министром Руэром благодарность главе правительства есть такой акт, который не имеет никакой связи с политикой. Я, быть может, разделил бы это мнение или безмолвно принял его, если б глава правительства был президентом республики, избранным согласно конституции или легитимным монархом, из древней династии, тогда он был бы воплощенным представителем закона и порядка над партиями и политической борьбой. Но, мои друзья, – сказал он более громким голосом, – действительно ли представитель закона тот человек, которого мы должны благодарить за его заботы о рабочем сословии, тот человек, который держит судьбу Франции в своей слабой руке? Он позорно и лукаво, вопреки всяким законам, убил республику, которой клялся в верности, тогда как он, первый чиновник, должен был ее охранять и защищать. Представитель ли он закона, стреляющий из пушек по мирным и добрым гражданам, чтобы напугать тех, которые не хотели нарушить, подобно ему, клятвы, данной республике? Он, который по прихоти своей деспотической воли, послал многих наших друзей в ссылку, в ядовитые болота дальних колоний. Избранник ли народа, он, который заставляет облитую кровью, принужденную штыками к насильственному молчанию нацию разыгрывать комедию всеобщей подачи голосов? Он ли легитимный монарх, избранный представитель Франции, который, добиваясь названия «мой брат», пожертвовал тысячами сынов Франции, отправив их на убой в Мексику для того только, чтобы за счет Франции наполнить окровавленным золотом грязные карманы своих биржевых спекулянтов, и, – прибавил он с презрительным смехом, – в минувшем году, когда предстояла действительная опасность величию и положению Франции в Европе, спокойно смотрел, как Германия подчинялась военному господству? Нет, мои друзья, нет! Это не законное правительство, не представитель общественного строя – это мандарин со своей шайкой, овладевший государственной властью и злоупотребляющий ею для грабежа и хищничества!
Мертвое молчание царствовало в собрании, с ужасом слушали все эти люди страшные слова Варлена, выражавшегося таким образом о властителе, пред которым склонялась Европа, железная рука которого касалась их голов и одним мановением могла погубить каждого из них.
Варлен молчал с минуту, искаженные волнением черты его лица приняли свое холодное, замкнутое выражение: он продолжал спокойным голосом:
– Таково мое мнение. Я должен высказать его, чтобы дать основание своим выводам. Я не хочу быть враждебным правительству, которое может повредить нам и воспрепятствовать успеху в настоящую минуту – пойдем своей дорогой, и пусть оно идет своим путем, который непременно доведет его до заслуженной гибели. Но, – продолжал он громче, – не могу согласиться, что благодарность, высказанная этому правительству, не есть политический акт. Этой благодарностью мы, представители истинного, рабочего народа, освятим все преступления, отождествимся с правительством, станем агентами его полиции, допустим злоупотреблять собой для того, чтобы из Тюильри могли сказать европейским государям: «Видите, я истинно легитимный венценосец, ибо позади меня стоит настоящий народ, берегитесь же, ибо я могу разбудить революцию, не опасаясь быть ею поглощенным; она служит мне, станет сражаться за меня!» Чтобы могли сказать буржуазии и оппозиции в Законодательном корпусе: я истинный защитник общественного строя, ибо в моих руках ключ к социальной будущности: я могу придать спокойное и безопасное направление будущему развитию; берегитесь, чтобы я не обрушил на вас внезапно бурных порывов этого будущего! Я отважусь на это, ибо буря, которая поглотит вас, смиряется по моему знаку у ступеней трона! Вот, друзья, предстоящая нам политика, если мы выразим требуемую от нас признательность и благодарность. Мы приняли за правило удаляться от политики, тем более подобной, которая есть политика преступленья, безумия и позора!
Он сел и опустил голову. В собрании возникло волнение, перешедшее в шум.
– Варлен прав! – кричали здесь. – Мы не хотим иметь дело с правительством, это было бы позором, изменой нашим братьям! Император благосклонен к нам, – говорили другие, – мы ничего не хотим делать против него, он имеет власть погубить нас всех, он один защищает нас от капиталистов!
Встал Тартаре.
– Ничего для правительства! – крикнул он. – Не скажут ли, что среди нас есть подкупленная полиция, что мы эмиссары Пале-Рояля? Долой плон-плоновцев!
– Долой плон-плоновцев! – кричали в одной группе.
– Ничего против императора! – кричали в другой.
Образовались партии, всюду были мрачные и грозные лица.
При крике:
– Долой «плон-плоновцев!» Толен побледнел, как полотно, губы его задрожали, он взмахнул рукой.
– Друзья мои, – сказал он, – прошу, умоляю вас избегать волнения, разлада ради святого дела, которому мы все служим!
Наступило минутное спокойствие.
– Я был того мнения, – сказал Толен, едва подавляя свое внутреннее беспокойство, – что небольшая прибавка к нашему мнению не имеет ничего политического. Я вижу, наш друг Варлен и многие из вас не разделяют этого мнения. Настоящий вопрос не должен служить яблоком раздора между нами – я присоединяюсь к мнению Варлена.
– Браво, браво! – закричали многие голоса. Глухой ропот поднялся между императорскими приверженцами.
– Я не думаю также, – продолжал Толен, – чтобы отказ включить благодарность в наше мнение мог казаться враждебным поступком против императора и его правительства. Уже наш друг Бурдон высказал государственному министру, что главное правило международной ассоциации состоит в удалении от всякой политики. Станем же твердо держаться этого правила и попросим Бурдона объяснить Руэру, со всевозможной вежливостью и почтительностью, что, по совещании со своими друзьями, он не может решиться сделать в этом случае исключение из общего правила.
Бурдон утвердительно кивнул головой.
– Но тогда мы не можем распространять своих принципов! – крикнул один голос.
Толен спокойно улыбнулся.
– Я думаю, – сказал он, – их можно напечатать во французском журнале, издающемся в Лондоне и не запрещенном во Франции. Таким образом наши принципы уверенно и скоро будут у всех в руках.
Варлен поднял голову и протянул руку Толену. Спокойствие восстановилось, никто больше не делал замечаний.
Отворилась входная дверь, вошел Жорж Лефранк, показал свою карточку старому книгопродавцу Гелигону, тот сравнил номера и молча кивнул головой. Молодой рабочий занял место в первом ряду, которое ему уступили сидевшие там лица, дружески приветствовавшие его. Он смотрел вокруг, точно погруженный в тихие грезы; на его бледном лице лежал оттенок вдохновения, казалось, он машинально пришел в это собрание и едва понимал, где находится.
– Я перехожу к другому предмету, подлежащему нашему обсуждению, – сказал Толен. – Рабочие в больших магазинах платья потребовали повышения сдельной платы и прекратили работу. Они обращаются к нам с просьбой о нравственной и, если можно, материальной поддержке, дабы выдержать стачку, и за это все хотят вступить в ассоциацию. Мы исследовали и взвесили эту просьбу. До сих пор ни один такой рабочий не был членом нашей секции – положение их сравнительно хорошо, и мы пришли к тому убеждению, что ими управляет теперь не необходимость, а скорее желание иметь долю в эксплуатации иностранцев, прибывших на выставку в Париж. Мы не думаем, чтобы в интересе вообще рабочего сословия было поддерживать эту стачку, и не можем допустить, чтобы вступление названных рабочих в нашу секцию, мотивированное временными и своекорыстными целями, могло быть нам полезно. Поэтому мы предлагаем вам отклонить просьбу.
– Отклонить, отклонить! – кричали все. – Они хотят воспользоваться нами, чтобы набить себе карманы, пусть сами выпутываются как хотят!
– Итак, дело решено! – сказал Толен.
– Теперь друзья, – продолжал он после небольшой паузы, – мы приступаем к весьма важному делу, в котором задача международной ассоциации заключается в том, чтобы найти, свободно и беспристрастно, великую истину, которая должна лечь в основании наших стремлений!
Среди глубочайшей тишины он продолжал:
– Вы, конечно, все слышали о событиях в Рубе…
– Да, да! – закричали со всех сторон. – Это добрый удар тирании капитала! На этот раз он будет чувствителен!
Толен обвел собрание серьезным, строгим взглядом.
– Рабочие из Рубе, – сказал он, – были недовольны различными постановлениями на фабриках, оставили работу, чтобы добиться изменения этих постановлений, и были правы. Но, мои друзья, – продолжал он громким голосом, – те рабочие были также недовольны улучшением в машинах, позволявшим получать лучшие продукты при меньшей рабочей силе, и позволили себе крайности: изломали машины, сожгли фабрики и тем жестоко компрометировали дело рабочего сословия, этого священного и общего нам всем дела, и запятнали его черным, дурным поступком!
– Разве они были не вправе показать и употребить свою силу? – спросил один голос энергичным, гневным тоном.
– Нет, – отвечал Толен, – они были неправы, тысячу раз неправы, – ибо совершили варварский поступок в отношении машин, этого дивного изобретения человеческого ума, которое развивает производительную работу до громадных размеров и тем самым возвышает цену и необходимость человеческой рабочей силы, этой машины, движимой собственной разумной волей и незаменимой никаким орудием, несмотря на все успехи механики. Они были неправы, потому что поселяли в каждом мыслящем и честном человеке сомнение в справедливости нашего дела; потому что восстановили против нас всех друзей порядка и спокойствия! Мы решили, – продолжал он, подняв голову и обводя собрание гордым и смелым взглядом, – издать прокламацию, которая выразила бы порицание поступкам рабочих в Рубе и сняла бы с нас предвзятое обвинение в нравственном соучастии в этих актах варварского насилия. Эта прокламация содержит два параграфа…
– Мы не хотим прокламации, – закричал Тартаре, – рабочие в Рубе были правы – против них выслали полицию, солдат! Если рабочие защищались, то вся вина в том должна пасть на тех, кто первый прибег к силе, мы не должны отвергать своих братьев, мы сами можем каждый день попасть в такое же положение, мы не хотим исполнять полицейские обязанности!
Толен вскочил.
– Прерывая доклад и сообщения вашего председателя, – сказал он дрожащим голосом, – вы нарушаете установленный вами самими порядок, оскорбляете уважение, которое мы обязаны взаимно оказывать!
– Слушайте, слушайте смирно, потом посмотрим! – закричали со всех сторон; Тартаре замолчал.
– Наша прокламация, – сказал Толен, смотря на листе бумаги, который был в его руке, – объявляет, что экономический вопрос употребления машин для фабричного производства должен быть предметом серьезного исследования со стороны международной ассоциации. При этом парижская секция, со своей стороны, признает правилом, что рабочий имеет известное право на увеличение сдельной платы, как только новые машины доставят возможность усилить или улучшить производство.
– Хорошо, совершенно справедливо, – отвечали голоса, – по этому правилу действовали и ткачи в Рубе…
– Далее, – продолжал Толен, – наша прокламация скажет рабочим в Рубе: пусть вы имеете основания жаловаться, пусть ваши требования будут справедливы – послушайтесь нас и поверьте нам: машина, орудие производства, должна быть свята для каждого рабочего – послушайте нас и поверьте нам: совершенные вами акты насилия компрометируют как ваше дело, так и дело всего рабочего сословия, они дают оружие всем клеветникам наших стремлений и всем врагам свободы.
Он замолчал.
– То есть, – сказал Тартаре, – вы правы, но не смеете предъявлять своих прав! Это значит, исполнять обязанности полиции – такая прокламация стоит для правительства целой армии в тех округах! Делают ли в отношении нас столь тонкое различие между правом и бесправием? Недолго задумываются над этим вопросом и просто бьют. Можем и мы запрещать нашим братьям бить, когда признаем справедливость их требований? Разве слова и фразы разрушат те стены, которые преграждают нам доступ в мир наслаждения жизнью, наслаждения плодами наших трудов? Чем скорее и сильнее будет нанесен удар, тем скорее прольется свет на положение. Нам не следует издавать этой прокламации.
Произошло сильное волнение. Все встали и заговорили в одно время; нельзя было различить отдельных голосов, расслышать слов.
Толен печально смотрел на взволнованное собрание и взглянул на Варлена, как бы прося помощи.
Лицо Варлена точно окаменело, он опустил глаза и молчал.
Тогда медленно подошел к столу председателя Жорж Лефранк. Он поднял руку в знак того, что хочет говорить; глаза его светились, лицо горело воодушевлением. При виде этого молодого человека с повелительным лицом невольно замолчали спорящие, любопытствуя узнать, что скажет Лефранк, никогда не говоривший в собраниях.
Толен посмотрел на него с удивленьем, Варлен кинул взгляд снизу вверх.
– Друзья мои, – сказал Жорж громким, звучным голосом, – выслушайте меня, самого младшего из вас, у которого нет ничего в мире, кроме работы и надежды в будущем. Чем моложе я, тем драгоценнее для меня эти надежды, тем больше прав я имею говорить о них и об их осуществлении.
После этих слов спокойствие восстановилось вполне, каждый внимательно слушал.
– Для чего мы работаем, друзья, к чему стремимся? – продолжал молодой человек, – трудами своих рук добывая все, служащее для наслаждения, украшения жизни, мы хотим иметь свою долю в этом наслаждении, иметь свое место в области благородных удовольствий ума и сердца, присвоенных доселе теми, кто не трудится. Мы требуем средств к образованию, мы хотим завоевать себе науку и искусство, а главное, право и место основать собственное жилище, свой домашний очаг; мы стремимся к тому, чтобы прибыль от труда не только поддерживала машину нашего тела, но и давала нам средства устроить себе мирный семейный круг.
По рядам собрания пробежал легкий презрительный смех.
– Тише, тише, – кричали другие голоса, – он прав, слушайте!
– Я спрашиваю вас всех, – говорил далее Жорж, – не эта ли надежда оживляет вас, не эта ли мысль движет вами? Вас, мои старейшие друзья, не побуждает ли трудиться для ассоциации скорбь о том, что вы должны были отказаться иметь свой собственный очаг, или еще большая скорбь о том, что у этого очага, который вы охотно украсили бы чистыми радостями, вы глубже чувствовали тяжесть бедности и лишения, потому что эта тяжесть давила не одних вас, но и дорогих вам существ? Выстрадав сами так много, вы разве не боретесь теперь за то, чтобы следующие поколения не испытали той скорби, с которой вы боретесь теперь?
– Да, да, – слышалось здесь и там.
– И вы, мои сверстники, – продолжал молодой человек с пламенными взорами, сохраняющие в своем сердце дорогой образ или вообще чувствующие в себе дыхание чистой и святой любви, что побуждает вас к упорной я непрерывной борьбе за освобождение из-под гнета вашего положения, как не стремление, надежда основать жилище на прочном фундаменте, украсить его прелестью безбедного существования, окружить жену, детей простыми чистыми радостями жизни?
– Да, да, да, совершенно так, – говорили вокруг многочисленные громкие голоса.
– Итак, мои друзья, – продолжал Жорж, – если таково наше стремление, каким оно и должно быть у каждого честного рабочего, то можно ли достигнуть цели, когда рабочие в понятном, но несправедливом гневе станут разрушать вместо того, чтобы созидать, когда они будут уничтожать и сжигать священные орудия производительного труда, когда они обратят в развалины тот мир, в котором хотят завоевать место для своего жилища? Обратив свет в пустыню, где найдем мы место для счастливой будущности, награды нашей борьбы? Не бессмысленная и бесплодная ненависть должна побуждать нас уничтожать то, в чем мы не имеем никакой доли: в спокойном, глубоко обдуманном и терпеливом стремлении, мы должны добыть себе ту долю, в которой нам отказывают теперь. Поэтому ради нашего будущего счастья, ради наших надежд на участие в благородных наслаждениях мы должны громко осуждать грубое насилие, высказать пред всем миром наш приговор и мнение, и я, мои дорогие друзья, я прошу вас из глубокого сердечного чувства, как просил вас председатель по разумным, зрело обдуманным основаниям: примите прокламацию!
Тартаре хотел говорить, но слова его были заглушены громкими криками одобрения, последовавшими за речью молодого человека. Многие подошли к нему и пожали руку.
Толен встал.
– Итак, вы согласны на нашу прокламацию рабочим в Рубе?
Ответом служило громкое, почти единодушное «да!». Немногие, думавшие иначе, молчали, они считали излишним высказывать свое мнение при настоящем настроении собрания.
Толен взял приготовленную прокламацию и прибавил внизу: «в заседании парижской комиссии». Потом подписал ее и подал перо Варлену.
Варлен молча взял его и, не произнеся ни одного слова, подписал свое имя рядом с именем Толена. Фрибург подписал после своих товарищей.
Толен объявил, что предметы для обсуждения исчерпаны все; заседание окончилось.
Рабочие группами выходили из дома, громко разговаривая, и вскоре расходились по прилежащим улицам.
Жорж одиноко шел в ночной темноте, счастливый и улыбающийся, и тихо шептал:
– Семейство… домашний очаг… жена!









































