Текст книги "Европейские мины и контрмины"
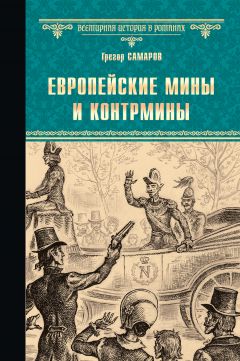
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 46 страниц)
– Мне необходимо идти со двора, – сказал Жорж грубо, – извините меня, я, может быть, запоздаю! – И, поклонившись наскоро, он сбежал с лестницы.
– Бедняжка, – сказала старуха, смотря в след ему, – он так сильно любит ее, как желала бы я видеть их обоих счастливыми!
* * *
Множество полицейских и конная гвардия оцепляли улицы Сен-Жерменского предместья. Русский посланник давал бал – государи предполагали посетить этот бал, и русский император выразил желание, чтобы покушение нисколько не изменило прежних распоряжений.
По повелению Наполеона приняты величайшие меры предосторожности по всем тем улицам, по которым должны были проехать иностранные государи, хотя не отгоняли любопытных, толпившихся по тротуарам, чтобы видеть приезд монархов, однако никто не смел останавливаться долго на одном месте, и ни один экипаж, кроме карет, принадлежавших лицам, приглашенным на бал, не мог показываться на оцепленных улицах.
И здесь, среди непрерывно движущейся толпы, расхаживал генерал фениев Клюзере, желавший все видеть, все слышать, чтобы составить себе идею о состоянии Парижа. Рядом с ним шел Рауль Риго, дававший мрачному заговорщику все необходимые объяснения, то в отвратительно циническим тоне, каким сентябристы говорили свои бонмо, то в приторном тоне людей, выросших на парижской мостовой и занимающих средину между гаменами и денди.
– Не кажется ли вам, генерал, – сказал Рауль Риго с улыбкой, – что добрый Париж изменил свою физиономию? Все неудовлетворенные страсти и препятствия, которых так много в Европе, исчезли сегодня утром из мыслей и уступили место надеждам на мир и наслаждению жизнью, будущее предлагается таким розовым, золотым! Посмотрите, – продолжал он, – пистолетный выстрел пробудил мрачных духов, взгляните на полициантов, на патрули, взгляните на толпу, которая по принуждению ходит по улицам – похожа ли она на те веселые массы народа, которые освещало сегодня утром солнце в Булонском лесу?
– Приезжая в Париж, всегда научишься чему-нибудь, – сказал Клюзере с мрачной улыбкой, – и на этот раз я многому научился.
Они пошли дальше.
Прибыли государи с сильным военным конвоем и вскоре опустели улицы; весь блестящий и знатный Париж собрался в салонах у русского посланника.
Вместе с запоздалыми зеваками быстрыми шагами и с поникшей головой шел Жорж Лефранк.
Он миновал Новый мост, сад Тюильри, прошел через площадь Согласия и направился вдоль набережной, идущей позади Елисейских Полей.
Никого не было в это время на этом месте, малолюдном даже в течение дня.
Молодой человек дошел до конца стены, отвесно спускавшейся в реку, и вынул из кармана свертки с золотом.
Внизу плескалась Сена, озаренная луной, серебристый лик которой плыл по темному небу, окруженный легкими, клочковатыми облачками.
Жорж долго смотрел на катящиеся волны. Не лучше ли почивать там, в прохладном спокойствии, нежели вести здесь непрерывную борьбу с бедствием и скорбью?
Почти с завистью он взглянул на воду и вдохнул холодный, поднимавшийся от воды пар, который освежил его взволнованную грудь.
– Но не будет ли низостью и позором бежать жизни, пока хватает еще сил трудиться для того, чтобы не постиг других такой же жребий, какой выпад мне на долю, чтобы освободить бедных и угнетенных от лежащего на них ила? И, – продолжал он тише, поднимая взор к чудесному, светлому небу, – если там есть вечное правосудие, вечная любовь? Она так сказала, – проговорил он горьким тоном, – но разве ее слова не могут быть истинны? И злые духи возвещают иногда вечную истину. И тайный голос убеждает меня, что слова ее правдивы! Этот демон заимствовал небесный образ, чтоб погубить мою любовь, и, однако ж, я не могу забыть сказанные ею слова о Вечной Любви, которая управляет сердцами людей. Возможно ли, чтобы эта любовь проникла в мое сердце этим страшным, прискорбным путем?
Он долго молчал. Мягкий блестящий взор его устремился к небу.
– Если Ты, Всемогущий, – сказал он потом, – живешь на небе и оттуда взираешь на тоскующих и скорбящих людей на земле, взгляни милосердным оком на мое измученное, больное сердце, похорони минувшее, как я бросаю в пучину это проклятое золото, положи предел моим мучениям и призови меня к вечному покою!
Он торопливо шагнул к самому краю стены и с гневом и отвращением кинул в реку свертки с золотом.
Но от сильного движения при размахе он потерял равновесие, его нога скользнула, он хотел схватиться за что-нибудь, рука схватила воздух, раздался крик, и Жорж погрузился в волны Сены.
Короткая борьба, сильные всплески воды, еще последний, отчаянный, крик – и волны сомкнулись над несчастным.
Спокойно и тихо плыл месяц по темной лазури, играя и сверкая, катились внизу волны, ночь дышала глубоким миром и безмятежностью.
Нашел ли он мир в тихой бездне – внял ли Господь его последней молитве и призвал ли к себе из мира борьбы?
Часть четвертая
Глава тридцать четвертая
На другой день после посещения выставки Джулия лежала на постели, погрузившись в глубокие думы. Сменяя друг друга, проносились внутренние картины через ее молодую душу, которая, едва начав жить, уже изведала горе и скорбь.
Грезила она о том блаженном времени, которое оставалось ей прожить, не зная горечи и тоски своего прежнего существования, ведая одни только чистые и ничем не запятнанные наслаждения, грезила она о том, что за быстро минующим мгновением счастья наступит долгая, мрачная ночь ее грядущей жизни, та ночь, в которую она хотела погрузиться, чтобы избавиться от предстоящих опасностей жизни, та ночь, которая представлялась ей озаренной кротким светом воспоминания и благодатным лучом веры, но пред которой, однако ж, содрогалась от страха ее молодая душа, алчущая жизни и любви.
И во всех этих картинах, во всех этих противоречащих чувствах являлся в ее душе образ того человека, которого она видела сперва мельком и который вчера вечером, в тягостную минуту встречи с веселым обществом в китайском театре, смотрел на нее так проницательно своим глубоким и красноречивым взором.
Она была не в силах забыть ни этого взора, ни этого голоса, ей казалось, что она когда-то видела этот взор, слышала этот голос.
– Граф Риверо, – проговорила она тихо, – граф Риверо – так зовут этого человека, который производит на меня такое же действие, как звуки давно известной, волшебной, сказочной мелодии, взгляд которого проливает в глубину моей души чудную теплоту, столь чистую, небесно-чистую! Граф Риверо, – проговорила она, – как ни перебираю свои воспоминания, столь простые и незначительные, никак не могу найти это имя – я никогда не встречала этого человека.
Она вновь погрузилась в продолжительную задумчивость. Глубокая печаль выражалась в ее чертах.
– Отец, – прошептала она со вздохом, – бедный отец, единственный человек, радостно освещавший мою одинокую жизнь, ты будешь грустить, будешь жестоко сетовать на меня. Должна ли я оставить тебя?
Она сложила руки и вперила немой взгляд в пространство, на глазах ее навернулись слезы.
– Я должна так поступить, – сказала она потом, решительно, у меня не достает сил вести борьбу с окружающей меня жизнью, для меня спокойствие существует только в святом уединении, и невеста Христа принесет своему отцу утешение и посвятит ему свою христианскую любовь, и отец будет счастлив, особенно когда узнает, что я нашла единственное счастье, единственный мир, какой существовал для меня на земле.
Она встала и прошла через пустой салон матери, обыкновенно выходившей поздно из своей спальни, в простую убогую комнату художника Романо.
Последний сидел пред мольбертом с неоконченной картиной Христа. Болезненно светящиеся глаза на бледном лице так горько и в то же время так тоскливо посматривали на полотно, что сердце Джулии затрепетало от искреннего, глубокого сострадания.
Она бросилась к этому надломленному, хилому человеку и, прижавшись с детской преданностью к его ногам, прижала свои горячие свежие уста к его холодной, влажной руке.
Он очнулся, как будто от тяжелого сна; его взгляд сделался ласковее и нежнее при виде молодой девушки у его ног.
– Как здоровье моего отца? – спросила она нежным голосом, которому старалась придать веселый тон, но в котором слышалось ее внутреннее волнение.
– Когда со мной моя милая Джулия, мое дорогое дитя, – сказал он, нежно проводя рукой по ее блестящим волосам, – тогда мне хорошо. Но встань, – продолжал он, с торопливым движением, как будто ему было неприятно видеть у своих ног молодую девушку. – Встань и сядь около меня, мы поболтаем.
Он нежно толкнул ее на низенький стул около мольберта и долго всматривался в ее прекрасное молодое лицо.
– Когда я смотрю на тебя, – сказал он, скорее обращаясь к себе, нежели к молодой девушке, – мне кажется, что гармония снова возвращается в мою душу, та гармония, которая в дни юности, давно, очень давно, наполняла меня, когда линии и краски сливались в одну стройную, дивную картину, картину, которую я ищу, вечно ищу и не могу найти…
И с глубокой скорбью, с немым отчаяньем, он снова обратил взоры на неоконченную картину.
В прилегающем салоне послышался шум шагов, которые направлялись к комнате художника.
Последний повернул голову к двери – смущение и покорность судьбе выражались в его чертах, он ожидал увидеть Лукрецию, готовую устроить ему одну из тех сцен, которые, непрерывно повторяясь, были острым ножом для его страждущего сердца.
Но глаза его вдруг раскрылись, зрачок становился все шире и шире, выражение страха и ужаса явилось на его бледном, как полотно, лице; отступая дальше и дальше, он поднял руку, точно желая защититься.
Испуганная Джулия следила за изменением лица художника; она быстро обернулась к двери и слегка вскрикнула, остановившись около своего стула.
В открытой двери, затемненной с другой стороны опущенной портьерой, стоял граф Риверо, спокойный и неподвижный.
Смертельная бледность покрывала его красивое лицо, черты которого, искаженные скорбью и страданьем, выражали холодную, беспощадную строгость. Он долго не сводил глаз с висевшей напротив двери картины, с мягким, кротким выраженьем, опустился его взгляд на молодую девушку, живое воплощение этой прекрасной картины, потом его пламенные очи перенеслись на художника, который сидел с неподвижно оцепенелым взглядом.
– Гаэтано! – сказал граф. – Я здесь и требую отчета: что ты сделал с моим счастьем, блаженством, с доверием твоего брата, с его женой, с его ребенком?
Художник казался уничтоженным; минуту спустя он судорожно выпрямился и, почти не отнимая ног от пола, придвинулся к графу, упал к его ногам и простер дрожащие руки – смертельно мучительный его взгляд не отрывался от спокойно-строгого лица стоявшего перед ним графа.
– Брат, – проговорил он таким голосом, в котором не было ничего человеческого, – мое преступление мрачно, как вечная адская ночь, моя вина бесконечна, как беспредельная твердь, но клянусь тебе вечным Богом-мстителем, гнев которого гремит на небесах, что если возможно наказание, соразмерное великости моей вины, то наказание это есть мои страдания – страдания долгих лет, раскаяния без слез, отчаяния без утешения. О, Боже мой, – продолжал он, закрывая лицо руками, – когда моя душа, гонимая фуриями, в отчаянии, носилась день и ночь в глубокой бездне страдания, жаждая смерти, тогда была для меня еще надежда, последняя единственная надежда: увидеть брата. Бог не мог простить меня, но он, оскорбленный мной, простил бы мне мою вину, по своему великодушию, так говорило мне сердце! Теперь брат предо мной, и взор его – меч правосудия для меня! Я здесь, брат, исполни приговор, который я долго носил в своей тоскующей груди!
Он упал, касаясь лбом земли.
Джулия бросилась к нему.
– Отец! – вскричала она. – Мой бесценный отец, встань, твоя дочь с тобой! – произнесла она, обращая на графа увлажненные слезами глаза. – Пощадите моего отца!
– Моего отца! – повторил граф горьким тоном. – Моего отца! Так ты похитил у меня не одно счастье – ты овладел и любовью этого чистого сердца, ты присвоил имя отца, сердце которого ты раздавил, блаженство которого ты убил. И тебя не поглотила разверзшаяся земля, когда твои уста именовали тебя отцом?
Глухой стон был единственным ответом художника, неподвижно лежащего на полу; перепуганная Джулия смотрела на него с ужасом, ум ее путался в загадке, разгадать которую она тщетно старалась.
– Ты взял от меня этого ребенка таким же чистым, каким послал его небесный Отец, – говорил граф далее. – Гаэтано, я спрашиваю тебя пред лицом Вечного Судии, какой возвращаешь ты мне дочь?
Тогда в глазах Джулии блеснула искра догадки; она с ужасом взглянула на лежавшего на полу художника, потом с неописуемым выраженьем подняла глаза на графа, который простирал к ней руки.
При вопросе графа художник вздрогнул. Он поднялся так быстро и энергично, что граф пришел в удивление. Болезненное, бледное лицо художника осветилось волей и решительностью, он слабым, но твердым голосом отвечал:
– Брат, суди меня, уничтожь – я буду тебе благодарен; но пусть моя вина не кидает тени на эту невинную голову. Задачей моей жизни было охранять, согревать сердце этого ребенка на том мрачном пути, на который увлекли меня лица, с коими было б лучше мне и тебе не встречаться, я старался охранить ее от окружавшего ядовитого воздуха, я выносил из-за нее тяжкую борьбу и страдания, ради нее я не сбрасывал с себя оков, наложенных презренной женщиной, ибо я не имел никаких прав на этого ребенка и, желая защитить его, не мог разлучиться с ним и с его матерью, и, – он положил руку на голову Джулии, – клянусь тебе, я охранил это сердце. Она любит, – сказал он нежным тоном, – свет осуждает эту любовь, и, однако ж, ее сердце так же чисто, как утренняя росинка в чашечке лилии! Никто не осмелится заподозрить ее – я стану защищать ее против света, против тебя, мой брат!
Свободно и ясно смотрел он на брата, потом перенес взгляд на молодую девушку, которая наклонилась над его рукой и прижала к ней свои губы.
Гордо и повелительно стоял граф Риверо, в полном блеске знатного светского человека перед этим бедным дрожащим художником, который возвратил свое мужество и волю, чтобы защитить и охранить дитя, оторванное от родительского сердца. Истина звучала в тоне художника, истина сияла в его глазах, истина дышала в любящих движениях молодой девушки.
Холодный, строгий взгляд графа становился мягче и мягче. Вокруг рта, привыкшего повелевать силами мира и жизни, как своими собственными чувствами, являлось умиление, он медленно поднял руку и сказал мягким и тихим голосом, который, однако ж, глубоко проникал в сердце несчастного художника:
– Гаэтано! Мой брат!
Художник задрожал и, казалось, готов был упасть, на его лице явилось сперва выражение глубокого, почти недоверчивого удивления, которое потом заменилось радостью. Он сделал несколько медленных и нерешительных шагов и упал на грудь брату, который обнял и прижал его к своему сердцу. И эти объятия словно растопили долговременное горе жизни, полной мучения, раскаяния и отчаяния. Надломленный, дрожащий художник, покаявшийся у сердца своего брата, заплакал; горячие слезы лились из его глаз, глухие, подавленные стоны перешли в громкое рыдание, как будто он хотел испустить душу в объятиях всепрощающей любви.
Джулия стала на колени около графа, взглянула на него с благодарностью и тихим голосом прошептала:
– Отец, мой отец!
Не выпуская брата из объятий, граф опустил руку на голову молодой девушки и с сияющими глазами сказал:
– Велик карающий Бог, сходящий с неба в буре и пламени, но выше Отец любви и милосердия, который нисходит в тихом веянии, принося утешение и прощение страждущему сердцу!
Долго молчали они под влиянием могучего, глубокого волнения; сердце Джулии трепетало от невыразимого чувства – что станется с ее жизнью, любовью, будущностью, которая неожиданно осветилась ярким, но ослепительным лучом? Потом граф сел на низенький диван, рядом с братом, между тем как Джулия прильнула к его ногам, упиваясь лицом, взглядом, которые напоминали ей далекую родину, Италию, ее золотые сны детства, всем, что, как сладкая греза, таинственно и непонятно наполняло ее душу.
Повинуясь влечению сердца, Гаэтано рассказал, как он покорился обольщению грешной любви, рассказал всю свою жизнь, полную печального одиночества, горького, бесплодного раскаяния, и граф молча и грустно слушал его. С трепетом внимала Джулия этой страшной исповеди тяжкого преступления, этой мрачной драме жестокого покаяния и прощения, с глубоким, искренним состраданием в сердце, она не отвернулась от человека, которого звала отцом, который так тяжко согрешил и так тяжело искупил свой грех; она с почтительным страхом и удивлением прильнула к тому, кто был ее отцом и чье великодушное сердце умело прощать прегрешения, утешать страдания.
В свою очередь, она рассказала повесть своей любви; краснея и запинаясь, но истинно и чистосердечно изложила она свои планы на будущее, свои надежды, основанные на тихом уединении религиозного убежища, открыла все свое сердце, до мельчайших изгибов, своему отцу, который любящим, теплым взглядом смотрел на прекрасное, взволнованное лицо своей дочери.
Когда она замолчала, граф кротко сказал:
– Ты прав, мой, брат, это сердце чисто, как росинка в чашечке лилии! Но, – продолжал он через минуту, кладя руку на голову молодой девушки, – свет не поймет этого сердца, свет будет судить по своим понятиям и мерить своей меркой. И, – продолжал он, гордо подняв голову, – моя дочь не может и не должна опускать глаза пред кем бы то ни было на свете, но также не следует ей увядать в безмолвной скорби – у отеческого сердца ее место, здесь она найдет утешение в прошедшем, замену в настоящем, силу и счастье в будущем! Дочь моя, – говорил он далее, взяв ее руку и заглядывая ей в глаза, – если в твоих жилах течет моя кровь, то и сердце твое должно обладать моей гордостью и силой воли – прошедшее должно умереть, немедленно умереть!
Джулия поникла головой и глубоко вздохнула.
– Ты немедленно пойдешь со мной, – продолжал граф, – я помещу тебя на несколько дней в монастыре, настоятельница которого знакома мне. Я скоро возвращусь в Италию и увезу тебя с собой в Рим, тот вечный город, где родилась ты, где впервые увидела чудное, светлое небо нашего отечества. Мой брат поедет с нами – ты, конечно, не останешься здесь? – спросил он художника.
– Мое отечество там, где ты, – отвечал последний, – только Джулия удерживала меня здесь.
– О, он будет страдать, – прошептала молодая девушка, печально взглянув на отца, – он верен, добр и предан – могу ли я сказать ему о происшедшем, проститься с ним?
– Нет! – сказал гордо граф. – Никто не должен знать о моих страданиях и темном пятне жизни – Джулия Романо должна исчезнуть, и у дочери графа Риверо не может быть печального прошлого! Однако, – продолжал он, взглянув с участием на грустное лицо дочери, – ты можешь послать ему прощальный привет. Скажи, что загадка твоей жизни разрешилась и ты возвращаешься на родину, скажи ему, – продолжал он кротко и нежно, – что будущее, быть может, окажется счастливее, если он сохранит любовь и веру. Скажи ему, что прикажет твое сердце, но только ничего, что могло бы открыть твои следы.
Счастье и надежда засияли на лице молодой девушки; взор ее, казалось, видел неясные картины будущего.
– Но скорей отсюда, – сказал граф, – тебе не следует оставаться здесь ни минуты больше. Устроив тебя, я возвращусь сюда, я должен видеть ту, которая причинила нам много горя, и сказать ей о случившемся, ради этого дитя я прощу ей – да обратит Господь к Себе ее сердце.
Он произнес последние слова прискорбным тоном. Джулия быстро надела шляпку и верхнее платье и, волнуемая тысячью противоположных чувств, уехала с отцом и, грустя о милом, но радуясь тому, что жизнь ее будет светла и спокойна.
* * *
Граф устроил все в монастыре Сакр-Кер для временного пребывания дочери и через два часа возвратился на улицу Лореттской Богоматери, чтобы условиться с братом об остальном.
Бесконечное счастье, чистая радость наполняли его сердце.
Как ни была прискорбна и печальна эта встреча, как ни страдала гордость графа при мысли о том состоянии, в каком он нашел дочь, свое единственное дитя, он нашел, однако, ее на краю пропасти, мог доставить ей светлую судьбу – его жизнь обрела теперь цель, сердце нашло привязанность, душа – гармонию.
Он быстро прошел через пустой салон – Лукреция еще не выходила из внутренних комнат – отворил дверь и вошел в комнату художника.
Он остановился, пораженный, и пристально всматривался в открывшуюся перед ним картину.
Откинувшись к спинке кресла, художник сидел перед мольбертом с кистью и палитрой в опущенных на колени руках. Лицо его дышало счастливым спокойствием и безмятежностью, можно было подумать, что он заснул за работой, но по особенной воскообразной бледности лица и оцепенелому взгляду, опытный глаз графа увидел, что здесь сон уступил место своему брату-близнецу.
После минутной нерешительности граф бросился к художнику и приложил руку к его лбу. С глубоким, скорбным вздохом он отнял руку – лоб был мертвенно холоден.
– Мой брат, мой бедный Гаэтано, – сказал граф, – для того ли я нашел тебя, чтобы вновь лишиться? Неужели твои долгие страдания не нашли внутреннего примирения?
Он раскрыл сорочку на груди художника и приложил руку к его сердцу. Потом приподнял веко и тщательно исследовал зрачок.
– Умер, ничем нельзя оживить, – прошептал граф. Потом нежно положил руки на оцепеневшие глаза: теплые руки брата согрели окоченелые веки и последние смежились над утомленными глазами.
С глубокой печалью смотрел граф на безмятежное, ясное лицо.
– Улетая из мира, душа его согрелась последним лучом счастья, – прошептал граф, сложил руки и прочитал молитву над трупом.
Потом взгляд его упал на мольберт, и граф вскрикнул от удивления. Картина была окончена, исчезло серое облако, закрывавшее прежде место головы, не подробно исполненный, но уже видимый в контурах, смотрел лик Спасителя с холста, и в его глазах светились бесконечная любовь и милосердие, пролившие божественную кровь на кресте за грехи мира.
Граф долго и в сильном волнении смотрел на эту картину – простой холст заключал историю человеческой души, ее падения и раскаяния и в то же время представлял одно из тех откровений, которые возвещают отдельным лицам вечное евангелие любви и милосердия.
– Благо ему, – сказал граф, касаясь губами волос умершего, – расставаясь с жизнью, он видел лицо Бога, грешное тело осталось здесь, на земле, душа вознеслась к Предвечному…
Послышались шаги в салоне, граф с ожиданьем обратил глаза на дверь, руки его слегка дрожали.
Дверь отворилась, вошла Лукреция в изящном, но измятом неглиже. При дневном свете ясно можно было заметить разрушение, произведенное временем в ее когда-то прекрасных чертах.
Она окаменела от ужаса, увидев мертвого художника в кресле и стоявшего за ним, с гневным, скорбным и сострадательным взглядом, того человека, против которого она была так преступна и образ которого грозно поднимался со дна ее души, среди суетной жизни, полной упоенья, страстей, волнения и унижения.
Как бы ища опоры, она схватилась за ручку двери; лицо ее побледнело; она потупила глаза и сжала губы с выражением упрямого сопротивления.
Так простояли они молча несколько секунд друг против друга.
Граф первый заговорил без всякого волнения.
– Вот труп твоей жертвы – ты разбила его жизнь, отняла божественный гений искусства, но Бог простил его, и душа его пойдет за гробом то, чего ты лишила ее здесь.
Она продолжала молчать и не поднимала глаз.
– Я нашел свою дочь, к счастью, прежде, чем была отравлена ее душа, я возьму ее с собой, ты никогда больше не увидишь ее в этом мире, она должна разучиться краснеть за свою мать!
Судорожная дрожь пробежала по Лукреции, она стояла молча и неподвижно.
– Ты распорядишься, – продолжал граф тем же тоном, – констатировать по закону смерть этого несчастного – его тело набальзамируют и временно погребут, потом я увезу его в Италию, он должен почивать в родной земле.
Лукреция продолжала молчать.
– Я озабочусь о твоем материальном существовании, ты будешь получать все необходимое, я не хочу, чтобы женщина, когда-то покоившаяся у моего сердца, впала в бедность. Вот все, что я имею сказать тебе, иди и постарайся найти путь к спасению.
Он повелительно протянул к ней руку, силы, казалось, оставили Лукрецию, она упала на колени, обратив на графа полудикий-полумолящий взгляд. Граф не тронулся с места, на лице его изображалась сильная внутренняя борьба, но вскоре кроткий луч осветил его черты; он перекрестил издали Лукрецию и произнес:
– Иди с миром своей дорогой, да простит тебя Бог, как я прощаю!
Она встала, собрав последние силы, молча повернулась и скрылась в салоне.
Граф подошел к мольберту и снял с него картину.
– Пусть она будет завещанием моего брата и научит меня судить, как судит Спаситель!
Он взял карандаш и написал на краю картины: «Приидите ко мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокой вы!»
Потом еще раз опустив руку с благословением на голову умершего брата, сошел с лестницы и быстро уехал.









































