Текст книги "Европейские мины и контрмины"
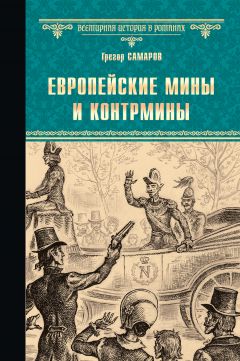
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 46 (всего у книги 46 страниц)
Глава сорок первая
В один из ноябрьских вечеров 1867 года принцесса Матильда сидела в восхитительном салоне верхнего этажа своего отеля на улице Курсель. Еще не начались те большие приемные вечера, на которых принцесса собирала вокруг себя все, что было лучшего в Париже в числе сановников, дипломатов, художников и писателей; принцесса принимала только близко знакомых лиц.
Красивая головка дочери Жерома, с тонкими, умными чертами, с черными быстрыми глазами и черными блестящими волосами, опиралась на классически прекрасную руку, которая сохранила свою белизну и напоминала пресловутую руку великого дяди принцессы. При той позе, которую приняла принцесса, трудно было заметить ее дородность, а судя по всей наружности, нельзя было дать ей столько лет, сколько она прожила в действительности.
У ног принцессы на мягкой подушке лежала маленькая собачка, дрожавшая от холода, несмотря на то что была укутана в толстый шерстяной плащ с меховой опушкой; вблизи от нее, на низеньких табуретах, расположились две другие собачки с длинной, шелковистой шерстью.
Салон был наполнен всем, что может соединить высокообразованный, иногда прихотливый вкус: по стенам висели масляные картины, изображавшие вестфальские ландшафты и сцены из народной вестфальской жизни, а рядом с этими картинами виднелись классические произведения итальянской школы, а также картины, написанные самой принцессой.
В одном уголку салона статс-дама Рейзе, красивая молодая женщина, готовила чай на маленьком столике.
Рядом с принцессой сидел Мединг, поверенный ганноверского короля.
– Очень жаль, – сказала принцесса, постукивая ногой о подушку своей собачки, – очень жаль, что нельзя осуществить немедленно наших идей о союзе ганноверского дома с Италией. Настоящее положение дел в последней принуждает отложить все проекты, а мне так хотелось, чтобы ганноверский дом мог, по своим будущим связям с великими державами, устроить свою будущность.
– Ваше императорское высочество знает, – отвечал Мединг, – что я немедленно сообщил те идеи, о которых вы сделали честь говорить со мной, однако внезапное и быстрое решение, кажется, очень трудно для моего всемилостивейшего государя, ибо при обсуждении этого вопроса надобно взять в расчет различные обстоятельства, религию и принципы, выражаемые теперь в Италии, но которых ганноверский король не может одобрить в своем настоящем положении…
– Ба! – вскричала принцесса. – Но ведь король не захочет сравниться с Бурбонами Неаполя и со всеми иноземными властителями, которые лишились трона вследствие объединения Италии. Откровенно говорю вам, король был неправ, восставая против силы и обстоятельств, но, во всяком случае, он имел на то больше прав, чем иностранные государи, владевшие клочками Италии. Но, как бы там ни было, я желала бы быть полезной его дому, к которому всегда питала глубокую симпатию, и никогда не забывала нашей встречи с королем в Потсдаме. За обедом у старого князя Витгенштейна, я сидела рядом с королем и была приятно поражена благородной личностью этого рыцарского и несчастного государя. В последнее время голландская королева снова говорила со мной о нем – я того мнения, что теперь для короля самое лучшее быть в сношениях с европейскими дворами. Принц Кариньянский поведал мне чрезвычайно много о красоте и любезности принцессы – вам известно, чего достиг габсбургский дом через союз…
– Будьте уверены, – сказал Мединг, – что я вполне разделяю ваше мнение и всегда готов быть посредником, если от того предвидится польза для моего государя.
– Теперь ничего нельзя сделать и нечего думать, – сказала принцесса, – новое смятение в Италии спутывает все условия и грозит Европе новыми катастрофами. Почему, – продолжала она, притопнув ногой, – почему не оставят в покое Италию? Нам нечего делать в Риме и защитить дело, которого нельзя поддержать внешней силой. Если церковь и духовенство не могут сохранить своей власти над умами посредством увещаний и влияния на дух, то, конечно, никогда не достигнуть этой власти штыками и пушками. О, я искренно сожалею о том, что императору советуют поддерживать падающую власть папы и приобретать себе врага в лице Италии, тогда как следовало бы войти в союз с этим новым и укрепляющимся государством. Кто стал бы сопротивляться такой коалиции? А Франция приобрела бы бесконечное могущество!
– Мне как иностранцу, – возразил Мединг, – трудно судить о политике Франции и ее императоре; ибо я не имею достаточных сведений…
Принцесса улыбнулась и лукаво взглянула на собеседника.
– Самое дипломатическое введение! – сказала она.
– Однако, – продолжал Мединг, – я думаю, что, судя по событиям, крепко держатся идеи о союзе с Италией. Приезд австрийского императора…
– Ровно ничего не значит! – вскричала принцесса. – Я долго беседовала с фон Бейстом. Я не присяжный политик, но имею свое мнение и свободно высказываю его: на Австрию нечего рассчитывать, там нет ни твердой воли, ни истинных сил. Австрия последует за Италией, но последняя не довольствуется мелкими уступками, она требует национального единства и столицы, а мы опять ухитряемся противодействовать этому национальному требованию! – прибавила она, пожимая плечами.
– Но, – сказал Мединг, – императорское правительство недовольно не итальянским правительством, а движением, совершенно произвольным – Ратацци сговорился с…
– Ратацци! – вскричала принцесса тоном, которого нельзя описать. – Быть может, и мадам Ратацци также?
В эту минуту в дверях салона показался мужчина лет шестидесяти, с лентой Почетного легиона; его лицо с тонкими чертами, обрамленное жидкими волосами, дышало умом и обязательной вежливостью придворного человека. Рядом с ним шла стройная, чрезвычайно красивая женщина, мраморно-бледное лицо которой освещалось темным огнем черных глаз, с длинными ресницами; столь же черные, толстые косы украшали ее голову; она была одета в черное бархатное платье и носила брильянты на голове и на шее.
Это были маркиз Шаслу-Лоба с супругой, приехавшие с вечерним визитом к императорской кузине.
Принцесса протянула руку маркизе и посадила рядом с собой на тот стул, на котором перед этим сидел Мединг.
– Будьте осторожны, маркиз, – сказала принцесса, весело улыбаясь, – вы застали меня в дурном расположении духа – я только что высказала неприятные вещи о современной политике: ваша честность смутилась бы, если бы вы услышали мое мнение…
– Я всегда с величайшим уважением выслушаю мнение дамы и императорского высочества, – отвечал маркиз с поклоном, – но удерживаю за собой право не разделять этого мнения…
– Или не говорить, что разделяете его, – заметила принцесса со смехом. – Знаете ли, господа, – продолжала она через минуту, – что я придумала: я хочу основать журнал, большой журнал. Это будет преинтересным занятием – я стану высказывать свое мнение обо всем, что вижу и что мне не нравится. О, вы увидите, какие чудесные статьи я буду писать или велю писать, ведь я должна же иметь редакцию. Не хотите ли, маркиз, быть членом моей редакции?
– Я боюсь, чтобы этот журнал не пришел в столкновение с законами о печати, когда начнет так же рассуждать о внутренних делах, как рассуждает ваше высочество о внешней политике, – сказал Шаслу-Лоба.
– О, – возразила принцесса полушутливо-полусердито, – внутренние дела я буду совершенно иначе бичевать, – ибо имею причину быть в дурных отношениях с правительством. Знаете ли, что сделал со мной ваш Осман?
Маркиз со смущением пожал плечами.
– Этот парижский паша, – сказала принцесса, – отнял у меня часть сада в Сен-Грациан и провел через мой парк отвратительную, дымную и шумную железную дорогу. А что еще лучше, так это то, что деньги за этот участок внес в императорскую коронную казну – разве такое слыхано? Когда же я стала жаловаться императору, последний погладил свою бородку, которая, правду сказать, не к лицу ему, и сказал, что надобно дать полную свободу Осману в этих делах, что он отлично понимает их и должен иметь некоторую самостоятельность, чтобы создать нечто великое. О, если б у меня был свой журнал!
– Но он, этот Осман, получит должное воздаяние, – продолжала она после минутного молчания, – хорошо ему будет в Законодательном корпусе, когда дойдет до вопроса о том, что он издержал на 530 миллионов более, чем есть в казне города Парижа…
– Ваше императорское высочество знает это?! – вскричал маркиз Шеслу-Лоба с испугом.
– Я понемножку знаю все, – сказала принцесса с торжествующей улыбкой, – есть добрые приятели, и на этот раз, могу уверить вас, я получила точные сведения.
– Я предлагаю свое участие в вашем журнале, – сказал Мединг, отвлекая разговор от тягостного пункта, – на свою долю я прошу немецкие дела!
– Благодарю, нет! – возразила принцесса. – Вы не годитесь, вы слишком упрямы. Я должна сказать, что питаю глубокое уважение к графу Бисмарку, который знает все, что хочет – надобно оставить его в покое и не начинать с ним споров, ибо из них произойдет в конце концов несчастная жестокая война со всеми ее страшными бедствиями. Вы доведете меня до конфликта с прусским правительством…
– Обстоятельства поставили меня на сторону противников графа Бисмарка, – возразил Мединг, – но ваше высочество может быть убеждено, что никто не питает большего уважения к этому сильному государственному человеку, нежели я.
Вошел высокий стройный мужчина, белокурый, с умным, красивым лицом и изящными манерами.
– Добрый вечер! Добрый вечер! – приветствовала принцесса, отвечая легким наклонением головы на глубокий поклон, с которым подошел к ней Анри Пен, известный остроумный писатель. – Вы пришли кстати – вы знаток в своем деле и должны дать мне совет, как поступить, чтобы основать журнал, я хочу показать свету, как следует свободно и откровенно высказывать свое мнение.
– Это легко сделать, – отвечал Пен с улыбкой, – купите у бедного Дюсотуа его «Эпок», который в тягость ему – он, как я слышал, хочет продать его.
– Дюсотуа – портной императора! – воскликнула принцесса с громким смехом. – В его руках журнал, конечно, не может иметь успеха – первое условие органа общественного мнения есть истина, голая истина, а Дюсотуа такой человек, что, явись ему истина в своем мифологическом наряде, непременно упрячет ее в самый новомодный фрак и панталоны.
Все засмеялись.
– Известно ли вашему императорскому высочеству четверостишие, – сказал Мединг, – по случаю того, что султан заказал себе платье у Дюсотуа, этого превосходного портного с несчастной идеей издавать журнал?
– И что там? – спросила принцесса.
Мединг прочитал:
De Mahomet raillant la loi
Le Sultan quitte sa défroque —
Il s'habille chez Dusautoy:
Il est vraiment de son époque!
– Превосходно! – вскричала принцесса со смехом.
– Падишах, закутанный в эпоху, – дивная картина, – заметил Пен.
– Однако ж скажите мне, – спросила принцесса, – чем утешается Париж по окончании выставки, этого источника развлечений парижан?
– Утешаются чем могут, – ответил Пен. – Снова начинают интересоваться первыми спектаклями, говорить о том, что Гортензия Шнейдер хочет исторгнуть скипетр у великой герцогини Герольштейн…
– В самом деле? – спросила принцесса. – Кто же будет ее преемницей?
– Мадемуазель Зюльма Буффар, – сказал Пен, – у которой больше таланта, лучший голос и, во всяком случае, больше свежести и молодости, чем у feu la grande duchesse100100
Пламенной великой герцогини (фр.).
[Закрыть], как называют Шнейдер.
– Недавно я проезжала мимо выставки, – сказала принцесса грустно после минутного молчания, – и, правду сказать, вид повсеместного разрушения произвел на меня грустное впечатление. На этом волшебно устроенном Марсовом поле, где были собраны все чудеса искусства и промышленности, где соединились все нации, ныне пустынно – видны только рабочие, упаковывающие предметы удивления всего света и отправляющие их обратно на родину. Слышны удары молота, как будто заколачивают гроб, в котором скрыты все эти прелести, вся эта красота; прибавьте еще наводящую тоску ноябрьскую погоду, которая застилает небо серыми облаками и покрывает землю грязью. О, едва ли что может быть противоположнее Марсова поля летом и теперь – нельзя найти более верной картины бренности всего земного!
– Неужели правда, – осведомился Пен, – что сломают и чудесный хрустальный дворец, это дивное произведение архитектуры? Будет очень жаль, если сломают. Выставочная комиссия желает сохранить его, предназначая для постоянной выставки или для иных общественных целей.
– Дворец будет сломан, – сказала принцесса, – иначе не может быть – военные утверждают, что не могут обойтись без Марсова поля для своих упражнений.
– Мне кажется, они правы, – заметил маркиз Шаслу-Лоба, – мы хлопотали насчет сохранения дворца, но должны были убедиться в основательности доводов, представляемых императору военным министерством. Французская армия и во главе нее гвардия служат основами для блеска и величия Франции и Марсово поле представляет единственное место для упражнения гвардии и в то же время историческую почву не без значения для духа солдат.
Принцесса молчала.
– Как здоровье бедного графа Гольтца? – спросила она после небольшой паузы.
– Очень плохо, – отвечал маркиз Шаслу-Лоба, – говорят, болезнь его неизлечима.
– Грустная новость, – сказала принцесса, – за несколько дней до своей болезни он был у меня. Мне он не понравился, он постоянно улыбался, а это меня раздражало. А два дня спустя закуривая сигару – Гольтц имел прескверную привычку курить, почувствовал боль в языке, и доктор, осмотрев, сказал, что у него рак. Бедняжка, – продолжала принцесса, – он также не любил меня, и это естественно – я казалась ему не дипломатической особой, но, во всяком случае, судьба его огорчает меня. При том же это фамильное несчастие, отец его был прусским посланником во времена Наполеона I и так же умер от рака языка.
Разговор прекратился.
Маркиз Шаслу-Лоба встал и простился с принцессой; жена его, не сказавшая ни одного слова в течение всего разговора, также простилась.
Анри Пен последовал их примеру.
С той же целью подошел к принцессе Мединг, разговаривавший доселе с госпожой Рейзе.
– Прошу вас, – сказала принцесса, – передать вашему королю мой поклон и уверить его в искреннем моем участии.
– Его величество будет рад дружескому расположению вашего императорского высочества, – отвечал Мединг, поднося к губам протянутую руку принцессы.
В эту минуту поспешно вошел высокий мужчина с бледным лицом южного типа и с черными глазами.
Его жидкие волосы были тщательно подвиты и причесаны, небольшие усы покрывали верхнюю губу.
Во всей его фигуре и чертах выражались волнение и торопливость.
– Ну, что нового, граф Вимеркати? Я уже вижу, что вы намерены сообщить нечто важное! – сказала принцесса поверенному короля Виктора-Эммануила, жившему в Париже для того, чтобы своим личным влиянием и связями поддерживать отношения между парижским и флорентийским дворами.
– Действительно, у меня есть важная новость, – отвечал граф Вимеркати, едва выговаривая слова от волнения, – около Ментаны, близ Рима, произошла битва между волонтерами Гарибальди и французскими войсками. Весь отряд Гарибальди был положен на месте убийственным огнем винтовок «шаспо». Волнение страшное, только что приехал ко мне курьер, не знаю, известно ли про это событие правительству и посланникам, но я не хотел медлить ни минуты, чтобы уведомить ваше высочество.
Принцесса встала и простояла некоторое время в задумчивости. На ее лице отражался гнев.
– Это результат итальянской политики, которая хотела стать между двумя непримиримыми противоположностями и навлекла наконец на себя гнев обеих. Выстрелы «шаспо» при Ментане отторгли Францию от Италии, и горько отомстится некогда это отторжение. Вместе с тем, – продолжала она, обращаясь к Медингу, – стало невозможно осуществить идеи, о которых я с вами говорила, ибо после этого события нельзя угадать, что случится в будущем.
Матильда снова медленно опустилась в кресло.
– Позвольте мне ехать, ваше императорское высочество, – сказал Мединг. – Я должен сообщить своему государю об этом важном событии.
Он поцеловал руку принцессы, которая слегка склонила голову, и вышел из салона.
Принцесса была права. Идеи, возбужденные свиданием в Зальцбурге и долженствовавшие развиться подробно во время пребывания австрийского императора в Париже, стали неосуществимы вследствие похода Гарибальди и битвы при Ментане. Глубоко оскорбленная Италия отстранилась от Франции и стала ждать благоприятного случая, чтоб овладеть своей национальной столицей.
Равным образом Австрия предусмотрительно занялась собой и посылала из венской государственной канцелярии в Берлин самые торжественные уверения в искренней дружбе. Императорская Франция стояла изолированно в Европе и в своей изолированности не могла сказать себе в утешение: сильный бывает самым могущественным, когда стоит одиноко.
В то время, пока империя держалась еще на своем шатком и постепенно распадающемся фундаменте, пока берлинский кабинет в гордом и холодном спокойствии неуклонно следовал своим путем, официальная пресса торжественно провозгласила, а общественное мнение во Франции торжественно повторило за ней:
– Les сhassepots ont fait merveilles101101
«Шаспо» творят чудеса (фр.).
[Закрыть].









































