Текст книги "Европейские мины и контрмины"
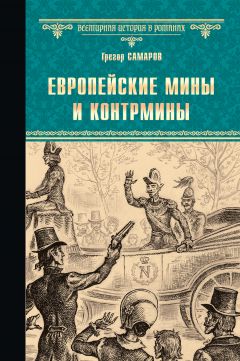
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 46 страниц)
– Бедное дитя – отдых возвратит ей силы. Потрудитесь проводить нас до экипажа.
Маркиз поклонился.
– Удушливый жар и множество народа расстроили нервы вашей дочери, – сказал он вежливо.
Подошла маркиза де л'Эстрада.
– Боже мой! – вскричала она. – Вы уже уезжаете? Все расходятся так рано, боюсь, что у меня не весело, госпожа Агар также уехала!
– Моя дочь нездорова, – сказала Лукреция, – здоровье ее слабо, – прошу вас не беспокоиться, позвольте нам уехать незаметно.
И, пожав руку удивленной хозяйке дома, она медленно пошла к двери. За нею следовала Джулия под руку с маркизом, не простившись с де л'Эстрада, которая, покачивая головой, обратилась к Мирпору.
Граф Нашков медленно вышел из второго салона.
– Ваша итальянка – какая-то дикарка, – сказал он с улыбкой Мирпору, – она кусается и брыкается, как степная лошадь.
– Со временем станет ручной, – отвечал агент, пожимая плечами, – нужно только иметь немного терпения.
– Что такое случилось? – спросила Памела, посматривая на дверь, через которую вышла Лукреция с дочерью.
– Птичка пугается, завидев сеть, – сказал ей сосед, – впоследствии она выучится смотреть на вещи с другой стороны и владеть той самой сетью, в которую мы поймали ее.
– Voilà comment cela commence, – сказала Памела, цитируя арию королевы Клементины из «Синей бороды», и, опустив голову на спинку дивана, она устремила вверх глаза с задумчивым, печальным выражением, которое составляло резкий контраст с нарумяненными щеками и подкрашенными ресницами.
Маркиз Вальмори довел Джулию с матерью до ожидавшего их фиакра и потом простился. Лукреция забилась в угол тесного и неудобного экипажа и молчала некоторое время.
– Не понимаю, – сказала она наконец сердитым тоном, – как ты можешь так капризничать? Я пришла в крайнее затруднение…
Джулия не отвечала; завернувшись в шаль, она сидела неподвижно.
Лукреция заглянула ей в лицо. Почувствовала ль она, что дальнейший разговор не приведет ни к каким результатам, или, может быть, опасалась сильно натянуть и без того туго натянутую струну, или, может быть, она была довольна результатом вечера, только она опять забилась в угол и не прерывала молчания до самого дома.
Быстрыми и твердыми шагами поднялась Джулия по лестнице, не заботясь о матери, и вошла в комнату художника Романо.
Последний еще не ложился. Маленькая лампа горела на столе, около мольберта с неоконченной картиной. Художник сидел пред нею и не сводил с нее широко открытых, усталых глаз.
Он вздрогнул в испуге, когда вошла Джулия, – едва принудив себя к ласковой улыбке, он несколько выпрямился и протянул девушке свою худую руку.
– Благодарю тебя, дитя, – сказал он с грустной улыбкой, – что ты зашла, весело было тебе?
Джулия не отвечала – долго и пристально смотрела она на слабого, разбитого художника и потом сказала:
– Покойной ночи, отец. Ты ведь любишь меня?
– Что за вопрос, дитя! – произнес художник, с беспокойством заглядывая в лицо дочери. – Можешь ли ты в этом сомневаться?
– Благослови же меня, как благословлял прежде, когда я была ребенком, – сказала она, становясь пред ним на колени, – и помоли Господа, чтобы Он милосердно воззрил на мое будущее.
Художник остолбенел от испуга. Он положил руку на голову молодой девушки и поднял к небу лихорадочный взор.
– Могу ли я благословлять, – прошептал он дрожащими губами, – я, принесший проклятие этому ребенку? О Боже мой! – сказал он громче. – Благослови, излей на эту голову Свое милосердие, которое прощает грехи ради истинного раскаяния, и обрати на меня, меня одного, все страдания, которые предстоят в жизни этого дитя!
Джулия не слышала сказанных им слов; она долго не вставала с колен, ей так было хорошо чувствовать на своей голове руку человека, который окружал ее с самого детства участием, полным любви, и неусыпными заботами; она не видела скорби на его бледном лице, не видела слез, которые тяжело катились из его глаз по ввалившимся щекам.
Потом она встала быстро, прижала его руку к своим губам и прошла на свою половину, мимо матери, которая снимала наряд.
Ее встретила горничная. Не говоря ни одного слова, не отвечая на вопросы, она разделась, легла и открыла медальон, висевший у нее на шее. В медальоне был портрет ее милого; губы ее судорожно дрожали.
– Погибшая жизнь, – произнесла она едва слышно, – погибшая, погибшая навеки, и однако жизнь так прекрасна! Боже, Боже мой, зачем Ты оставил меня?
Неподвижно лежала она, не сводя глаз с портрета, пока не прокрался в комнату луч утреннего света, и часто с трепетом просыпалась она от беспокойного сна, который наконец смежил ее усталые очи.
Глава двадцать вторая
На вилле «Брауншвейг» в Гитцинге, том маленьком домике, отделявшемся от улицы простой высокой стеной, принадлежавшем прежде барону Хюгелю, который украсил его произведениями искусства и редкостями, а затем уступил герцогу Брауншвейгскому, – помещался небольшой двор короля Георга V, который поселился в этом прелестном buen retiro5656
Благое уединение (исп.). Здесь: место отдохновения.
[Закрыть] герцога, своего кузена, с кронпринцем Эрнстом-Августом и старшей принцессой Фридерикой, между тем как королева с принцессой Марией не оставляла еще Мариенбурга, уединенного замка в горах.
Утреннее солнце освещало свежую зелень высоких садовых деревьев; большие стеклянные двери китайской комнаты были отворены, и через них проникал запах весенних цветов и первых распустившихся роз; даже китайские, величиной с человека, пагоды, казалось, живее кивали зобатыми головами, под влиянием весеннего воздуха, который изредка приводил в движение тот или другой из бесчисленных серебряных колокольчиков, висевших на потолке.
Ничто в этом тихом мирном цветущем убежище не заставляло предполагать, что здесь живет государь, трон которого рухнул от бури времени и на которого были обращены внимательные взгляды европейских кабинетов и партий. Лакеи в карминного цвета ливреях Гвельфского дома расхаживали по длинному коридору, ведшему во внутренние комнаты, на дворе стояла запряженная карета – все имело вид аристократической виллы, спокойная жизнь которой была так же светла и ясна, как чистое весеннее небо и золотое солнечное сияние, которым был залит луг и пестрый цветник.
По усыпанной мелким желтым песком дорожке сада, непосредственно примыкавшего к выходу из внутренних комнат, медленно ходила принцесса Фридерика в простом утреннем наряде. Благородное лицо принцессы с большими голубыми глазами стало печальным в это печальное время, рука которого так тяжело коснулась ее девичьей жизни. Но хотя свежие губы не улыбались с беззаботной веселостью ее лет, однако молодость не утратила всех своих прав: из-под грусти и задумчивости, лежавших на гордых чертах этой дочери древнего Генриха-Льва, проглядывало что-то радостное, когда она скользила взглядом по цветам, которые раскрывали свои чашечки при солнечном сиянии и наполняли воздух ароматом.
Рядом с принцессой шла статс-дама графиня Ведель, которая вместе с сыном явилась исполнять свои обязанности при дворе несчастного короля. Нежный мягкий взгляд графини, старой дамы с кроткими чертами и благородной осанкой, часто обращался с сердечным участием на молодую девушку, которой пурпур принес столько горя.
– Сегодня утром, когда подали брату лошадь для его утренней прогулки, я, правду сказать, позавидовала ему, – сказала принцесса со вздохом. – Как желала бы я сесть на лошадь и помчаться по свежему, чистому воздуху, вдыхая свободу и наслаждаясь утренними лучами солнца!
– Разве нельзя ехать верхом вашему высочеству? – спросила графиня. – Кажется, его величество говорил об этом.
– Ах нет, – сказала принцесса, опять вздыхая, – мама не позволяет; из Ганновера и отсюда я писала об этом в Мариенбург и оба раза получила отказ.
– В таком случае вашему величеству нужно покориться, – сказала графиня с ласковой улыбкой, – в сущности, здесь небольшая жертва, – жизнь требует больших и тягостнейших. Взгляните вокруг, и здесь везде прекрасная, дивная природа – нам, женщинам, суждено жить и действовать в ограниченном круге, и благо нам, если этот круг так же прелестно украшен цветами, как этот сад.
Принцесса молчала несколько мгновений.
– В ограниченном круге, – прошептала она, – да, да, таков жребий женщин. Но, – сказала она с живостью, – надобно сказать вам, графиня, что это нисколько не нравится мне!
Они остановилась.
– Разве нет? – спросила она, поднимая на графиню выразительные, по-детски наивные глаза. – Разве нет людей, которые ошибаются в своем призвании?
Графиня улыбнулась.
– Конечно, – отвечала она, – есть такие люди…
– Ну так вот, – вскричала принцесса, полушутя-полусердито, – кажется, я ошиблась в своем призвании! Мне, судя по всему, следовало родиться мужчиной.
Графиня засмеялась.
– Что за мысль? – сказала она.
– О, эта мысль приходила мне в голову, когда я была еще ребенком, – сказала принцесса, – у меня было тогда одно только желание: делить с братом игры и занятия. Я часто плакала, что родилась девочкой.
– Но, принцесса, – сказала почти испуганная графиня, – это были детские, извините за выражение, ребяческие фантазии – не предавайтесь им, – прибавила она серьезно. Вам известно, как строго его величество король желает соблюдать границы того, что называется установленной формой и обычаем.
Легкий румянец покрыл нежные щеки принцессы. Она гордо подняла голову, с таким выражением, в котором сказывалась гордость ее тысячелетнего рода, и проговорила:
– Вы не понимаете меня, графиня – меня стесняют не границы формы и обычая. Вы знаете, – продолжала Фридерика задушевным тоном, взяв под руку статс-даму и продолжая прогулку, – вы знаете, как возмущает меня всякое, даже незначительное, нарушение этих границ, всякое эмансипированное существо. Но, оставив в стороне эти границы, зачем так тесно ограничивают жизнь женщины, круг ее действия, стремления? Почему для нас должна быть замкнута богатая область знания, в которой дух мужчин идет по чудной, светлой дороге? Почему мы не смеем принять участия в истории, которая, однако, захватывает нас в своем могучем развитии? – прибавила она со вздохом. – И особенно когда называешься принцессой. Узкий круг, стесняющий вообще жизнь женщин, до того тесен для нас, что становится трудно дышать – крылья духа теряют свою силу от бездействия! Видите ли, – продолжила она с живостью, – я заметила в себе стремление, желание постигнуть мир и жизнь, проникнуть в область знания, но где я найду опору, где найду дружескую руку, которая поведет меня? Умственная работа будет тяжела мне, но чем тяжелее она, тем лучше; но как освободиться от оков, налагаемых на меня моим положением? Я говорю с кем-нибудь! – воскликнула девушка с гневным выражением. – И, преодолевая свое смущение, ибо я очень смущаюсь, хотя и не выказываю этого; я говорю что-нибудь и чувствую, знаю хорошо, что моя речь неясна; надеюсь, что меня поправят, научат, просветят. И что же я слышу?
Она остановилась перед графиней и, передразнивая кланяющегося, сказала:
– «Сущая истина, ваше королевское высочество, вы совершенно правы! Удивительно, каким тонким суждением обладает ваше королевское высочество!» Вот что я слышу, графиня! – вскричала она, сжимая губы. – Что бы я ни сказала, полет моего духа встречает железную стену вечной почтительности и преданности!
Графиня искренне рассмеялась.
– Ваше высочество утверждает, будто не знает света, – сказала она, – и, однако, так изучили великосветский тон, что самый великий актер не мог бы лучше вас копировать.
– Да, этот тон я довольно хорошо знаю, – сказала принцесса, смеясь сама, – но он чрезвычайно наскучил мне. И теперь, – продолжала она серьезно, подняв на графиню свои большие глаза, с грустным выражением, – в это время тяжких испытаний для нашего дома становится вдвойне прискорбно жить в печальном бездействии, умирая с тоски и горя. Графиня, – сказала она подавленным голосом, со слезами на глазах, – видя пред собою отца, на голову которого обрушилось такое несчастие, я готова плакать от гнева на то, что ничем не могу помочь ему и его делу, его дому, кровь которого течет также и в моих жилах, его правам, которые также принадлежат и мне. О, будь я принцем, – вскричала она, энергично топнув ногой, – я стала бы бороться, работать! Мой брат легкомысленно смотрит на все это… – сказала она со вздохом, потупив взгляд.
Графиня Ведель с глубоким участием посмотрела на принцессу; ее глаза также увлажнились.
Послышались скорые шаги по дорожке, которая вела к отдаленным частям сада.
Показался король Георг V, опираясь на руку флигель-адъютанта фон Геймбруха.
На короле был ганноверский мундир гвардейских егерей, без эполет и орденов; он курил вставленную в длинный мундштук сигару.
– Принцесса Фридерика, – сказал фон Геймбрух. – Добрый день, дочка! – воскликнул король звучным голосом.
Принцесса поспешила навстречу к отцу и поцеловала ему руку; король взял ее голову и нежно чмокнул в лоб, медлительно разглаживая ее блестящие пепельные волосы.
– Чудесное утро, – сказал король, – как приятно действует на меня этот чистый, свежий воздух! Я уже давно гулял, а моя дочка спала между тем, – прибавил он с улыбкой.
– И я уже некоторое время в саду, с графиней Ведель, – сказала она, взглянув на статс-даму, которая подошла к королю.
– А, графиня, доброе утро! – сказал Георг V, взяв руку графини и с рыцарской галантностью поднося ее к губам. – Как ваше здоровье сегодня? Я постоянно сожалею, что вам приходится терпеть здесь неудобства, но вам самим было угодно. Мы на походной ноге и потому должны многое переносить!
– Ваше величество, – сказала графиня, – я ни в чем не нуждаюсь и продолжала задушевным тоном: – Я счастлива, что в настоящую минуту могу исполнять свои обязанности. Принцесса Фридерика, – переменила она вдруг разговор, – не совсем довольна нашей утренней прогулкой по прекрасному цветущему саду – ей хотелось бы сесть на коня и умчаться в беспредельное поле.
– Королева не позволяет этого, – сказал Георг V серьезно.
– Граф Альфред Ведель, – сказал фон Геймбрух. Подошел гофмаршал граф Ведель в простом утреннем наряде.
– Дорогой Альфред, – сказал король, обращаясь в ту сторону, с которой раздавались шаги, – ваша матушка довольна своим местопребыванием; это сердечно радует меня. Позаботьтесь, чтобы она никогда не имела недостатка ни в чем. Кронпринц возвратился?
– Нет еще, ваше величество, – отвечал граф Ведель. Его королевское высочество предполагал совершить дальнюю прогулку.
– Имеете сведения о графине? – спросил король. – Скоро она приедет?
– Надеюсь, что скоро, – отвечал граф. – Сегодня утром я получил письмо – графиня предполагает, что вскоре будет в состоянии предпринять путешествие.
– Напишите ей от меня много-много ласковых слов, – сказал король. – Каково в Ганновере? – спросил он потом с глубоко прискорбным выражением лица.
– Скучно, тяжело, – отвечал граф. – Время оказывает на все свое гнетущее влияние, открывает удивительные вещи: из письма профессора Лаллемана я узнал, что…
– Что он пишет? – спросил король поспешно.
– Он просил прусского генерал-губернатора позволить ему отправить на парижскую выставку чудесную картину. Она представляет ваше величество верхом перед фронтом гвардейского полка – исполнение мастерское, все головы поразительно похожи.
– Помню, – сказал король, – что далее?
– Эта картина находится в числе секвестрованных предметов.
Король закусил губы.
– И генерал Фойгтс-Ретц немедленно дал позволение отправить картину на выставку, но получил известие, в котором сказано, что выставлять эту картину весьма опасно, потому что она может возбудить в Париже симпатию к личности и к делу нашего величества.
– Кто же прислал это известие? – спросил король.
– Фон Зеебах, бывший главным секретарем министерства финансов, – так пишут мне, – сказал граф Ведель.
Король долго молчал, потом глубоко вздохнул и улыбнулся печально.
– Более пруссак, чем сами пруссаки! – сказал он тихо. – Неужели в Берлине думают, что такими средствами можно приобрести любовь страны? Что же сделал генерал Фойгтс-Ретц? – спросил он потом.
– Все равно позволил выставить картину, – отвечал граф Ведель.
– Он солдат, – сказал король.
– И я хотел испросить у вашего величества позволения для Лаллемана отправить картину в Париж.
– Конечно, конечно, – отвечал король, – от всего сердца желаю ему успеха и славы. Напишите ему об этом и передайте мой поклон ему и его жене, а я немедленно напишу Медингу, чтобы он поместил картину на хорошее место.
Пришел старый камердинер короля и остановился в нескольких шагах от него.
– Граф Платен и господин Дюринг спрашивают, угодно ли вашему величеству принять их.
– Дюринг! – вскричал король. – Он приехал из Голландии. – Я готов видеть их обоих!
– Могу ли я просить ваше величество сделать распоряжение относительно обеда? – сказал граф Ведель. – Приехали граф и графиня Вальдштейн.
– Граф и графиня Вальдштейн! – вскричал король. – Я буду очень рад видеть их! Пригласите их немедленно, а также Рейшаха, графа Платена и Дюринга. До свиданья, дочка! До свиданья, графиня!
И, помахав им рукой, король быстрыми шагами направился к дому, опираясь на руку фон Геймбруха.
В китайской комнате он нашел графа Платена и капитана Дюринга во флигель-адъютантском мундире.
Осанка у Платена осталась прежняя, но усы и волосы лишились своего блестящего черного цвета, и показавшаяся седина гармонировала с постаревшим и нервно-возбужденным лицом графа.
Король приветствовал обоих глубоко поклонившихся господ и предложил им пройти в его кабинет, который находился рядом с китайской комнатой. Этот кабинет был украшен шотландскими шелковыми обоями, всюду висели живописные масляные картины, содержание которых было заимствовано из романов Вальтера Скотта.
Георг V сел в кресло перед столом, находившемся посредине комнаты, и, расстегнув сюртук, сказал:
– Очень рад, что вы опять здесь, мой дорогой Дюринг; в каком положении нашли вы эмиграцию? Что там делается?
– Согласно приказанию вашего величества, – отвечал капитан Дюринг, проводя рукой по белокурым усам, я поехал через Париж в Арнгейм, где нашел довольно значительное количество солдат и несколько офицеров, эмигрировавших из Ганновера, с целью быть в распоряжении вашего величества. Они предполагали, что из люксембургского дела возникнет в Европе война, и потому поспешили достигнуть нейтральной области, в том предположении, что вашему величеству угодно будет сформировать теперь свою армию.
– К сожалению, теперь ничего нельзя сделать, – сказал король, пожимая плечами. – Кто приказал им поступить так? Я ничего не знаю и сожалею об этой преждевременной эмиграции.
– Ваше величество уполномочило некоторых лиц, – отвечал Дюринг, – по-видимому, эти лица сочли удобным настоящий момент и побудили к эмиграции. В подобные минуты, – прибавил он твердым голосом, – надобно действовать по своему разумению и на свой страх.
– Так так, – сказал король, – я нисколько не упрекаю тех лиц…
– Не дано ли им сигнала из Парижа? – сказал граф Платен. – В начале эмиграции в Париже было двое офицеров.
– Это положительно невозможно, – сказал Дюринг, – я сам был в это время в Париже и видел офицеров – они отправились назад, чтобы задержать эмиграцию, что и удалось им отчасти. Правда, в Голландию прибывают новые персоны.
– Однако, – сказал король, – дело в том, что надобно как-то устроить людей – где им жить?
– Ваше величество, – отвечал Дюринг, – люди эти делятся на три категории: во-первых, настоящие дезертиры, уже вступившие в прусские полки; во-вторых, такие беглецы, которые уже получили приказание явиться для отправления воинской обязанности; наконец, молодые люди, хотя имеющие те лета, в которых обязательна воинская повинность, но еще не получившие приказания явиться. Две первые категории не могут возвратиться, не подвергаясь строгому наказанию; третья же категория, конечно, имеет право возвратиться, но не желает того – она упорно не хочет вступить на прусскую службу и желает быть в распоряжении вашего величества.
– По моему мнению, – сказал граф Платен, – надобно оставить унтер-офицеров и старых солдат, чтобы образовать кадры на тот случай, если ваше величество предпримет попытку защищать свое право вооруженной рукой. – Остальные, по моему мнению, непригодны и обойдутся слишком дорого.
Король задумался.
– Нельзя брать в расчет издержки, пока они фактически возможны, – сказал он. – Сколько было там людей? – спросил он, обращаясь к Дюрингу.
– От четырех сот до пяти сотен, – отвечал последний, – однако при моем отъезде наплыв народа быль еще довольно значителен, так что, приняв возможно скорые меры остановить эмиграцию, надобно рассчитывать на пятьсот-семьсот человек.
– Хорошо, – сказал король, – им надобно выдавать содержание. – Он задумался на минуту и потом продолжал: – Я сперва удивился быстрой и многочисленной эмиграции, которая, быть может, подвергла бедную ганноверскую страну более сильному стеснению. Но чем больше я размышляю, тем яснее вижу, как все это полезно – это демонстрация мнения народа, свидетельство ганноверцев в их привязанности ко мне, а в нынешнее время, когда suffrage universel5757
Всеобщее освобождение (фр.). Здесь: всеобщее признание гражданских прав и свобод.
[Закрыть] стал политическим догматом, эта демонстрация имеет особенную важность. Кроме того, этот отряд дает основание для будущего самостоятельного действия. Однако, – продолжал он, – где жить людям? Могут ли они оставаться в Голландии?
– Я не считаю этого возможным, – сказал Дюринг. – Сообразно своему нейтральному положению, голландское правительство не может допустить, чтобы на прусской границе возникло сборище людей, которое, по своей организации, имеет военный характер. Я был в Гааге и беседовал с голландским министром иностранных дел графом Цуиленом, а также с министром внутренних дел Геемскерком. Оба в целом сочувствовали делу вашего величества и глубоко сожалели об участи Ганновера, обещали также благосклонно принять ганноверских эмигрантов, но оба также определенно сказали мне, что не могут допустить сборища последних на определенном пункте, с определенной организацией, ни по законам страны, ни в силу обязанностей, возлагаемых нейтральностью королевства. До сих пор еще прусское правительство не делало никаких заявлений в этом отношении, но в Голландии сильно желают избежать таких заявлений и, по возможности, устранять всякий повод к ним. Поэтому правительство будет вскоре вынуждено разместить людей, по нескольку человек, в различных местностях королевства. При этом граф Цуилен заметил, что будет очень благодарен, если я избавлю правительство от этой тягостной необходимости, удалив немедленно эмигрантов. То же советовал мне французский посланник Водэн, с которым я также беседовал. Он сильно интересовался людьми и выражал живейшую симпатию к делу вашего величества, однако не имел никакого основания сделать что-нибудь в пользу эмигрантов.
– Куда же девать людей? – спросил король.
– Ваше величество, – отвечал капитан Дюринг, – Швейцария служит убежищем для всех беглецов, – там, где представители крайней демократии всех наций находят безопасность и свободу, там, конечно, найдется место для преданных слуг несчастного короля, если только ваше величество не предпочтет отправить их в Англию, которая также принимает всех беглецов. Осмелюсь заметить, что люди, может быть, охотнее отправятся в Англию, в них живет память о короле немецкого легиона и они считают себя, в некотором роде, преемниками тех легионеров, которые собирались под знаменами Англии в начале нынешнего столетия, в эпоху оккупации Ганновера.
– В Англии содержание людей обойдется дороже, – заметил граф Платен.
– Зато я найду там большую возможность предоставить им работу и обретение средств к существованию. Вашему величеству известна симпатия, которую питают многие круги в Англии, преимущественно круги аристократических дам, к ганноверскому делу, уже с минувшего года лондонский комитет предоставил ганноверским эмигрантам столько работы, что те не требуют почти никакой помощи, и я думаю…
– Нет, – прервал его король, – люди не должны ехать в Англию, – находимая там симпатия есть простое сострадание, и я не могу опереть своего рычага на ту страну, которая питает только сострадание и сожаление ко мне и к родине своих сильных королей. Надобно немедленно отправить людей в Швейцарию. Кто у них командир?
– Капитан Гартвиг, – отвечал Дюринг, – помощником у него фон Чиршниц.
– Дело в надежных руках, – сказал король, – своим открытым, честным характером, Гартвиг будет иметь сильное нравственное влияние на людей, а Чиршниц очень хороший офицер, умный и образованный. Я избрал его в военные воспитатели принца Германа, и Чиршниц превосходно воспитал его. Напишите немедленно, чтобы эмиграция направилась в Швейцарию.
– Мне кажется, что Цюрих – самое лучшее место, – сказал Дюринг.
– Следовательно, в Цюрих! – вскричал король. – Прибыв туда, они должны немедленно уведомить о своем водворении и организации, а главное – избегать даже вида военной организации.
– Они должны оставаться простыми эмигрантами, – сказал граф Платен, – и отношения вашего величества должны ограничиваться только помощью вашим подданным, находящимся в нужде в ссылке. Быть может, было бы лучше образовать в самом Ганновере комитет для вспомоществовали и тем избежать, так сказать, официальных сношений вашего величества с эмигрантами.
– Я не имею причины скрывать своих действий, – сказал король, гордо подняв голову. – Хорошо, – продолжал король, – постарайтесь же устроить такой комитет вспомоществования, – в практическом отношении он, кажется, не будет иметь большого значения, потому что кошелек самый щекотливый пункт моих добрых ганноверцев.
– Через несколько дней, – сказал граф Платен, – будет положено основание: ко дню рождения вашего величества прибудут, как мне писали, очень многие лица, соберутся здесь самые влиятельные личности из ганноверских патриотов, принадлежащие ко всем кругам и сословиям.
– Меня всегда радовало, – сказал король взволнованным голосом, – когда народ принимал искреннее участие в семейных праздниках моего дома, но в Ганновере я имел власть, и, быть может, была материальная причина доказывать свою привязанность, теперь же, – он провел рукой по глазам, – теперь это вдвойне приятно мне, потому что, – он глубоко вздохнул, – я не могу теперь осыпать милостями, и все доказывающие мне свою привязанность подвергаются, может быть, строгому преследованию, теперь я узнаю своих истинных друзей! Итак, вы видели Мединга в Париже, – сказал он Дюрингу, помолчав с минуту, – и говорили с ним о положении дел, какое он имеет мнение о ближайшей будущности?
– Ваше величество, – отвечал Дюринг, – советник был убежден, что в ближайшем будущем, именно на время выставки, мир, без сомнения, будет сохранен, уже во время моего пребывания там он говорил, что люксембургский вопрос не поведет к войне, как только попадет в область дипломатии, и этим он был очень доволен в интересах вашего величества; ибо вопрос этот, доведенный до крайности, имел бы своим последствием или союз Франции с Пруссией, если бы в Берлине предположили держаться исключительной и специфически прусской политики, или же немецкую войну. В том и другом случае надежда восстановить ваши права в той или иной форме была бы на веки потеряна.
Король оперся головой на руку и спросил вполголоса:
– А в будущем?
– Советник Мединг твердо и непоколебимо убежден, – сказал Дюринг, – что война есть только вопрос времени, который можно отложить на год или на два, но война непременно вспыхнет, как неизбежное событие, однако ж…
– Однако что? – спросил король, не поднимая головы.
– Однако, – продолжал Дюринг, – он с сильным опасением ожидает этого события, потому что во Франции преобладают так называемые шовинистские воззрения, и при первом предлоге к войне поднимется крик о завоевании Рейна и отуманит умы. Тогда всякое действие вашего величества будет затруднительно, даже невозможно, и самый мир с Пруссией едва ли станет возможным.
– А император? – спросил король, не изменяя позы.
– Император Наполеон, – отвечал Дюринг, – не питает лично этих шовинистских воззрений и желания завоевывать области у Германии, но устоит ли он против национального стремления? Советник Мединг, – продолжал он, – придает поэтому особенную важность независимости положения вашего величества, во всех отношениях – как в отношении Франции, так и Австрии, чтобы во всякое время ваше величество могли свободно действовать. По его мнению, которое он просил меня изложить вашему величеству, главная задача нашей политики состоит в том, чтобы бороться во Франции с шовинизмом и желанием воевать Германию, затем он придает особенную важность тому, чтобы ваше величество вошли как можно скорее в тесные сношения с главными предводителями тех германских партий, которые служат представительницами принципа автономической свободы и самоуправления, чтобы ваше величество собрали около себя эти партии, организовали и руководили ими, дабы, когда настанет момент действовать, вы были окружены большей и влиятельнейшей частью немецкой нации и написали бы на своем знамени те принципы, которые дороги и священны для немецкого народа. Для него также важно быть в Париже представителем одной только легитимности, к которой там, как и вообще везде, мало питают уважения.
– Советник Мединг, – сказал граф Платен с улыбкой, – впадает несколько в воззрения маркиза Поза5858
Имеется в виду персонаж поэмы Ф. Шиллера «Дон Карлос».
[Закрыть], – я вижу много теории и желал бы иметь более сильную практическую поддержку от венского и парижского кабинетов.
– Мне кажется, – сказал Дюринг с живостью, – этой поддержки никогда не получит простое легитимное право: когда же влиятельная часть немецкой нации сгруппируется около его величества, тогда наш всемилостивейший государь станет силой, важной для союза и могущей заключить мир, смотря по обстоятельствам.
Граф Платен с незаметной улыбкой сложил руки и пытливо посмотрел на короля.
Георг V сидел молча, опершись головой на руку.
Наконец он поднял голову и сказал твердым голосом:
– Да, я должен быть вполне самостоятелен! Германия не может служить искуплением за восстановление моего права; мы еще поговорим об этом, когда возвратится Мединг, но необходимо подготовить все для самостоятельного действия во всех отношениях, равно как и в военном. Вы, дорогой Дюринг, – продолжал он, – слишком близки ко мне, чтобы непосредственно руководить организацией эмиграции, которая не должна иметь публичного военного характера; поэтому я решился послать вас в Париж; оттуда вам удобно и легко сноситься со Швейцарией и вести организацию. О прочей подготовке вы представите мне свои соображения. В то же время вы должны присматриваться в Париже к военным условиям – это весьма важно для суждения о положении и не трудно для вас, так как вы три года прослужили во французской армии и потому имеете подробные сведения об ее строе.









































