Текст книги "Европейские мины и контрмины"
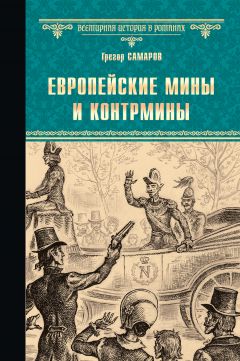
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 46 страниц)
Глава четырнадцатая
Посреди узкого переулка, во внутренней, самой древней, части города Ганновера, стоит так называемый «Бальхоф», старинная гостиница с большим двором. В давно прошедшие дни лучшее общество города и окрестностей давало здесь свои балы, и еще теперь украшения большого зала хранили следы прежнего блеска. Но давно уже свет забросил и эту древнюю гостиницу, и тесную старинную часть города; большой зал, в котором некогда расхаживал кембриджский герцог с изящнейшим обществом своего двора и в котором ганноверский свет подражал знаменитым альмакам3333
Альмаки – балы, устраивавшиеся в Лондоне по подписке.
[Закрыть], служил теперь местом удовольствий для мелкого бюргерства, а в боковых комнатах, в которых стаивали прежде игорные столы министров и вельмож, заваленные кучами золота, собирались теперь честные ремесленники за кружкой зайдельского пива или за бутылкой сен-жюльенского вина, рассуждая о событиях промышленной или политической жизни.
В то время посетители часто посещали эту гостиницу. Поразительные по своей быстроте события, которые перевернули прежний порядок; новые условия, так мало применимые к старым привычкам; удивительная, неслыханная скорость и прозорливость нового правительства, с которым нельзя было вести себя, как в былое время, – все это побуждало бюргеров собраться, чтобы обменяться мыслями и отвести душу в тихом, привычном кружке.
Сюда сходились только приверженцы старины; всякий, заподозренный в благоприязни к новым условиям или в сношениях с пруссаками, немедленно отчуждался, подвергаясь презрительным взглядам и ядовитым замечаниям, и, если головы разгорячались, подлежал изгнанию из гостиницы, что подкреплялось активными мерами.
В тот самый вечер, когда арестовали фон Венденштейна и когда фон Чиршниц ускользнул из рук полиции в «Бальхофе», собралось многочисленное общество. Арест молодого офицера стал известен, роились догадки и предположения об этом случае, которого еще не могли объяснить себе, но который пробудил во всех предчувствие близкой грозы, из коей уже грянул гром и, быть может, грянет сию минуту во второй раз.
У одного из столов вокруг старого придворного седельника Конрадеса, старика с суровым, морщинистым лицом, расположилось несколько бюргеров; громко и часто ударяя по столу своей жесткой рукой, он выражал свое неудовольствие новым положением дел:
– Гром и молния! – вскричал он, захлопывая крышку своей кружки. – Если был бы жив старый Эрнст-Август, какую бы физиономию он скроил, вздумай пруссаки отнять у него страну! Тогда, конечно, было иначе – в Берлине не рискнули бы связаться с ним: императорские и королевские дворы питали к нему уважение, да и тут не наделали бы всех тех глупостей, от которых мы погибли.
– Но когда возвратится король, – сказал токарь Шпат, маленький приземистый мужчина, голова которого вдалась в плечи и еще больше пряталась в высокий воротник, – когда возвратится король, мы покажем всем дрянным ганноверцам, которые бегут теперь к пруссакам, – провозгласил он, сердито стискивая зубами конец длинной трубки с шелковыми кистями. – Мы покажем им себя!
И чтобы успокоиться от сильного волнения, в которое привела его мысль о будущем мщении плохим патриотам, наказание коих, судя по выражению его лица, должно быть жестокое и варварское, он сделал большой глоток и выпустил такой столб табачного дыма, что из-за него не стало видно его маленьких глаз, горевших гневом.
– Когда возвратится король! – сказал старый Конрадес медленно и задумчиво, опираясь морщинистым лбом на жилистую, загоревшую руку и печально поднимая серые глаза на прежнего цехового старшину. – Вы знаете, Шпат, как я привязан к старому Ганноверу. Мне больно, что я не умер, прежде чем настали новые времена. Но говорю вам, что все ваши слова, действия и волнение не приведут ни к чему – король не возвратится!
– Король не возвратится?! – вскричал звонким голосом, полным удивления и неудовольствия, небольшой худощавый и бледный человек с красивым, живым лицом и светло-русыми волосами и бородой. – А я говорю вам, что король возвратится, и очень скоро – все приготовлено для этого. Вы все не выходите из своего тесного кружка, ничего не видите и не слышите, а я был в Гитцинге, заглянул в политику, так сказать. Конечно, я не могу всего говорить, но… – продолжал он со значительным видом, выпрямляясь на своем стуле, – вы можете мне поверить, но король скоро вернется, его величество сам сказал мне это.
– Лозе, – грубо оборвал его старый Конрадес, – вы, может, и хороший музыкант и вы называете себя даже директором музыки, потому что заправляете обществом певцов, но в политике ничего не смыслите.
Директор музыки Лозе с яростью взглянул на седельника, у него уже вертелся на языке резкий ответ, но он удержался, потому что было не совсем хорошо связываться со стариком Конрадесом, который никогда за словом в карман не лез; притом же Конрадес принадлежал к числу самых влиятельных бюргеров и пользовался уважением. Поэтому Лозе удовольствовался тем, что пожал плечами с презрительным и таинственно-значительным видом.
– Да, – сказал Конрадес, наклоняясь несколько над столом и махнув правой рукой, – да, все это было бы хорошо и могло уже случиться, но нет для этого сил. Король Георг не похож на своего отца – он и вправду умеет приказывать, но не умеет владычествовать. Не умеет хотеть, хотеть так, как старый Эрнст-Август. Все это я предвидел, – продолжал старик, оживляясь и не заботясь о том, слушают ли его, разделяют ли его мнение. – Все это я предвидел с самого начала нового правления, – в его глазах за прошедшие пятнадцать лет правление Георга V так и осталось новым, – все то было одно метание туда-сюда, один министр сменял другого и действовал как враг предыдущего, а писцы в министерствах рассуждали, придворные злословили и распускали одну молву за другой, и не было ни порядка, ни дисциплины. Ибо что делал король? Когда кто насолит ему, он поворачивался к нему спиной и запрещал являться ко двору; ну, тот уходил и злословил, – и вся страна, да и вы все, – сказал Конрадес громко, ударив кулаком по столу, – кричали и сожалели о бедняжке, с которым так несправедливо поступили. Во времена Эрнста-Августа бывало иначе – если кто-нибудь, хотя бы самый знатный и вельможный, сделает или скажет что-нибудь нехорошее, тогда государь призывал его и выговаривал жестоко, – да ведь вы не знаете, каков он бывал! – ну, тот уходил и помнил, как нужно себя вести, и, разумеется, долго не делал того, чего не следует. Так бывало и с другими придворными: все помнили, каково иметь дело со стариком, и такие вещи, какие происходили в прошлом году, не могли случиться. – Да-да, – продолжал он со вздохом, – старик – вот был государь, о котором они говорили по-английски – ведь в мое время все должны были знать по-английски, – every inch a king, то есть «король до мозга костей», и это была сущая правда. А теперешний король, у которого, правда, есть и ум, и гордость, и мужество, не имеет силы воли.
И он отпил большой глоток из своего стакана.
– Потому-то и говорю вам, – продолжал Конрадес, захлопывая крышку, – ничего не будет из всего того, что делают, все будут запрягать пару лошадей спереди и пару сзади и постоянно будут ссориться между собой, и вся история окончится прескверно. Зачем сидит король, – рявкнул он, – у этих австрийцев, которые так дурно поступили с ним и которые никогда не поставят его опять на ноги? Почему не едет в Англию, где настоящее для него место? Да, – сказал он с печальным вздохом, – мне все равно, я уже стою в могиле одной ногой, скоро умру и повернусь затылком к новому времени. Вот и хорошо. Прощайте!
Он встал, взял свою шляпу и молча вышел.
– Старик ничего не смыслит, – сказал директор музыки Лозе, когда седельник ушел. – Нельзя судить, сидя здесь: нужно знать нити, – прибавил он с таинственным видом. – А их не всякий знает! Король не возвратится? Да его величество сам говорил мне, что решил вернуться.
– Сам король? – спросил старый Шпат, между тем как другие бюргеры сдвинулись и с ожиданьем поглядывали на директора музыки.
– Да, сам, – отвечал последний важным тоном. – «Лозе, – сказал мне его величество, – будьте покойны, я не буду знать ни отдыха, ни покоя, ни дня, ни ночи, ни холода, пока не возвращусь в Ганновер, к своему беспримерно верному народу, и я непременно возвращусь!»
– Он так и сказал: «к беспримерно верному народу»? – спросил Шпат.
– Да-да, – закричали многие бюргеры, – ганноверцы беспримерно верны, не то что другие! Теперь если где-нибудь король утратит престол, там ликуют и подданные сразу ищут себе нового господина. Нет, мы покажем, что не чета им!
– Как попали вы в Гитцинг, Лозе? – спросил цеховой старшина Шпат.
Директор музыки поспешно уселся на стуле, радуясь, что нашел повод к рассказу, и стал говорить своим внимательным слушателям:
– Вы знаете, Шпат, и вы все, что я президент музыкального общества «Георгс-Мариен-Ферейн», которое помещается здесь. Мы составили новый устав и меня отправили просить его величество, чтобы он принял «Ферейн» под свое покровительство.
– И король согласился? – спросило несколько голосов.
– Конечно, – сказал Лозе с гордостью, – немедленно согласился… Ну да и как приняли меня! Король тотчас же оставил меня обедать.
– Обедать? За королевским столом? – вскричали все.
– Разумеется, я обедал вместе с королем, принцессами, кронпринцем и со всеми вельможами. На мне была большая белая перевязь, и все иностранные господа: австрийские генералы, фон Рейшах, австрийский адъютант при короле и другие – все спрашивали, кто я такой, и тогда его величество сказал: «Это директор музыки Лозе, президент Георгс-Мариен-Ферейна в Ганновере»!
Все посмотрели на него с некоторым почтением, вокруг стола пронесся шепот.
– И королевская свита, – рассказывал дальше директор музыки, – все отличные, милые люди, – граф Ведель, вам известный, советник Мединг и граф Платен, не министр, а его племянник, граф Георг, два отличнейших человека; они ездили со мной в Вену, в Карлтеатр. Я сидел впереди в ложе, и они все объясняли мне: там была тогда знаменитая Гальмейер, играла образованную кухарку – преотменная актриса и очень хорошая ганноверка, как говорят там. Музыка превосходная, особенно в антрактах. Мне очень понравилась одна скрипка – я знаток и тотчас отличил ее и немало аплодировал скрипачу. Весь театр стал смотреть на меня. «Какого дьявола? – спросил меня граф Платен, – продолжал Лозе, все больше и больше увлекаясь своим рассказом, – какого дьявола вы аплодируете в антракте?» – «Господин граф, – сказал я, – я понимаю толк – там есть скрипач, отлично играет, и стоит ему похлопать!» А советник Мединг посмотрел на меня с удивленьем да и говорит: «Лозе, вы отличный парень, я хочу иметь вашу фотографию». Ну, я и дал ему свою фотографическую карточку, – сказал он, берясь за стакан. – И все господа дали мне свои карточки.
Он сделал большой глоток.
– Да, а на другой день его величество позвал меня одного, – продолжал Лозе, ставя кружку на стол. – Я пробыл у его величества почти два часа. О чем говорилось тогда, – сказал он с достоинством, – того, разумеется, я не смею рассказывать, но его величество сказал мне, что возвратится. И я повторяю вам: он приедет, и это так же истинно, как то, что я Лозе!
Он обвел всех гордым взглядом, все шепотом сообщали друг другу замечания, многие просили принять их в «Георгс-Мариен-Ферейн», небольшой общественный союз мелких бюргеров, приобретший, однако, важное значение с тех пор, как король сталь покровителем, а президент обедал в Гитцинге за королевским столом. Если король возвратится, а в это твердо верили все эти добрые бюргеры, то Лозе станет важным и влиятельным лицом и, следовательно, есть очевидная польза сделаться членом Ферейна.
Быстро вошел купец Зоннтаг, бледнолицый человек с живыми черными глазами; он поговорил кое с кем из бюргеров, подмигнул высокому белокурому стройному мужчине, который играл с Эберсом, хозяином «Бальхофа», за отдельным столиком и пил пунш. Потом Зоннтаг медленно вошел в боковую комнату, из которой пробрался в жилые комнаты хозяина.
Вскоре за ним последовали Эберс, низенький мужчина с румяным свежим лицом, и ветеринар Гирше, его партнер по игре.
Хозяин осторожно запер дверь.
– Знаете ли, – вскричал Зоннтаг сдержанным голосом, – знаете ли, что вся прусская полиция поднята на ноги? Что установлено наблюдение за всеми офицерами? Что лейтенант фон Венденштейн арестован?
– Венденштейн? – удивился ветеринар Гирше. – Они арестовали не того, кого следует, и должны отпустить – это ничего не значит!
– Много значит, – возразил Зоннтаг. – Венденштейн держал у себя различные бумаги, их нашли. – Разумеется, Венденштейн не говорит, кому они принадлежат, и за это-то его и не выпускают.
– Плохо, очень плохо, – сказал Гирше, печально опуская голову.
– Плохо! – вскричал Зоннтаг. – Я только один знаю, как плохо. – Но нужно поправить беду – Венденштейн должен бежать!
– Бежать? – в изумлении вскричал Гирше. – Бежать из полицейского здания, охраняемого, как крепость, прусскими солдатами? Вы с ума сошли!
Зоннтаг улыбнулся.
– Выслушайте меня, – сказал он, – у меня есть готовый план, нужно только исполнить его!
– Да, исполнить! – сказал ветеринар Гирше, хмыкнув. – В этом-то и загвоздка!
– Необходимы три вещи, – продолжал Зоннтаг, привлекая к себе обоих собеседников. Во-первых, деньги – об этом позабочусь я; во-вторых, лошадь, хорошая быстрая лошадь, это ваше дело, Гирше.
– Но как достать ее? – спросил последний.
– Я скажу, как сделать – очень просто, – продолжал Зоннтаг. – В-третьих, и это самое трудное, нужно отпереть тюрьму и вывести лейтенанта на улицу.
Эберс улыбнулся.
– Это можно сделать, – сказал он.
– Так и уговоримся, – сказал Зоннтаг. – Я подожду здесь, а вы приходите, как только разойдутся гости; хотя они все хорошие патриоты, но о таких вещах не должны знать те, которые в них не участвуют.
Эберс и Гирше возвратились по одиночке в общий зал; через час разошлись последние гости, хозяин проводил их, громко пожелал спокойной ночи и с шумом запер дверь; огни в «Бальхофе» погасли, прислуга легла спать.
Но в комнате хозяина, при тусклом свете маленькой лампы, сидели до утра три человека, решившие освободить лейтенанта фон Венденштейна из тюрьмы.
* * *
На следующий день, около полудня, госпожа фон Венденштейн сидела в своей комнате с дочерями и Еленой. Оберамтманн ушел разузнать, в чем обвиняется его сын, и постараться освободить его. Старая дама была печальна и молчалива. Ей сказали, что арест сына произошел вследствие недоразумения; это успокоило ее, но тем не менее ее душа была сильно потрясена внезапным жестоким нарушением тихой жизни и посягательством на надежды, исполнения которых она ожидала в близком будущем.
Елена была бледна и казалась спокойной. Она ободряла старую даму и много раз пробовала делать с улыбкой веселые замечания в ожидании скорого возвращения жениха, но лихорадочный блеск ее глаз, невольное дрожание губ, частые попытки сорваться с места, как бы с целью отыскать что-нибудь, ясно говорили, что ее внешнее спокойствие есть только результат силы воли, при помощи которой девушка старалась подавить тоскливое беспокойство сердца.
Вошел слуга и доложил о приезде генерала фон Кнезебека.
Вошел прежний ганноверский посол при венском дворе, в простом штатском платье. Рослая фигура его по-прежнему была сильна и крепка, но на тонком выразительном лице отпечатались следы последнего года, богатого событиями. Грустно и задумчиво смотрели его черные ясные глаза.
Он поклонился дамам, с рыцарской вежливостью поцеловал руку госпоже фон Венденштейн и сел рядом с ней.
– Я приехал, – сказал он, – выразить свое искреннее сожаление о несчастном случае, поразившем ваше семейство. К величайшей своей радости, я слышу от всех знакомых, что ваш сын никоим образом не скомпрометирован и что, следовательно, все ограничится кратковременным арестом.
– Дай бог! – сказала госпожа фон Венденштейн со вздохом. – О, какие времена, дорогой генерал, – продолжала она с навернувшимися на глаза слезами, – кто бы мог предвидеть это год тому назад, когда мы так спокойно жили в нашем старом блеховском доме. – Для вас менее чувствительно это нарушение домашней тишины – дипломаты привыкли вести жизнь перелетных птиц и считать свой дом только за перепутье, за станцию на жизненном пути.
– Если бы только это, – сказал генерал, – то, конечно, можно бы было легко обойтись, хотя человеческая природа, несмотря на непостоянную нашу жизнь, цепляется тысячью привычек к обыденной жизни и с болью отрывается от нее. Но здесь идет речь о большем: погибло безвозвратно прекрасное и честное прошлое!
– Многие надеются на восстановление королевства, – заметила госпожа фон Венденштейн, – и утешают себя историей первых лет нынешнего столетия.
– Я знаю об этом, – отвечал генерал, – но они ошибаются, – прибавил он грустно и угрюмо. – В ту пору национальная преданность немецкого народа восстановила самостоятельность Ганновера, теперь же иное дело: Ганновер принесен в жертву идее национального единства, и только великие, обширные соображения, твердые и благоразумные действия могли бы возвратить гвельфскому дому его значение, а при благоприятных условиях и трон, но, к сожалению, мы от этого слишком далеки. С его губ сорвался вздох. – Ограничиваются мелкой агитацией, которая многих сделает несчастными. Я слышал, что в настоящую минуту агитация эта особенно сильна и опасна, поэтому приняты строгие меры – как грустно, что все эти молодые люди увлеклись чувством, в сущности, столь благородным и честным, но со временем им предстоит горько раскаяться…
Он вдруг умолк.
– А вы, генерал, останетесь здесь? – спросила госпожа фон Венденштейн.
– Я думаю удалиться в какой-нибудь маленький городок, – отвечал тот, – и вдали от всяких сношений со светом и политикой спокойно доживать свой век среди домашних занятой и воспоминаний, которые, к сожалению, завершаются грустным концом.
Взгляд старой дамы с участием скользнул по взволнованному лицу генерала.
– Гитцинг не произвел на вас приятного впечатления? – спросила она кротко.
Глаза фон Кнезебека загорелись гневом.
– Я не хотел бы и вспоминать об этом, – сказал он сдержанным тоном, – я делал все для короля, не знал ни препятствий, ни усталости, и вот уволен в отставку как лишний. Впрочем, – продолжал он с глубоким вздохом, – я не виню бедного короля, он окружен наушниками всякого рода, притом убежден в своем превосходстве, но все это поведет к печальному концу. Однако все эти предметы слишком печальны, чтобы говорить о них. Для меня прошлое погибло, мой взгляд с надеждой устремляется на великую будущность Германии; мне не придется работать над дивным, чудным зданием грядущих дней, но я посвящу ему все свои желания.
Вошел слуга с пакетом и приблизился к Елене.
– Купец Зоннтаг прислал вещи, которые вам угодно было видеть, – сказал он. – Вот прейскурант.
Слуга подал Елене пакет и запечатанное письмо.
– Покупки для будущего хозяйства, – сказал фон Кнезебек с улыбкой.
– Не понимаю, – проговорила Елена, с удивлением глядя на письмо, – не припомню, чтобы я заказывала что-нибудь Зоннтагу.
И невольно распечатала конверт. Едва только взглянула она на его содержание, как лицо ее покрылось ярким румянцем, который через секунду сменился смертельной бледностью. Она судорожно схватилась за спинку стула и, силой воли принудив себя улыбнуться спокойно, сказала госпоже фон Венденштейн:
– Я и позабыла, что недавно хотела посмотреть рабочие корзинки – Зоннтаг прислал мне целый выбор.
– Велите поблагодарить Зоннтага, – сказала она слуге, – я пришлю или сама верну те вещи, которые не понравятся мне.
Генерал Кнезебек простился, выразив еще раз желание, чтобы недоразумение с арестом лейтенанта поскорее разъяснилось.
– Что тебе прислали? – спросила госпожа фон Венденштейн.
– Несколько рабочих корзинок – я как-то высказала желание иметь такую корзинку, и Зоннтаг был так внимателен, что прислал целый выбор.
Она развязала пакет, и дамы поверхностно осмотрели корзины.
Вскоре затем госпожа фон Венденштейн ушла с дочерями одеться для прогулки; Елена последовала за ними, направляясь в свою комнату.
Едва рассталась она с дамами, как поспешила назад и пошла в другой конец коридора, где находилась комната оберамтманна. В передней сидел старый слуга.
– Господин оберамтманн уже возвратился? – спросила она равнодушно.
– Только что пришел, – отвечал старый Иоганн, вставая с поспешностью.
– Спросите его, могу ли я войти – мне хотелось бы поскорее узнать, что нового он принес?
Слуга поспешил исполнить желание молодой невесты, вошел в комнату своего господина и через минуту отворил дверь для молодой девушки.
Оберамтманн положил шляпу и трость и, не снимая пальто, медленно и задумчиво расхаживал по комнате, заложив руки за спину и прихрамывая на подагрическую ногу.
При виде молодой девушки лицо его прояснилось; он с искренней, но печальной улыбкой пошел ей навстречу и сказал:
– Что скажет моя невестушка? Сердце не совсем на месте. Я расскажу, что слышал, только…
– Папа, – прервала его Елена, на лице которой выразились живейшее беспокойство и озабоченность. – Папа, дело Карла плохо!
Оберамтманн печально взглянул на молодую девушку, которая едва удерживалась от слез.
– Ну, все, без сомнения, окончится хорошо, – сказал он спокойно, – потому что, в сущности, нет никаких явных улик против него. Но откуда ты…
– Нет-нет! – вскричала Елена с живостью. – Все кончится ужасно! – Карл в серьезной опасности, нужно спасти его! Вот какое письмо я получила!
Она вынула записку, приложенную к посылке Зоннтага, и подала оберамтманну.
Записка была написана в виде счета, отдельными строчками. В заголовке стояло большими буквами: «Не обнаруживайте никакого беспокойства, если вам придется читать эти строки в присутствии других!»
Оберамтманн читал дальше:
«Дело лейтенанта фон Венденштейна очень плохо. У него нашли компрометирующие бумаги, за которые он будет отвечать, если не пожелает стать доносчиком. Его строго накажут для примера. Друзья решились освободить его во что бы то ни стало. Переговорите с его отцом, но скройте от прочих и как можно скорее доставьте вместе с посылаемыми корзинками побольше денег золотой монетой».
Прочитав записку, оберамтманн стал грустен и задумчив.
Елена смотрела на него тоскливо.
– Своим побегом он подтвердит виновность; если побег не удастся, положение станет еще хуже, – сказал оберамтманн задумчиво.
– Но боже мой! – вскричала Елена. – Если он останется и долго пробудет в этой ужасной тюрьме, а ведь здоровье его еще не поправилось после ран! Если они его осудят – о, и подумать страшно! Прошу вас! – вскричала она с мольбой. – Позвольте ему бежать!
– Когда бы это было верно! – сказал оберамтманн почти про себя. – Однако если и удастся побег, то он долго, а может быть, никогда не возвратится на родину. Подумала ли ты об этом, дитя мое?
– Я ни о чем не думаю! – вскричала Елена с живостью. – Как только о том, что он в опасности, в большой опасности и что есть средство спасти его! О, хотя бы мне пришлось расстаться с ним на целые годы, он должен бежать. Я буду несравненно спокойнее, зная, что он свободен вдали, нежели видя, как он с каждым днем умирает здесь с тоски!
– Правда, – сказал оберамтманн, – его мать также будет страдать. – Притом неудавшийся побег только временно ухудшит его положение и не может сам по себе служить поводом к осуждению; если же удастся – ну что же, везде можно жить.
Он с кроткой улыбкой повернулся к Елене.
– Попробуем, – сказал оберамтманн. – Через час надо отправить твои корзинки, но ни слова моей жене и дочерям – они узнают, когда побег удастся, – прошептал он, поднимая палец.
– Благодарю, благодарю! – вскричала Елена, целуя руку старику. – Я принесу сюда корзинки и потом сама отнесу их к Зоннтагу.
* * *
Пока это происходило в доме оберамтманна, ветеринар Гирше медленно и спокойно прошел Фридрихсвалль и вступил в большой красивый дом. На дверях нижнего этажа с правой стороны находилась дощечка с надписью: «барон фон Эшенберг».
Гирше позвонил у этой двери.
Вышел рейткнехт3434
Конюх в Германии.
[Закрыть].
– Господин барон дома? – спросил его Гирше равнодушным тоном. – Я хотел бы взглянуть на лошадей.
Рейткнехт возвратился через несколько минут и ввел ветеринара в комнату своего господина. Барон, прежний офицер ганноверской гвардии, молодой человек с тонкими черными усами и красивым лицом, лежал на софе и, с выраженьем скуки, пускал сигарный дым к потолку.
– Добрый день, дорогой Гирше! – сказал молодой человек, приподнимаясь и протягивая ветеринару руку. – Что поделываете в эти печальные времена? Я умираю от скуки и, – прибавил он, сжимая сигару зубами, – от злости. Отвратительное положение быть осужденным на безделье! Садитесь, закуривайте и рассказывайте мне что-нибудь, а лошади мои здоровы, как рыба!
Ветеринар сел около молодого человека в американскую качалку и сказал грустно:
– Скуку я мог бы еще разогнать, но со злобой нельзя справиться, она неизлечима в настоящее время.
Молодой человек приподнялся, опираясь на локоть, и сказал:
– Что вам? Вы как будто хотите сказать мне что-то?
– Да, – отвечал Гирше, – и прямо перейду к делу, потому что времени мало. – Вы знаете, полиция поставлена на ноги, узнали о различных планах, за всеми вами присматривают…
Молодой человек рассмеялся.
– Это не новость, – сказал он, небрежно указывая рукой на окно. – Держу пари, что там на улице стоит такой же почетный страж, который не спускает глаз с моего дома и, когда я выхожу, следует за мной по пятам. Бедного Венденштейна они схватили, но ему ничего не сделают.
– Ошибаетесь, барон, – сказал Гирше. – С ним может случиться что угодно, потому что у него нашли бумаги фон Чиршница, который, к счастью, уехал, и фон Венденштейну придется одному расхлебывать кашу.
– Черт возьми! – вскричал молодой человек, вскакивая. – Это неприятно!
– Более чем неприятно, – сказал Гирше, – но не следует оставлять этого дела без внимания: наш долг – спасти лейтенанта фон Венденштейна.
– Каким образом? – спросил с живостью фон Эшенберг.
– Каким образом? – сказал Гирше. – Это могут знать только исполнители, прочие же должны оставаться непричастными. Господин барон, – продолжил он после краткого молчания, – у вас самая лучшая лошадь в Ганновере, быстрая, как ветер, и не знающая усталости.
– Гамлет, – сказал молодой человек, – да, это великолепная лошадь, она…
– Дадите ли вы мне коня, чтобы спасти лейтенанта фон Венденштейна? – спросил Гирше. – Но возвратится ли он к вам, этого я не знаю.
– Можно ли спрашивать об этом! – вскричал молодой человек. – Возьмите Гамлета, но… – прибавил он, погрустнев, – нельзя ли поберечь его? Это такое хорошее, верное животное.
– Без сомнения, фон Венденштейн не пожертвует им без причины, – сказал ветеринар. – Но в таком деле нечего дорожить лошадью, и наконец, спасение фон Венденштейна стоит тысячи луидоров.
– О, дело не в этом! – возразил с живостью фон Эшенберг. – Но вы знаете, лошадь для кавалериста не животное, а друг. Берите Гамлета.
– Пойдемте в конюшню, – сказал ветеринар. – И не противоречьте мне ни в чем!
Фон Эшенберг перешел двор. Ветеринар следовал за ним.
У конюшни стоял рейткнехт. Все подошли к четырем лошадям барона, выхоленным и вычищенным.
– Посмотрите, все ли в порядке, – сказал молодой человек равнодушно ветеринару, который внимательно смотрел на красивых животных.
– Господин Гирше ничего не найдет, – сказал гордо рейткнехт, – они все хороши и совершенно здоровы.
Ветеринар по очереди осматривал лошадей и выражал свое одобрение кивком головы.
Он подошел к последней лошади, над стойлом которой была надпись: «Гамлет».
Гирше ласково похлопал коня по шее и провел рукой по его ногам.
Несколько раз он внимательно ощупывал левую переднюю ногу и покачивал головой.
– Ну разве не все хорошо? – спросил барон.
– Не все, – отвечал ветеринар, – есть небольшое затвердение, которое не совсем нравится мне. У другой лошади я не обратил бы на это внимания, но у такого животного кровь гораздо нежнее.
– Что же это такое? – спросил барон.
– Вчера Гамлет шел очень хорошо, – сказал рейткнехт, заботливо смотря на лошадь.
– Теперь это не имеет еще никакого значения, – сказал ветеринар, продолжая ощупывать ногу у лошади, – но может принять дурной оборот. – Надобно следить. Я бы посоветовал барону поставить ко мне лошадь на несколько дней, чтобы я мог постоянно наблюдать за нею.
– Если вы считаете это нужным, – сказал барон, – то пожалуйста, позаботьтесь…
– Вы знаете меня и можете положиться! – сказал Гирше спокойно. – Гораздо лучше быть осторожным, чем лишиться, по своей беззаботности, такого великолепного коня.
– Хорошо, я велю привести его к вам, – сказал барон.
– Я лучше возьму его сам, – возразил Гирше, – и дорогой понаблюдаю, как он идет.
– Хорошо. Иоганн, оседлай Гамлета!
– Но сперва, для предосторожности, я наложу компресс на это место, – сказал ветеринар и принесенным бинтом перевязал ногу лошади выше бабок.
Через несколько минут лошадь была оседлана, ворота отворились, Гирше сел на лошадь.
Барон похлопал животное по шее и приложил свое лицо к его голове.
– Позаботьтесь о нем, – сказал он и грустно прибавил:
– До свиданья, мой добрый Гамлет!
Гирше выехал. Тугой, непривычный компресс оказывал свое действие – лошадь прихрамывала.
Напротив дома медленно прохаживался человек в простом штатском платье. Он внимательно стал присматриваться, когда отворились ворота, но, увидев известного всем ветеринара на перевязанной, хромающей лошади, повернулся и спокойно продолжил свою прогулку.
* * *
Через несколько часов карета оберамтманна фон Венденштейна остановилась у лавки купца Зоннтага. Из кареты вышла госпожа фон Венденштейн с дочерями и Еленой. Навстречу дамам поспешили Зоннтаг и его молодая, красивая и ловкая жена. Елена держала пакет, полученный ею в то утро.
– Фрейлейн Бергер привезла вам обратно рабочие корзины, – сказала госпожа фон Венденштейн. – Ни одна не понравилась ей. Мне нужны некоторые вещи, – прибавила она, развертывая бумажку, на которой были записаны необходимые ей покупки.
– Что угодно? – спросила Зоннтаг, подводя госпожу фон Венденштейн к прилавку и подавая ей стул.
– Очень жаль, – говорил между тем Зоннтаг Елене, – что вам не понравилась ни одна из присланных мною вещей, но, быть может, я найду в кладовой, если вам угодно будет пройти туда на минуту.
Он взял привезенный Еленой пакет и прошел в кладовую за магазином, в которой хранился на полках разный товар – дверь в магазин осталась отворена, так что оттуда можно было видеть всю кладовую.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































