Текст книги "Европейские мины и контрмины"
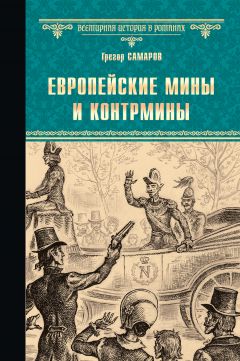
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 45 (всего у книги 46 страниц)
Маркиза посмотрела на него с некоторым удивлением.
– Не хотите ли переждать, пока все разъедутся? – спросила она.
– У меня мало времени, – возразил он, – притом нет ничего важного сообщить вам. Рости останется здесь и передаст вам подробную инструкцию Надеюсь, вы станете зорко и точно наблюдать за всем происходящим и сообщать мне свои наблюдения; чем подробнее и точнее будут они, тем выше будет оказываемая вами услуга. Вам дадут особые поручения. Главное же, берегитесь, – продолжал он, бросив на нее мрачный и грозный взгляд. – берегитесь идти собственной дорогой и быть самостоятельной. При первом ложном или двусмысленном шаге я уничтожу вас, даже если сам буду находиться на краю света.
Маркиза опустила глаза.
– Вы по-прежнему можете полагаться на меня, – сказала она покорным тоном, слегка опуская голову.
– Я хочу, – продолжал граф, – чтобы о моем отъезде стало известен не ранее как через несколько дней – вы скажете тогда, что внезапное семейное событие потребовало моего присутствия для окончания весьма важного дела.
Она утвердительно кивнула головой.
– Но еще многого не достает мне, чтобы собирать точные сведения, – сказала она потом, – у меня бывают только мужчины, принадлежащие, правда, к лучшему обществу, но нет знакомых дам – мужчины ездят для того только, чтобы любезничать…
– Будьте покойны, – сказал граф, – я уже позаботился об этом. Вас представят императрице и пригласят в Тюильри, там заведете вы женский круг знакомства. Аббат Рости сообщит вам подробности, нунций устроит случай представиться, императрица примет вас ласково.
Гордая радость блеснула в глазах маркизы.
– Еще раз повторяю, берегитесь от ложных шагов и самостоятельных действий, и теперь ни слова больше, – сказал граф тихо. – О! – продолжал он громко и весело. – Вот так редкость, уже давно я не видел вас, где вы пропадаете? Наш молодой друг, кажется, возымел сильную склонность к уединению…
И он протянул руку фон Грабенову, который только что приехал и подходил к хозяйке дома.
Молодой человек был бледен и печален. Вся веселая, кипучая жизнь, когда-то видневшаяся в его глазах, пропала бесследно; ясные, светлые глаза отенялись синими кругами и смотрели неприветливо, точно отыскивая и спрашивая что-то.
Фон Грабенов обменялся с маркизой обычными формулами вежливости, но легко было заметить, что его душа не принимала никакого участия в этом разговоре – замечания маркизы оставались без ответа.
Маркиза посмотрела на него с некоторым удивлением и потом обратилась с шутливым замечанием к стоявшему вблизи герцогу Гамильтону.
Граф Риверо с глубоким участием смотрел на молодого пруссака; он взял его за руку и медленно провел в уголок салона, куда не достигал говор общества и где можно было вести дружескую беседу.
– Что с вами, мой друг? – спросил граф тем задушевным тоном, какой он иногда употреблял в разговоре. – Вас так редко видно, и ваше лицо выражает истинное и глубокое душевное страдание. Простите, что я навязываюсь вам со своим участием, но вы знаете, что я питаю к вам симпатию, несмотря на разницу в летах, и если мой совет, мое содействие…
Фон Грабенов поклонился, но лицо его не утратило прискорбного выражения.
– Благодарю вас, – прервал он графа, – за ваше дружеское расположение. Со мной ровно ничего не случилось, правда, мне нездоровится с некоторого времени. Кажется, я простудился немного…
Он попробовал улыбнуться, невольная дрожь охватила его тело, как в лихорадке.
Граф тихо положил руку на плечо молодому человеку.
– У вас серьезное горе, – сказал он. – Старику, может быть, простительно быть несколько навязчивым – вы верите мне?
Фон Грабенов бросил на графа долгий взгляд и глубоко вздохнул.
– Кажется, у меня расстроены нервы, – сказал он, – я…
– Некоторое время тому назад я вас встретил на выставке, – продолжал граф Риверо, – вы были не один, дама…
– О, да, да, помню! – вскричал молодой человек с горькой улыбкой. – Золотое, прекрасное было тогда время.. оно прошло, – прошептал он, – прошло безвозвратно.
– Об этом именно вы и горюете, – сказал граф, пристально смотря в лицо молодому человеку, отражавшее его внутреннее волнение. – Я так и думал, в ваши лета каждая радость и каждая скорбь происходит от любви. Это чудное время иллюзии – впоследствии бывает иначе: другие мысли, другие стремления наполняют жизнь, меньше страдаешь тогда, но и меньше бываешь счастлив!
Взгляд графа увлажнился, с губ сорвался вздох.
– Другие мысли, другие стремления, – сказал фон Грабенов с бледной улыбкой, – когда они наступят?
– Наступят, мой молодой друг, – сказал граф, – наступят и для вас, как и для всякого. Цветы жизни скоротечны, так же точно не вечны и страдания – за отцветшими цветами наступают плоды, созревшие в скорбях и пожинаемые вечностью.
Молодой человек опять задрожал, как от лихорадки.
– Что с вами случилось? – сказал граф глубоким голосом, который звучал почти приказанием. – Доверьтесь мне: вам изменила ваша милая?
– Изменила? – вскричал молодой человек, вскочив и окидывая графа пламенным взглядом. – Изменила? Невозможно, невозможно! И однако я был бы спокойнее, быть может, нашел бы иные стремления, если бы она действительно изменила – тогда бы по крайней мере я не томился неизвестностью, и страдания моего сердца, как бы ни были они жестоки, имели бы конец, за ними наступило бы спокойствие, но…
– Может ли быть что-нибудь хуже лживости и измены сердца, дорогого нам? – спросил граф.
Фон Грабенов долго смотрел на него.
– Да, – сказал он потом таким отчаянным голосом, что граф невольно вздрогнул, – да, может быть хуже! Граф, вы не похожи на других, вы, кажется, понимаете страдания человеческого сердца – сердца, биение которого не умерло в гнилой пресыщенности этого света. Вы знаете людей и обладаете владычеством над ними, вы поймете меня и, быть может, поможете. Вам расскажу я свои страдания, – продолжал он в сильном волнении, едва выговаривая слова, – я долго страдал в одиночестве, глубоко в груди затаил свое горе, все слезы пали мне на сердце. О, тяжело, невыносимо тяжело, когда приходится скрывать слезы, которые предназначены Богом для облегчения страждущей души, когда эти горькие слезы падают на сердце, они жгут, вместо того чтобы приносить облегчение! Я расскажу вам свои страдания, утешьте меня, помогите, если вы в силах помочь!
– Говорите, – сказал граф в волнении, – и будьте уверены, что никому лучше не можете вверить своего горя, как мне.
– Вы меня видели с молодой девушкой, – заговорил поспешно фон Грабенов, как будто хотел облегчить грудь от гнетущей скорби, которую долго скрывал от посторонних лиц. – Когда упала ее вуаль, вы могли заметить ее красоту. Но эта красота, наружная, ничего не значила в сравнении с красотой ее души, она была моей возлюбленной, дала мне все, что может дать любовь, но, клянусь вам головой матери, всем святым для меня, она была чиста – чиста и невинна, как создание, вышедшее из рук всеблагого божества. Я питал такие сладкие, такие прекрасные надежды, я хотел бороться из-за нее с предрассудками света, хотел посвятить ей всю свою жизнь, это удалось бы мне, я преодолел бы все препятствия, увез бы ее в свое отечество и дал бы ей достойное место в моем семействе…
Он замолчал, точно подавленный бременем воспоминаний.
– Дальше? – спросил граф.
– Она исчезла, внезапно исчезла, не оставила никаких следов, – сказал молодой человек беззвучно, – все мои старания отыскать ее оказались тщетны. Я изъездил Париж во всех направлениях – напрасно! После каждого дня, проведенного в бесполезных поисках, наступала ночь с мрачным отчаянием. Я проводил целые дни в своей комнате в каком-то летаргическом оцепенении, борясь с одолевавшей меня скорбью. Потом меня опять охватывала смертельная тоска, я бродил по улицам. Ездил по Булонскому лесу, пока хватало сил у лошадей, посещал все салоны, хотя она никогда не выезжала в свет. Я надеялся встретить ее, открыть какой-нибудь след, но все, все было напрасно – она исчезла навсегда, безвозвратно.
– Не предполагаете ли вы, что именно могло случиться с нею? Не оставила ли она вам какого-нибудь знака, объяснения? – спросил граф.
– Спустя нисколько дней после ее исчезновения я получил письмо, в котором она мне пишет, что теперь разрешилась загадка ее жизни, что она нашла родину, но зависит от священной и полной любви власти, которой должна повиноваться и которая запрещает ей сообщить мне подробности. Она просит меня быть уверенным в ее вечной любви и верности и не терять надежды на счастливую будущность. Все это она высказывает в кратких словах, но полных любви и искренности. О, я тысячу раз читал и перечитывал это письмо, стараясь найти между строками какое-нибудь объяснение, но труды мои были бесплодны.
– Ее семейство? – спросил граф. – Или она жила одна?
– Любимый ею отец умер от удара незадолго до ее исчезновения, мать ничего не знает о ней. Ах, мать нисколько не заботится, что сталось с ее дочерью, она имела дурные намерения относительно последней, и дочь взяла с меня обещание отвезти ее в монастырь перед моим отъездом из Парижа.
– Может быть, она удалилась в монастырь, чтобы избежать горечи расставанья? – заметил граф.
– Нет, – отвечал фон Грабенов, – она сказала бы мне об этом, она неспособна ко лжи.
При этих словах, сказанных дрожащим голосом, но с выражением твердого убеждения и бесконечного доверия, на глаза графа навернулись слезы.
Губы его шевелились, как будто хотели сказать что-то, но силой воли он подавил волнение, мелькнувшее на его лице.
Подошло несколько гостей.
– Боже мой, фон Грабенов! – вскричал один из них. – Что-то вас нигде не видно? Не случилось ли с вами чего-нибудь? Посмотрите, господа, у него в самом деле болезненный вид. Мы обсудим, как поступить с вами, чтобы возвратить к жизни…
– Поедемте с нами в «Кафе Англе», – сказал другой молодой человек, – мы устроили чудесную партию, это вас развеселит…
– Фон Грабенова трудно развеселить, – сказал подошедший герцог Гамильтон, – если не будет некоторой дамочки, с которой мы встретили его в китайском театре…
– Так пригласить ее! – вскричали все. – Пригласить непременно!
– О, она не поедет! – сказал герцог Гамильтон, между тем как смертельная бледность покрыла лицо фон Грабенова.
– Отчего не поедет? – спросил виконт Вальмори. – Поедет, если только захочет того фон Грабенов – ведь была же она на вечере у де л'Эстрада…
Дикое бешенство вспыхнуло в глазах молодого человека, губы задрожали, волосы встали дыбом. Он сделал шаг вперед и, казалось, готов был дать ответ, который придал бы делу серьезный оборот.
В эту минуту подошел к нему граф Риверо с беззаботным, веселым лицом.
– Извините, господа, – сказал он молодым людям, – что я прерываю вашу беседу, которая, по-видимому, не имеет серьезного характера, а мне нужно перемолвиться с фон Грабеновым парой важных слов о покупке лошадей, о которой мы только что начали говорить. Предоставьте в мое распоряжение на несколько минут нашего молодого друга.
При этих словах он взял молодого человека за руку, по-видимому, едва касаясь, но, в сущности, с необыкновенной силой: фон Грабенов взглянул на графа и встретил такой повелительный взгляд, что после минутного колебания поклонился молодым людям и последовал за графом, который, медленно и не выпуская его руки, провел во второй салон, совершенно пустой в эту минуту.
– Зачем помешали вы мне, граф, – спросил молодой человек подавленным голосом, – наказать дерзкого, который осмелился?
– Сказать правду? – перебил его граф.
– Правду? – вскричал молодой человек, вздрогнув. – Всякий знает, что такое салон де л'Эстрада, и не может быть, чтобы моя Джулия…
– Не вы ли сами говорили мне, – сказал граф, – что родная мать хотела низвергнуть ее в пропасть порока, разве не могла она, сама того не зная, быть в этом доме, не это ли самое открыло ей глаза?
– Но боже мой! – вскричал фон Грабенов.
– Если бы стали говорить о вашей ссоре, о вашей дуэли, если б Париж занимался в течение нескольких дней этим делом, – продолжал граф спокойно, – то неужели вы оказали бы этим услугу своей возлюбленной, которая, как вы убеждены, нашла и семейство свое и родину?
– Правда… правда, – сказал молодой человек, – но боже мой! Неужели я должен спокойно выслушивать…
– Хотите внять совету старика и искреннего друга? – спросил граф.
– Говорите, – отвечал фон Грабенов спокойно.
– Парижская жизнь, – продолжал граф, – истощает ваши силы, – вечное, напрасное искание. Надежда и отчаяние, уничтожают вас телесно и душевно. Вам прежде всего необходимо восстановить внутреннюю опору, душевную твердость, возвращайтесь к себе на родину, выберите себе занятие, хотя бы сельское хозяйство. Но будьте мужественны, укрепите свое сердце деятельностью и трудом! Как видите, я считаю вашу любовь и горе истинными и потому предлагаю вам серьезные средства.
– Благодарю вас от всего сердца, – возразил фон Грабенов, – но должен ли я отказаться от надежды найти ее след?
– Выслушайте меня, – сказал граф, – или ваша возлюбленная такова, какой вы считаете ее, и в таком случае она находится под сильным влиянием и защитой, и вы никогда не найдете ее, по крайней мере, теперь, или же она обманула вас…
– Нет, – возразил фон Грабенов уверенно.
– Тогда, – продолжал граф, не обращая внимания на возражение, – вы, вероятно, не найдете ее, а если и найдете, то лучше было бы не искать.
Фон-Грабенов колебался.
Граф долго и грустно смотрел на него.
– Имеете вы доверие ко мне? – спросил он потом. – И верите, что я имею некоторую опытность и небольшую власть над людьми и обстоятельствами?
– Да, – отвечал фон Грабенов, – я верю вам.
– В таком случае обещаю вам считать ваше дело своим собственным, – сказал граф. – Возвратитесь в отечество, но оставьте мне некоторые сведения, и я при первом удобном случае сообщу вам известия о судьбе вашей возлюбленной. Будьте уверены, что, имея обширные связи и сношения, я легче вас достигну результата, тем легче, что я буду спокоен и хладнокровен… Однако ж пойдемте, – прибавил он, – мы будем продолжать свою беседу на улице, там никто не помешает нам.
Они вышли незаметно из салона.
Долго расхаживали они под руку по широкому тротуару бульвара Мальзерб и вели оживленный разговор; когда же наконец стали прощаться, фон Грабенов сказал со слезами на глазах, но твердым голосом:
– Я вечно буду вам благодарен – вы дали мне силу и жизнь, через несколько дней я возвращусь на родину и спокойно и непреклонно вступлю в борьбу с житейским горем. Дай бог, чтобы вы когда-нибудь могли возвратить мне счастье!
– Прощайте! – сказал граф в глубоком волнении. – У вас есть друг, и Господу угодно, чтобы вы получили свою милую из моих рук!
Пожав руку молодому человеку, граф направился к шоссе д'Антен, между тем как фон Грабенов возвратился домой.
– У них чистые и невинные сердца, – прошептал граф, – они должны быть счастливы, если сумеют перенести разлуку и сохранить верность. Быть может, мне суждено составить счастье этих детей и умолить мрачную тень несчастной жертвы, принесенной этой дьявольской женщиной, которая, впрочем, была моим орудием.
* * *
При появлении остального общества фон Венденштейн вышел из салона маркизы Палланцони на свежий ночной воздух. Глаза его горели упоением, пульс сильно бился, мысли были в беспорядке. Вся прежняя его жизнь, столь однообразно спокойная, несмотря на потрясающие события последнего года, исчезла из его памяти под влиянием блестящих волн парижской жизни, охватившей молодого человека, и среди всего этого радужного блеска возникал образ женщины, очаровавшей его душу своей чудной красотой и увлекавшей его своим смелым, гордым духом. Правда, рядом с этой роскошной, очаровательной картиной являлся бледный нежный образ с ласковыми глазами, но это воспоминание тихого прошлого с его грезами и надеждами терялось в упоительном настоящем.
Что давно и бессознательно развилось в сердце молодого человека, когда он жадно вдыхал упоительный воздух большого света, то стало теперь очевидностью; он пал к ногам этой женщины, затронувшей все нити его жизни, он чувствовал на своем лице ее дыхание, он отделился от окружавшего его течения и чувствовал пламенную любовь к маркизе.
Он не думал о будущем, не помышлял о прошедшем, он ощущал себя в огненных волнах непреодолимого чувства.
Он медленно шел по улицам, едва обращая внимание на суету на бульварах, повернул в улицу Монмартрские предместья и вошел в первый дом, где находилось его скромное жилище.
В глубокой задумчивости он прошел в спальню, примыкавшую к салону. Его слуга, эмигрировавший ганноверский солдат, поставил лампу на стол и положил несколько писем.
В утомлении фон Венденштейн бросился, не раздеваясь, на стоявшее возле стола канапе.
Долго лежал он, погрузившись в глубокие думы; взгляд его стал влажным, горячее дыхание вырывалось из полуоткрытого рта.
– Можно ли назвать жизнью, – прошептал он, – мое существование на тихой родине, где один день однообразно сменялся на другой, где все чувства, медленно и спокойно зарождались и развивались, как цветки на ниве? О, жизнь, истинная жизнь со всеми ее волнениями, со всей прелестью и сладостным упоением, жизнь большого света, охватывает меня только здесь, в центре Европы, увлекает в свой водоворот все мои чувства. Только здесь я понял, что значит любить, окунуться в упоительный поток пылкого блаженства!
Он закрыл лицо руками. Когда же через несколько минут он опустил руки, взгляд его упал на письма, которые положил его слуга на стол.
Почти машинально он протянул руку к ним и взял толстый пакет, ближе других лежавший к краю стола.
– Письмо от отца, – проговорил он, торопливо распечатывая его.
Он медленно прочитал отцовское послание, уведомлявшее его в простых словах обо всем случившемся в семействе и в кругу знакомых и в то же время тоном старинной дружбы внушавшее ему мужественно переносить невзгоды настоящего времени.
Он задумчиво положил около себя письмо. Простые, искренние слова отца раздались среди его упоенья, подобно вести из иного мира, с которым тесно срослись все нити его сердца.
В письмо оберамтманна были вложены еще два другие письма.
Молодой человек взял одно из них – это было послание от матери.
Долго читал он строчки, написанные старой дамой, в которых чудилось ему веяние старого уютного дома в Блехове, его тихое, счастливое детство, веселая юность. В коротких словах мать выражала ему свою разумную любовь и не забыла под конец упомянуть, чтобы он не портил белья и берег здоровье в тревожной жизни Парижа.
Слезы выступили на его глазах; с грустной улыбкой положил он письмо на стол и взял третье.
Он распечатал его почти с робостью – письмо было от Елены.
Увидев почерк молодой девушки, он невольно поднес письмо к губам.
Потом прочитал четыре мелко исписанные страницы, и когда в простых словах, исполненных, однако, нежной поэзии, он увидел всю чистоту любви, всю верность, всю беззаветную преданность молодой девушки, тогда всей душей унесся в отдаленную родину: увидел цветущие розовые гряды у пасторского дома в Блехове, увидел полутемную комнату в Лангензальца, где смотрели на него любящие глаза, когда он боролся со смертью, увидел темную ночь в Эйленринде, когда с тоскливым, печальным сердцем прижимал к своей груди дорогую ему Елену, прощаясь с нею и отправляясь навстречу неизвестному будущему. И перед этими чистыми картинами рассеялся весь блеск пылкой парижской жизни, как рассеивается туман пред восходящим солнцем.
Он вскочил и принялся ходить по комнате большими шагами.
– Из этих писем говорит со мной добрый гений моего детства! – вскричал он. – Неужели я погружусь в окружающее меня море, таинственные чудеса которого зовут и манят меня к себе?
Он ходил в сильном волнении.
– Но, – сказал он потом, – может ли мое сердце отказаться от всего упоительного счастья, изведав его? Будет ли преступлением наслаждаться тем, что дает мне свет и что, однако, так мимолетно? Разве я не могу возвратиться к тихой простоте, насладившись упоеньем жизни, освежив жаждущее сердце сладким источником, который так роскошно бежит здесь предо мною?
Он прижал руки к горячему лбу и остановился у стола.
Его взгляд упал на письмо, лежавшее еще нераспечатанным на столе.
Он вскрыл его; это была записка от советника Мединга, который вкратце просил его приехать как можно скорее, чтобы получить сведения, интересные для дела короля.
Молодой человек взглянул на часы.
Было десять часов. Он взял шляпу, запер полученные письма и вышел из своего жилища.
Пройдя улицу Монмартрского предместья и миновав площадь Святого Георга, он вступил в улицу Мансар, которая соединяет улицы Святого Георгия и Бланш.
Он остановился у дома недалеко от перекрестка, позвонил и прошел через двор к дому, за которым начинался сад с вековыми деревьями.
Сидевший в передней камердинер сказал ему, что Мединг дома и что у него несколько гостей. Молодой человек вошел в салон во вкусе Людовика XVI, к которому примыкала вторая комната, убранная диванами и креслами. Большие двери в тенистый сад были отворены, на просторном каменном балконе также стояли стулья и сидело шесть или семь мужчин.
Мединг искренно приветствовал молодого человека и сказал ему:
– Очень рад видеться с вами сегодня же вечером. Я имею сообщить вам, что наблюдение за порядком у ганноверских эмигрантов, которые, как вам известно, должны отправиться в Швейцарию, требует присутствия возможно большого числа офицеров. Как ни жаль мне лишиться вас, я должен, однако ж, просить вас, в видах королевской пользы, немедленно отправиться в Цюрих и быть там в распоряжении господина фон Гартвига, который заведует эмиграцией.
На лице молодого человека явилось особенное выражение.
Сперва блеснула радость в его глазах, когда он узнал, что представляется случай принести пользу делу, которое он считал святым и которому готов был служить всеми силами; потом мелькнула будто тень при мысли о том, что он должен оставить Париж и все упоительные грезы, начавшие овладевать им.
– Мне нужно время приготовиться и привести свои дела в порядок, – сказал он, – как только…
– Мы поговорим об этом завтра, – возразил Мединг и обратился к группе гостей; датский агитатор Хансен вел оживленный разговор с молодым человеком, умное лицо которого было обрамлено белокурыми вьющимися волосами.
– Хансен, – сказал Вальфрей, редактор «Дипломатических записок», – не думает, чтобы в Зальцбурге произошло что-нибудь серьезное. Он пессимист и не видит никакой пользы в будущем от союза с Австрией, а между тем я вижу ясно, как на ладони, что прошедшие несчастия могут быть исправлены только сплочением указанных держав.
– Почему же наш обыкновенно неутомимый друг так оппонирует официальному и официозному настроению, которое мы встречаем в журналах? – спросил Мединг с улыбкой.
– Потому что, – отвечал с живостью Хансен своим несколько шипящим скандинавским выговором, – потому что я человек дела и еще никогда не видел, чтобы фразы и рассуждения привели к чему-нибудь. Но я твердо убежден в том, – продолжал он с горькой улыбкой, – что австрийский канцлер, которого не без основания называют политическим чародеем, привез в Зальцбург одни только фразы и что император Наполеон, конечно, ничего не сделал для превращения этих фраз в дело. И это, – заявил он, – предпринимается против настоящего человека дела, против графа Бисмарка, умеющего говорить такие слова, которые сопровождаются, как громом, яркой молнией дела! Решительно, действуя таким образом, не положат преград на его пути. Австрия имеет только один способ вознаградить себя за Садовую – нужно сделать фон Бейста министром в Берлине.
Мединг повернулся ко второму салону и сказал с улыбкой:
– Слушайте, – ваш соотечественник угостит нас музыкой, это лучше бесплодной политики.
Хансен и Вальфрей шепотом продолжали разговор между собой.
Лейтенант фон Венденштейн смешал в стакане портер с шампанским, которое подал ему лакей в графине, закурил сигару и встал в дверях салона, задумчиво смотря через высокие деревья на полуночное небо.
Между тем граф Шметтов, егермейстер датского короля, красивый мужчина, лет тридцати шести, белокурый, с длинными усами, сел за фортепьяно и начал, уверенно и с воодушевлением, род попурри из датских национальных мелодий.
– Наши северные напевы полны удивительной прелести, – сказал советник Мединг, когда граф перестал играть, – я чувствую в них силу и таинственную симпатию.
– Да, – согласился граф, – в наших народных песнях заключается глубокий мелодический элемент, однако я должен сказать, что ваши немецкие композиторы умеют превосходно подражать прелестной простоте народных песен.
И, сделав несколько вступительных аккордов, он заиграл мелодию:
По воле Божьей,
С самым любимым
Нужно расстаться…
Простые, потрясающие до глубины души звуки наполнили салон, разговоры смолкли или перешли в едва слышный шепот.
Лейтенант фон Венденштейн вздрогнул при этой простой мелодии.
Точно по волшебству, представился ему за тенистыми высокими платанами блеховский дом со старинной комнатой, в которой жила и двигалась его любящая мать. В его душе живо возник тот печальный вечер накануне отъезда в армию, в который бледная и дрожащая Елена спела ему на прощанье эту песню, опять увидел он перед собой милые, искренние глаза, которые так любовно глядели на него, когда он вырвался из объятий смерти. И на его губах невольно явилось последнее слово песни: «До свиданья!»
Глаза его сияли чистым светом, счастливая, спокойная улыбка играла вокруг его губ. Блестящий, пленительный туман рассеялся, и когда граф Шметтов заключил свою игру тихим аккордом, молодой человек прошептал слова Фауста, изменив их:
– Земля исчезает, я снова принадлежу небу.
– Я очень люблю эту песню, – сказал Мединг, – вы правы, граф, она так прекрасна, что кажется, будто слышишь сохранившееся в народных устах предание о давно минувшем времени.
Подошел фон Венденштейн.
– Я обдумал все, – сказал он, – и завтра же могу привести дела в порядок и уехать в Швейцарию.
– Тем лучше, – отвечал советник Мединг, – чем скорее вы приедете туда, тем большую услугу окажете делу короля.
Вскоре общество разошлось.
Фон Венденштейн отправился домой, спокойный и веселый, сомнение и борьба исчезли из его души, и вскоре он погрузился в мирный сон, полный чистых, прекрасных грез.
Письмо Елены лежало около него на столике.









































