Текст книги "Европейские мины и контрмины"
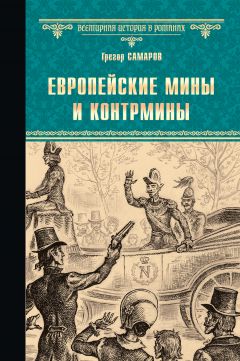
Автор книги: Грегор Самаров
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 46 страниц)
Принцесса торопливо встала, и между тем как император, молча поцеловав ей руку и кивнув головой эрцгерцогу, занял ее место у ванны, она вышла из комнаты, приложив палец к губам, села в экипаж и поехала обратно в Гитцинг, закрывая глаза платком.
Глава тридцать шестая
Глубокое безмолвие царствовало под обширными прохладными сводами древней церкви Парижской Богоматери; торжественно и важно стоит эта церковь среди волнующейся и кипучей суеты Парижа, окруженная вечно сменяющимися волнами многообразной жизни в столице бурливой французской нации.
Легкие облачка фимиама поднимались к высоким сводам, которые волшебно освещались лучами, проникавшими через розовые стекла окон. Шла ранняя месса, ранняя для знатного света, который только в одиннадцать часов начинает исполнять свои обязанности к Богу, тогда как рабочий люд уже в шесть часов отслушал свою мессу, прежде чем взялся за тяжкий дневной труд.
Звуки священного пения раздавались в церкви, дамы высшего света, в самых свежих и изысканных утренних нарядах, становились на колени, отчасти с истинным благоговением, отчасти с условным, сообразно хорошему тону.
Среди этих дам, носивших самые старинные и знатнейшие имена Франции, замечались личности полусвета, которые преклоняли колени с неменьшей набожностью, чем первые. Но в чьих сердцах было больше благоговения, это, конечно, мог знать только Тот, Чей святой символ возносится священником у алтаря, Тот, Кто зрит через своды собора и через кровли хижин, Кто милосердно допустил Магдалину умастить мирром его ноги, и Чьи божественные уста произнесли: «Кто безгрешен из вас, тот пусть первый бросит в нее камень».
Близ главных дверей, довольно далеко от алтаря, на котором совершалась месса, стоял граф Риверо у одной из колонн, поддерживающих высокий свод древнего собора. С глубоким благоговением внимал он божественной службе. Вместе с тем лицо его выражало счастье и благодарность, которые, подобно солнечному лучу, озаряли его красивое лицо; казалось, он хотел излить перед Богом любви и милосердия всю свою душу и вознести горячую благодарность за то, что жизнь его опять стала тепла и светла.
Дверь отворилась, послышался шелест женского платья. Граф невольно взглянул по направлению к двери и увидел маркизу Палланцони в светлом наряде. Ее прекрасное лицо было по-прежнему свежо, большие черные глаза опущены вниз, черты лица и вся осанка выражали благочестивое смирение. Она казалась самой знатной дамой, которая, преклоняя колени перед алтарем, слагает всю земную гордость у ног Господа.
Задумчиво и с некоторым удивлением смотрел граф на эту женщину. Никто лучше него не знал всей мрачной глубины ее души, и, однако, граф должен был сознаться, что выражение набожности и смирения, лежавшее на всей ее фигуре, казалось до того истинным и натуральным, что едва можно было подозревать здесь лицемерие.
Медленно, почти робко подошла маркиза к колонне, у которой стоял граф и где находилась чаша со святой водой. Медленно подняла молодая женщина свои глаза на графа с немым вопросом и ожиданием. Вежливость требовала, чтобы граф подал ей кропило. Он нерешительно сделал шаг; казалось, внутренний голос запрещал ему подать священный символ божества этой женщине. Однако ж, пересилив себя, он подошел к чаше, погрузил кропило в святую воду и, пока молодая женщина смочила пальцы и осенила себя крестным знамением, сказал ей тихо:
– Пусть эта чистая и святая вода омоет вашу душу от всех грехов.
При этих словах, понятных ей одной, в глазах маркизы блеснула молния. В ее взгляде выразились насмешка и вызов, почти дикая ненависть, так что граф вздрогнул. Но через секунду этот взгляд скрылся под опущенными веками; маркиза поблагодарила жестом и направилась к ближайшей скамейке, у которой лакей положил для нее подушку из темно-синего бархата.
Божественная служба шла своим чередом, вскоре раздалось «ira, missa est»9191
Идите, распущено (лат.) – формула, знаменующая конец католического богослужения.
[Закрыть] как разрешение всему собравшемуся здесь изящному свету предаться опять блестящей, игривой и веселой жизни.
Маркиза, с прежним выражением глубокой набожности, направилась к выходу.
Граф Риверо подошел к ней и сказал тоном светского человека:
– Могу я просить у вас места в вашей карете? Я пришел сюда пешком и желал бы сократить далекий путь к бульварам.
Маркиза немым жестом выразила свое согласие; граф подал ей руку и довел до экипажа, дверцы которого уже открыл лакей.
Нетерпеливые кони понесли экипаж к новым изящным частям города.
– Я вас еще не спросил, – сказал граф, – каким образом вы исполнили предложенную вам задачу; вы оказали мне и моему делу величайшую услугу. Надеюсь, что при этом нет никакой опасности скомпрометировать себя?
– Будьте спокойны, – отвечала молодая женщина с гордой улыбкой, – в тайных делах я привыкла действовать, как действуют индейцы во время своих походов – никто не обнаружит моих следов. Я…
– Вы расскажете это после, – сказал граф, – теперь же я хотел только сообщить вам, что привезу молодого ганноверца, с которым познакомил вас на лоншанских скачках. Вам известно, как я сильно интересуюсь ганноверской эмиграцией и действиями представителя короля Георга. Вы откроете и эту запутанную нить, с тем же искусством, какое вы показали при первом поручении. Может быть, – прибавил он с холодной улыбкой, эта задача труднее, зато вы найдете больше развлечения.
Маркиза кивнула головой и, откидываясь на подушки с некоторым грациозным кокетством, сказала:
– Постараюсь исполнить и это поручение.
Экипаж проехал вдоль Сены и достиг морга, длинного низенького здания, в котором выставляются трупы несчастно погибших.
Маркиза взглянула с любопытством на это скромное здание, заключавшее в себе трагическую развязку многих жизненных загадок.
– Нельзя ли, граф, – спросила она, – побывать в морге, о котором я много слышала и который привлекает меня, как мрачная пропасть, полная ужасных тайн, и в который я никогда не решалась вступить одна?
– Морг открыт для всякого, – возразил граф печально, – родственники отыскивают здесь несчастных членов своего семейства; при этом, однако, неизбежно одно, а именно то, что любопытные парижане находят здесь случай возбудить свои вялые нервы ужасными картинами. Если угодно, я провожу вас, – продолжал он грустно, – быть может, вы встретите случай видеть, к чему приводят преступление и отчаяние заблудшихся и отвратившихся от Бога людей.
Маркиза опять бросила на графа взгляд, полный адской ненависти и презрения, но взгляд этот быстрее прежнего, брошенного в соборе исчез под любезным светским выражением; коснувшись зонтиком плеча возницы, она сказала легким тоном:
– Благодарю вас за готовность исполнить мое желание, которое нельзя назвать простым любопытством. Вы требуете моих услуг как в высших, так низших слоях общества, – прибавила она с едва заметной иронией, – поэтому я не должна страшиться заглянуть и в мрачные бездны человеческой жизни.
Экипаж остановился у самого входа в морг. Граф со свойственной ему грациозностью подал руку молодой женщине, и через несколько секунд они вошли в простую, освещенную сверху комнату, вид которой уже по своей простоте производил потрясающее впечатление.
На столах лежало в этот день пять совершенно голых трупов, непрерывно орошаемых притекающей свежей водой; около столов лежала одежда, а возле, на маленьких табуретах, те вещи, которые найдены при несчастных.
С глубокой печалью смотрел граф на грустные останки, между тем как маркиза рассматривала их с любопытством, которое умерялось естественным ужасом, инстинктивно охватывающим живой человеческий организм при виде смерти.
На первом столе, ближайшем ко входу, лежал труп двухлетнего мальчика; надо лбом виднелась глубокая рана, детские черты были искажены, рот открыт, глаз не существовало, около трупа висела скудная одежда.
Пока граф с истинным состраданием смотрел на это дитя, так рано и насильственно похищенное у жизни, маркиза, взглянув на ребенка мимоходом, поспешила к следующему столу.
На нем лежал старик, по крайней мере лет шестидесяти, с всклокоченной седой бородой и реденькими волосами. Даже при сильной степени разложения черты лица хранили след жестокой бедности. От долгого пребывания в воде цвет платья, висевшего около трупа, стал неузнаваем.
– Какое странное совпадение, – сказал медленно граф, – здесь дитя, едва начавшее жить и уже насильственно похищенное смертью! Жалеть или завидовать тому, что оно оставило свет, прежде чем его юное сердце спозналось с преступлением и отчаянием? А тут рядом, – продолжал Риверо, перенося взгляд на другой труп, – старик, которого житейская нужда довела до того, что ему не достало сил прожить до естественного конца страданий. Жаль бедняка, много лет выносившего горькую жизнь и в припадке отчаяния запятнавшего себя самоубийством.
Он сложил руки и прочитал молитву над трупом старика.
Маркиза выслушала его слова и повернулась к третьему столу, на котором лежал труп молодой девушки, пробывшей не более суток в Сене, до того был свеж, цвет ее кожи и состояние опрятной одежды, покрой которой ясно говорил, что девушка принадлежала к среднему сословию. Черные волосы, заплетенные в косы, лежали вокруг мраморно-бледного чела, выражение рта свидетельствовало о жестокой душевной борьбе.
– Бедное дитя, – сказал граф, – любовь бросила тебя в объятия преждевременной смерти, любовь, которую поэты всех времен воспевали как величайшее блаженство и которая, однако ж, так редко дает счастье и мир человеческому сердцу; да простит тебе Вечная Любовь то преступление, до которого довела тебя земная!
Маркиза слегка вскрикнула от удивления, подойдя к следующему столу.
На нем лежал труп молодого человека, принадлежавшего, судя по висевшей блузе, к сословию рабочих; точно на постели лежали мускулистые, красиво сложенные члены, черноволосая голова была несколько запрокинута, бледное лице с закрытыми глазами выражало глубокую, почти радостную безмятежность.
Но в этом безжизненном лице маркиза Палланцони узнала черты Жоржа Лефранка – эти закрытые глаза смотрели так тепло, так искренне на бедную швею Луизу Бернар, – эти на век сомкнутые уста говорили ей такие любящие слова, от которых пробуждались в ее сердце давно забытые звуки чистого прошлого. Слова, при которых она, казалось, чувствовала веяние крыл давно отлетевшего ангела-хранителя ее детства.
А теперь бездыханно лежало перед нею это молодое сердце, полное любви и надежд. Она не могла сомневаться в причине, побудившей бедного молодого человека посягнуть на свою жизнь, она могла постигнуть страдания, претерпленные этим сердцем, прежде чем оно перестало биться.
Густой румянец вспыхнул на минуту на ее лице, когда она узнала труп, и потом заменился мертвенной бледностью; с теплым чувством во взгляде, она смотрела на безжизненное тело. В ее глазах выражалось сострадание, тень любви, скорби; светлая слеза отуманила ее светлые, блестящие глаза при виде мертвого лица. Потом ее взгляд перенесся на труп молодой девушки, стройные формы которой могли бы служить моделью для резца ваятели. Точно облако отуманило ее глаза, она опустила веки и глубоко вздохнула.
Граф заметил все это, он пристально и проницательно смотрел на нее.
Молодая женщина повернулась к нему, придав лицу обычное спокойное выражение, и сказала естественным тоном:
– Я предполагала, что мои нервы крепче. Пойдемте – впечатление от этих картин смерти слишком тяжело для меня.
Еще раз взглянула она на труп молодой девушки, еще раз вырвался из ее груди глубокий вздох; потом, не обращая внимания на остальные трупы, она пошла к выходу.
Граф остановился на минуту и перекрестил труп молодого рабочего, затем последовал за маркизой, которая уже вышла из морга, помог ей сесть в экипаж и занял место возле нее.
– Домой! – приказала Антония, и карета быстро поехала.
Несколько минут граф молчал, погрузившись в размышления, потом с твердостью взглянул на маркизу, которая, как бы повинуясь магнетическому влиянию его взгляда, подняла свои глаза и смотрела на графа с выражением смирения и упорства.
– Кто этот покойник? – спросил граф тихим голосом.
Маркиза пожала плечами и, казалось, хотела отвечать отрицательно. Но через секунду блеснула молния в ее глазах, и, устремив на графа пристальный взгляд, она отвечала спокойным тоном, в котором однако ж слышалось волнение:
– Он был орудием, посредством которого я исполнила ваше поручение Он любил меня глубоко и искренно и умер от обмана этой любви и своего сердца. Это взволновало и тронуло меня, может быть, для него же лучше, что он умер – что нашел бы он в жизни, он, чей дух стремился высоко, тогда как его положение в свете сковывало это стремление?
Граф опять помолчал немного.
– Я позабочусь, – сказал он, – чтобы этот молодой человек был похоронен и не попал в анатомический театр. Вы же, – продолжал он, кладя свою руку на руку маркизы, – обратитесь к Богу со смирением и раскаянием, чтобы Он простил вам смерть этой молодой жизни, богатой надеждами и любовью, жизнь преждевременно отнятую вами и отравленную отчаянием.
Маркиза привскочила, глаза ее загорелись гордостью, губы скривились презрительной улыбкой; пронзительным голосом, напоминавшим шипение змеи, она отвечала:
– При виде этого трупа в мое сердце проникла скорбь и раскаяние, и если мои молитвы могут дойти до Бога, я стану ежедневно молиться за бедную душу, искренно любившую меня и хотевшую дать мне все сокровища любви и преданности. Но вы, граф, – продолжала она, гордо подняв голову и смело встречая взгляд графа, – вы не имеете никакого права увещевать меня к покаянию и раскаянию, потому что если есть здесь грех, преступление, то на этот раз запретный плод подан не женщиной, а мужчиной!
– Какой язык, – сказал удивленный граф, почти испугавшись внезапного порыва женщины, которая, по-видимому, была в его руках, – какой язык… вы забываете…
– Я ничего не забываю, – возразила молодая женщина тем же пронзительным, шипящим голосом, – я ничего не забываю и говорю тем языком, на какой имею право. Я много грешила и буду отвечать сама за все грехи, содеянные по собственному моему побуждению, но совершившееся теперь дело не мое, и я никогда не посягнула б на него. Вы, граф, сказали мне, что я могу искупить грехи прежней жизни, став в ваших руках орудием для служения великому и святому делу, делу, от победы которого зависит благо человечества, делу, которому вы посвятили всю свою жизнь. Я согласилась, и для служения этому делу вы поручили мне достать бумаги, хранящиеся в известном ящичке – вы указали мне, какой дорогой идти для достижения цели, и я шла по ней в полном убеждении, что она истинная и благоприятная Небу. Я достигла цели, вы одобрили меня, и если при достижении этой цели пала жертва, то я никак не могу упрекать себя в том, ибо не по собственному желанию довела молодого человека до гибели, не по собственному желанию добилась его любви. Он должен был сделаться орудием для ваших планов и сделался, и если теперь орудие погибло, то вина в том не моя, а того, кто дал его мне в руки. Я жалею о бедняжке, и это нисколько не касается вас – вы не имеете права делать мне упреков.
Граф молча слушал, удивление исчезло с его лица, последнее вспыхнуло румянцем; окинув взором всю фигуру молодой женщины, он сказал холодным тоном:
– Вы говорите таким языком, который нисколько не приличен вам. Прошу никогда не забывать, что вы в моих руках и что я могу уничтожить вас, если вы выйдите из повиновения.
– Только не в этом деле я в ваших руках! – вскричала молодая женщина. – Я действовала по вашему приказанию, и плоды моих трудов в ваших руках, вместе с тем и ответственность за деяние падает всецело на вас.
Граф привскочил, глаза его пылали гневом; он как будто хотел уничтожить маркизу.
Но прежде чем он сказал хоть одно слово, внезапная мысль мелькнула в голове молодой женщины, волнение ее мгновенно стихло.
Ядовитая улыбка исчезла, глаза опустились, и потом, когда она снова подняла их, выражали только кротость и смирение.
Сложив с мольбой руки, она сказала мягким голосом, нисколько не напоминавшим прежний шипящий тон:
– Простите мое увлечение – вы знаете, как тяжело мне нести свои собственные преступления, так тяжело, что я невольно восстаю против всякого нового преступления, которое приходится брать на себя, преступление чужое, в чем вы должны сознаться. Мое повиновение, – продолжала она, – безусловно, и именно вследствие него пала эта жертва, для которой, я вполне убеждена, смерть была благодеянием, потому что избавила от жизненной борьбы, которая, быть может, довела б его рассудок до помешательства.
Граф долго смотрел на нее, гневное выражение исчезло с его лица, грусть омрачила его взгляд; откинувшись на подушки, он молча сидел около маркизы.
– Итак, вы привезете ко мне барона Венденштейна? – спросила маркиза, подъезжая к дому. – Того молодого ганноверца, которому, без сомнения, не предстоит такой печальной участи, как бедному Жоржу Лефранку?
Граф медлил с ответом.
– Я подумаю, – сказал он наконец, – стоит ли цель игры с этим молодым, свежим сердцем.
Маркиза улыбнулась едва заметно.
Карета остановилась у ее дома.
– Отвезти вас домой? – спросила молодая женщина, когда граф помогал ей выйти из экипажа.
– Благодарю, – отвечал граф, – я пойду пешком.
И, любезно раскланявшись, он хотел идти, как в ту же минуту вышел из дома маркизы лейтенант фон Венденштейн.
Граф взглянул на него с удивлением, между тем как маркиза, с торжествующей радостью во взгляде, отвечала прелестной улыбкой на поклон молодого человека.
– Вы позволили мне, маркиза, быть у вас, – сказал последний, – и я поспешил воспользоваться этим дозволением: к сожалению, я не застал вас дома и должен благодарить свою счастливую звезду, которая доставила мне случай встретиться с вами в эту минуту.
– Очень жаль, – отвечала молодая женщина, – что я не могу предложить вам войти теперь же в мой салон, я измучена и должна еще заняться своим туалетом. По вечерам я всегда принимаю, и сегодня же вы, конечно, застанете меня дома. До свиданья!
Она протянула руку графу, которую тот нерешительно взял, и почти прошептала:
– Это рука примирения?
Маркиза дружески простилась с молодым человеком и взошла на лестницу.
– В какую сторону пойдете, граф? – спросил фон Венденштейн. – Я отправляюсь на выставку.
– Вы там встретите египетского вице-короля, он приехал третьего дня и хочет посетить сегодня египетский отдел выставки, – сказал граф, устремив на молодого человека долгий и глубокий взгляд, который мало соответствовал простому содержанию его слов. – Я иду домой.
Казалось, он хотел сказать что-то, но вместо того протянул руку фон Венденштейну и, раскланявшись любезно, пошел вдоль тротуара медленными шагами, между тем как молодой ганноверец подозвал фиакр и отправился на Марсово поле.
– Имею ли я право подвергать этого юношу опасности, которая угрожает ему вследствие знакомства с Антонией? Не обязан ли я предупредить его? – говорил он тихо. – Однако что подумает он, если я стану остерегать его от женщины, с которой сам познакомил? И поможет ли это предостережение? Я стану присматривать над ним, – сказал граф с глубоким вздохом, – и Господь даст мне силы предупредить вторую катастрофу.
Медленными шагами дошел он до своего жилища.
Войдя в салон, он распечатал лежавшие на столе письма, просмотрел их содержание и задумчиво подошел к окну.
– Я заглянул внутрь этой женщины, – проговорил он со вздохом, – и ужас объял меня при мысли о мрачной пропасти этой души, которую я сделал своим орудием. В глубине своего сердца она восстает против меня, ищет случая сбросить мое иго. Обладаю ли я еще властью над нею? Я был ее господином – остался ли я им, став соучастником? Соучастником? – вскричал он, выпрямляясь. – Может ли быть преступной великая борьба за святую и высокую цель? И если я сам ошибаюсь в выборе средств, если моя грудь полна благороднейших стремлений, если цель моя заключается в благе, будет ли одна жертва вменена мне в грех Судьей, во славу которого я действую? Одна жертва? – продолжал он, угрюмо. – Не составляет ли человеческое сердце целый мир в глазах Того, без воли Которого не упадет ни один волос с нашей головы?
Он долго стоял в раздумье.
– И в это сердце, – сказал он потом, – которое казалось мне одетым в непроницаемую броню, закрадывается сомнение слабых душ, и меня охватывает слабость, лишающая сил трудиться во славу Божию и для победы церкви! Нет! – сказал он с гордостью, поднимая воодушевленный взгляд к небу. – Нет, мое сердце не должно быть доступно сомнениям и слабости, огнем и мечом предстоит одержать победу над силами мрака, дабы пальмы святого мира осенили очищенный и возвратившийся к Богу свет.
Но поднятые к небу глаза опять отуманились, губы судорожно задрожали, мрачная печаль налегла на его лице.
Гордая осанка исчезла, он в изнеможении опустился на кресло, закрыв лицо руками, и грустным, дрожащим голосом проговорил:
– Eritis sicut deus!9292
И вы будете как боги (лат.) – Бытие: 3, 5.
[Закрыть]









































