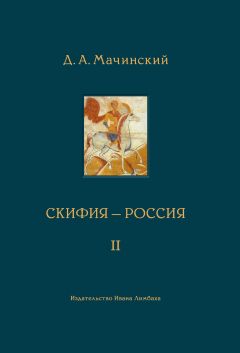
Автор книги: Дмитрий Мачинский
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
Вслед за кратким периодом военных обострений наступает длительный период стабилизации, соответствующий верхнему строительному ярусу горизонта Е3 (по О. И. Давидан и Е. А. Рябинину) или строительному ярусу IV (по С. Л. Кузьмину и А. Д. Мачинской). Как установили эти исследователи, в комплексе вещей яруса IV наблюдается появление серии бронзовых и костяных украшений, свойственных славяно-балтскому населению (кривичам?) Подвинья и Верхнего Поднепровья (Старая Ладога… 2003: № 122, 123), что явно свидетельствует о притоке населения с юга. В 810-х гг. в Ладоге создается мастерская по производству стеклянных бус, столь необходимых для обмена на пушнину, сбывавшуюся на рынках Арабского халифата.
Среди сооружений этого яруса преобладают малые дома славянской традиции домостроительства, но наряду с этим открыто и более крупное жилище, в котором сочетаются скандинавская и славянская традиции. Позднейшие дендродаты сооружений яруса IV находятся в диапазоне 809–839 гг., причем последняя дата совпадает с датой прибытия к Людовику Благочестивому послов народа Rhos, по происхождению свеонов, посланных правителем, именуемым «хакан»[39]39
Для определения поздней границы жизни в сооружениях яруса IV чрезвычайно важна хозяйственная постройка IIВ, сооруженная не ранее 838 г. Поскольку она не погибла в пожаре, а закончила свое существование естественным путем, следует полагать, что она дожила по крайней мере до конца 840-х гг.
[Закрыть]. В 830–840-х гг. расширяется заселенная площадь Ладоги: дома появляются, как установил В. П. Петренко, и на другом берегу Ладожки, на сохранившей древнее название Варяжской улице.
Выше яруса IV на Земляном городище залегает ярус V, он же горизонт Е2, фиксирующий краткий, но яркий период в истории Ладоги. Почти все сооружения этого времени гибнут в сильном пожаре, в том числе и сооружение IIБ, воздвигнутое прямо над постройкой IIВ. Дендродаты постройки IIБ (845–863 гг.) заставляют полагать, что она появилась не ранее 863 г. Конечно, другие постройки Е2 могли воздвигаться и ранее, но вряд ли раньше 850-х гг. В таком случае данный горизонт хронологически соответствует отмеченному в Житии св. Ансгария набегу датчан из Бирки в начале 850-х гг. на «далекий город в пределах славян», в котором естественно видеть Ладогу, а также сообщениям летописи о «варяжских данях» и «призвании Рюрика», условно помещенным под 859–862 гг.
У жителей этого периода продолжаются традиции изготовления и ношения «кривических» украшений и славянского домостроительства, однако на поселении строится большой длинный дом с очагом в центре, явно скандинавской традиции, и в этом доме обнаружена деревянная палочка с древнейшей в Восточной Европе рунической надписью-заклинанием (Старая Ладога… 2003: № 377). К этому горизонту относится каменная формочка для отливки, на одной стороне которой вырезана описанная выше форма для лунницы VI–VII вв., а на другой – форма для трехрогой лунницы (Старая Ладога… 2003: № 75), подобные кото-рой встречены в IX в. как у славян Великой Моравии в Подунавье, так и у скандинавов Балтики. Однако наиболее близкая к ладожской форма для отливки подобной лунницы найдена в шведской Бирке, что свидетельствует о тесных связях между двумя торгово-ремесленными центрами.
Целый ряд археологически фиксируемых событий в Ладоге, Приладожье и Поволховье падает на период 865–880 гг., сопоставимый со временем появления Рюрика по летописи и с сообщениями арабских авторов о болотистом «острове русов» на озере, т. е. о Рюриковом городище у Ильменя. В самой Ладоге это время отмечено чрезвычайно сильным пожаром в диапазоне 865–871 гг., после которого, как первая отметила Г. Ф. Корзухина, фиксируется снижение интенсивности строительства в следующем горизонте Е1 и некоторое запустение территории Земляного городища. В 860–870-е гг. зарывается новая серия кладов в Поволховье, а у истоков Волхова возникает военно-торговое поселение, известное как Рюриково городище, т. е. древнейший Новгород летописей и первоначальный Хольмгард («Островная усадьба») скандинавских саг.
Примерно в это же время производятся первые захоронения на низкой надпойменной террасе правого берега Волхова в урочище с печальным названием «Плакун», прямо напротив каменной крепости Рюрика в Ладоге. Типично скандинавские погребения этого могильника, некоторые по обряду сожжения в ладье, а также богатое погребение со скандинавскими чертами на вершине сопковидной насыпи южнее некрополя заставляют вспомнить сообщение летописи о могиле Олега в Ладоге, предполагающее, что его хоронили неподалеку от его родичей и сподвижников. Самое эффектное и выделяющееся погребение (курган № 11) могильника содержит несожженное тело знатного воина шестидесяти лет (вождя дружины?), положенное в просторный гроб, помещенный в обширную яму, перекрытую настилом из досок, затем камнями и еще выше – остатками сожженной ладьи. Дендродата этого сооружения – 890–895 гг. Насыщенная влагой почва прекрасно сохранила дерево, но полностью уничтожила многочисленные металлические вещи, дошедшие до нас лишь в виде окислов. Дело в том, что это погребение расположено в болотистой низине на окраине могильника и явно совершено тогда, когда возвышенная гривка, вытянутая вдоль Волхова, уже была занята более древними курганами. И действительно, на этой гривке находится курган № 7 – женское погребение, сопровождаемое обломками двух сделанных на круге кувшинов типа «Tating», орнаментированных накладками из олова, в том числе в форме креста (Старая Ладога… 2003: № 366). Эти сосуды датируются в пределах IX в. Прежде считалось, что они производились в низовьях Рейна, во Фрисландии, но находки в аббатстве Сен-Дени под Парижем позволяет допускать их производство в центральных областях Франкской империи. Полагают, что такие кувшины предназначались для применявшегося в литургии вина, а их появление в Швеции (в частности в Бирке) связано с христианской деятельностью святого Ансгария и его преемников. Бусы, найденные в этой могиле, позволяют ограничить время захоронения 870–900 гг.
Также в возвышенной части могильника обнаружен самый крупный курган-святилище № 6 без следов погребения. В центре кургана – остатки вертикального столба, к югу от него в яме лежал пустой деревянный ящик, а в кострище над ним была обнаружена уникальная серебряная подвеска в виде двурогой лунницы со сканным орнаментом (Старая Ладога… 2003: № 346), который находит полную аналогию в сканном орнаменте на круглых золотых подвесках из знаменитого монетно-вещевого клада в Хоне (Норвегия). Позднейшие монеты этого клада отчеканены около 850 г., часть содержащихся в нем вещей была изготовлена во Франкской империи; а окончательное формирование его состава связывают с набегом викингов на аббатство Сен-Дени в 858 г. Отличие подвески (лунница вместо диска), вероятно, связано с влиянием подвесок-лунниц, распространенных в Прибалтике (Хедебю, Бирка, Ладога) и воспроизводящих великоморавские прототипы; а среди последних известны и двурогие лунницы. Напомним, что ладожская форма для отливки лунницы найдена в горизонте Е2 (850-е – середина 860-х гг.). Таким образом, курган № 6 датируется в пределах 860–900 гг.
Некоторые вещи варяго-русского могильника Плакун говорят о его функционировании и в X в. Однако, поскольку все местные сосуды из могил (Старая Ладога… 2003: № 360, 367) сделаны вручную, его верхнюю дату следует ограничивать 930-ми гг., когда распространяется круговая посуда, или 950 г., после которого лепная посуда в Ладоге почти исчезает. В целом, хронологические рамки могильника, тщательно раскопанного В. И. Равдоникасом, Г. В. Корзухиной и В. А. Назаренко, определяются в пределах 870–950 гг., а скорее всего, между 880 и 940 г. Что касается раскопанного Е. Н. Носовым погребения воина с конями на вершине сопковидной насыпи, то оно совершено около 950 г. Весь обрядовый и вещевой комплекс могильника на Плакуне говорит об усиливавшихся в последней трети IX в. западных связях Ладоги.
Судя по находкам вещей из разрушенных погребений и по старым планам Ладоги, в ее окрестностях существовало еще несколько курганных могильников. Но неизвестно, были ли они аналогичны по обряду могильнику на Плакуне или же повторяли обрядность многочисленных кладбищ Юго-Восточного Приладожья к востоку от Волхова. Там, сначала в низовьях Паши и Ояти, неподалеку от Свирской губы Ладожского озера, а потом и на всей территории от Олонки до Сяси распространяется особая культура военизированного населения, явно сложившаяся в результате появления скандинавских колонистов в среде местных финноязычных племен (Старая Ладога… 2003: № 382–428). Древнейшие погребения этой культуры следует датировать, опираясь на работы О. И. Богуславского, 870–890 гг. Население Юго-Восточного Приладожья, вероятно, соответствует колбягам русских и кюльфингам скандинавских источников и представляет собой нечто вроде древнейшего казачества (только на северном пограничье Руси), возникшего здесь из слияния финских аборигенов и скандинавских пришельцев и постепенно славянизирующегося и христианизируемого в течение XI–XII вв.
Наряду с этими новыми типами погребальных сооружений, возникшими в связи с включением в местные процессы новых скандинавских пришельцев эпохи Рюрика, в Поволховье вплоть до начала XI в. продолжают возводиться грандиозные сопки, культово-погребальные памятники местной древней славяно-скандинавской Руси. Обряд захоронения в сопках распространяется в последней трети IX–X в. и в областях, занятых преимущественно славянами ильменскими и финноязычным населением, – в Приильменье, на Ловати, Мсте и Луге.
В 890-х гг. в Ладоге наблюдается активизация домостроительства, в частности, около 894 г. возводится огромный по тем временам (17 × 10 м) дом, принадлежавший, возможно, богатой купеческой артели, возглавляемой удачливым вождем. Отметим, что время его строительства, по данным дендрохронологии, практически совпадает со временем совершения описанного выше погребения в кургане № 6 (предводителя дружины?) на Плакуне. Дом этот стоит до 920-х гг., когда он сменяется другим подобным сооружением. В конце IX в. воздвигаются некие древо-земляные укрепления на Рюриковом городище. Возможно, к X в. относятся древние каменно-земляные укрепления, обнаруженные при раскопках в каменной крепости Ладоги. Все эти археологические реалии хронологически соответствуют эпохе Олега Вещего. Видимо, в это время и начинает складываться та ладожско-новгородская эпическая традиция, отголоски которой мы находим в русских летописях, и в скандинавских сагах.
Дальнейшие этапы истории Ладоги наметим пунктирно.
В 977 г. Ладогу, принадлежащую непосредственно князю Владимиру, берет штурмом и сжигает норвежский ярл Эйрик в отместку за то, что у Владимира ранее жил в большом почете юный Олав Трюгвассон, позднее первый христианский конунг Норвегии и соперник Эйрика в борьбе за престол.
В 1019 г. был заключен брак между Ингигерд-Ириной – дочерью первого шведского конунга-христианина Олава Свенского, и Ярославом Мудрым. Этот брак обеспечивал мир на Балтике. В виде свадебного дара Ингигерд был отдан «Альдейгьюборг и то ярлство, которое к нему относится», а ярлом-воеводой Ладоги княгиня избрала своего родича Рёгнвальда, до того ярла Вестеръётланда (Юго-Западная Швеция), обязанного выплачивать дань Ярославу и защищать север Руси от язычников. Видимо, Ладога и Южное Приладожье считались личным доменом великого князя, которым он мог распоряжаться по своему усмотрению.
Ингигерд была первой женщиной на Руси, которой были посвящены поэтические произведения – висы короля Норвегии Олава Харальдссона (святого Олава), когда-то ее жениха, с которым и позднее ее связывала любовь на расстоянии. Видимо, при дворе Ярослава и Ингигерд, а также их сына Владимира в Новгороде и при дворе Рёгнвальда в Ладоге происходило дальнейшее развитие ладожско-новгородского эпоса. Недаром, когда после смерти Владимира его сын Ростислав вступает в борьбу за новгородский стол со своим дядей Изяславом, он называет своего старшего сына, рожденного около 1056–1060 гг., именем Рюрик, чем, видимо, заявляет свои права на Новгород и Ладогу. Сама Ладога в последней трети XI в. опять переходит под непосредственное управление русских князей, а в области церковной жизни подчиняется киевскому митрополиту и новгородскому епископу.
Шведские королевские родословные и саги позволяют утверждать, что сыном Рёгнвальда был Стейнкель, ставший около 1056 г. королем Швеции и начавший осторожную христианизацию страны. В 1080-е гг. королем Швеции становится сын Стейнкеля Инге Старший, продолживший дело отца. В 1095 г. был заключен брак между дочерью Инге Кристин и князем Мстиславом-Харальдом (правнуком Ярослава и Ингигерд и сыном Владимира Мономаха), тогда новгородским князем, а позднее великим князем киевским. Около 1112 г. умирает тесть Мстислава конунг Инге, и, видимо опасаясь перемен в русско-шведских отношениях, Мстислав и ладожский посадник Павел строят в 1114–1116 гг. каменную крепость в Ладоге.
Около 1120-х гг. в Швеции прерывается дружественная по отношению к Руси династия, восходящая к Стейнкелю, а с 1140-х гг. появляются заметные осложнения в отношениях и со шведами, и с воинственным финским племенем емь. Контроль за торговой и военной обстановкой в восточной части Финского залива, на Неве и в Ладожском озере лежал на ладожском посаднике и на подчиненном ему флоте и дружине. Только в том случае, если ладожскому флоту не удавалось перехватить врагов на дальних водных подступах и враг подходил непосредственно к самой Ладоге, ладожане обращались за помощью к новгородцам, что и произошло в 1164 г. Шведы прорвались к Ладоге на 55 кораблях. Ладожане затворились в крепости с посадником Нежатою, а все дома вокруг крепости выжгли, чтобы противник не имел укрытия. Шведы пошли на приступ, но были разбиты так сильно, что отступили в Ладожское озеро к устью реки Воронаи. На пятый день (поразительная скорость!) после прихода шведов подоспел призванный ладожанами князь с новгородцами. Шведы были окончательно разбиты и потеряли 43 ладьи.
В новой ситуации функция Ладоги как морских «ворот в Европу» сохраняется, но при этом усиливается еще более ее функция военного форпоста Новгорода. Город начинает расти: увеличивается посад, возникают монастыри. Наиболее яркое свидетельство расцвета – бурное церковное строительство в Ладоге. В 1153 г. новгородский архиепископ Нифонт закладывает в Ладоге на Земляном городище соборную церковь Святого Климента, папы римского, равно чтимого и на Руси, и в Скандинавии. Но, судя по всему, еще раньше, в 1140-х гг., закладывается сохранившаяся доныне церковь Успения Богородицы. Около 1160–1180 гг. строится шедевр новгородско-ладожской архитектуры и греко-русской фресковой живописи – воинская церковь Святого Георгия в каменной крепости. Именно в Ладоге происходит сложение того типа храма и того стиля фресковой росписи, которые станут определяющимися в новгородско-псковской архитектуре и живописи конца XII–XIII в. В дьяконнике храма Святого Георгия создается первая на Руси живописная композиция на тему «Чудо св. Георгия о змие» – сюжет, который позднее, в петербургской период русской истории, становится составной частью государственного герба России. Однако на большинстве русских икон и позднее на гербе этот сюжет трактуется как беспощадная расправа святого с поверженным и поражаемым копьем гадом. В Ладоге же за основу взято апокрифическое сказание, известное на Руси в переводе с греческого уже в XI в., в котором рассказывается, что святой Георгий явился Божиим соизволением в город Гевал и спас царевну, отданную на съедение змею, которого святой усмиряет не силой оружия, но молитвой. Фресковая композиция, решенная в гармоничной золотисто-серебристой красочной гамме, в которую органично включен и усмиренный змей, словно убеждает в том, что мировое и земное зло должно побеждаться не беспощадным воинским натиском, а верой, молитвой и милосердием. Важное место в композиции занимает и женское начало – царевна, ведущая на своем пояске усмиренного змея к освобожденному от него городу. К сожалению, подобная христианская трактовка языческого мифологического сюжета в дальнейшем не получила развития в русской иконописи и не повлияла на трактовку образа святого Георгия на российском гербе.
В XIII в. в сферу военных действий между ладожанами и новгородцами, с одной стороны, и шведами и финским племенем емь – с другой, все более вовлекаются земли по обоим берегам Невы, причем центр этих действий постепенно смещается от истока Невы к ее устью, вплотную подходя к тем местам, где позднее возникнет Санкт-Петербург. При анализе письменных источников обнаруживается особая роль ладожан в противостоянии шведскому вторжению в приневские земли в 1240 г., завершившемуся знаменитой Невской битвой, в которой ладожане также составляли значительную часть русского войска. Не менее существенно участие ладожан в приостановке шведской агрессии в Приладожье в 1300 г., которая окончилась взятием и разрушением в 1301 г. построенной шведами крепости Ландскруны при впадении Охты в Неву.
В 1323 г. русские строят крепость на Ореховом острове у истока Невы и заключают «ореховецкий вечный мир» со шведами. Сооружение Ореховца отчасти лишает Ладогу функции военного форпоста. Одновременно увеличение осадки морских судов с XIV в. делает затруднительным их прохождение через невские Ивановские пороги, что уменьшает и роль Ладоги как «морских ворот».
Во время очередного наступления шведов в Приладожье в 1610–1617 гг. они строят на Неве, на месте разрушенной Ландскруны, крепость Ниеншанц, обрастающую городским посадом, и захватывает Ореховец, переименовывая его в Нотеборг.
В 1702 г. Ладога была базой, где концентрировались русские войска перед походом на Нотеборг (Орешек), взятие которого открывало путь вниз по Неве, что и привело к основанию в 1703 г. Петербурга. В 1704 г. Петр I перенес г. Ладогу ближе к Ладожскому озеру, где основал г. Новую Ладогу, и с этого момента и вплоть до настоящего времени древняя Ладога утратила статус города, превратилась в село и со временем стала именоваться Старой Ладогой. Видимо, Петр не ведал, что творит, не знал, что он лишает статуса города древнейшую столицу Руси, хотя можно предположить, что царь пожалел о своем решении, когда в 1713 г. ознакомился в Кенигсберге с Радзивилловским списком «Повести временных лет», с которого он велел сделать для себя копию и где он мог прочесть, что Рюрик первоначально «сел» в Ладоге.
Таким образом, столица Руси – России в 1703 г. вернулась почти на то же самое место, где она была еще 840 лет назад, только слегка сместившись поближе к морю. Ныне, в 2003 г., исполнилось 1250 лет непрерывной жизни Ладоги, и память о бурных событиях первоначальной истории Руси обрела некое иное, полное покоя, свободы и достоинства бытие в сохранившихся курганах и сопках, городищах и селищах, в их таинственном «культурном слое», в живущих особой жизнью пустующих, полуразрушенных или восстановленных храмах. И так естественно, что именно в этот год Ладога представлена выставкой в Государственном Эрмитаже, в самом центре своего юного потомка – Санкт-Петербурга, отмечающего свое 300-летие.
Колбяги [40]40
Ладога и Глеб Лебедев: Восьмые чтения памяти Анны Мачинской (Старая Ладога, 21–23 декабря 2003 г.): Сборник статей / Науч. ред. Д. А. Мачинский. СПб.: Издательство СПб. ИИ РАН «Нестор-История», 2004. С. 207–227 (совместно с В. С. Кулешовым). Вступительная часть статьи, освещающая историю открытия и отзывы на него в литературе, целиком принадлежит Д. А. Мачинскому.
[Закрыть]
В 1988 г. появилась статья Д. А. Мачинского, в которой на базе анализа и сопоставления данных русских, скандинавских и византийских письменных источников, топонимики и археологии обосновывалась соотнесенность приладожской курганной культуры с этносоциальной и территориальной группой населения, именуемой колбяги/kylfingar/κούλπιγγοι (Мачинский 1988). Это исследование впервые давало археологическую «плоть и кровь» ушедшему в небытие этносоциуму, просуществовавшему более трехсот лет и сыгравшему определенную роль в становлении Русского государства. За прошедшие годы не появилось ни одного серьезного отклика, ни одного системного подтверждения или отрицания, не говоря уже о дальнейшем развитии концепции. Особняком стоят работы Г. С. Лебедева, который сразу же – еще до публикации этого открытия – принял его как достоверность (Лебедев 1985: 216)[41]41
Краткая, но адекватная характеристика дана Г. С. Лебедевым населению этого района и в другой работе: «Южное Приладожье в летописную эпоху, видимо, занимали в западной [восточной, описка Г. С. Лебедева. – Д. М.] части (междуречье Сяси – Паши – Ояти) засвидетельствованные отечественными и иноземными письменными источниками „колбяги“, таинственный плод финноскандинавского синтеза [Мачинский 1989]» (Лебедев 2001: 32). Год статьи в ссылке Г. С. Лебедева указан неточно, правильно – [Мачинский 1988].
[Закрыть].
Остановлюсь лишь на отзыве о моей гипотезе в появившейся недавно статье о Юго-Восточном Приладожье. Отстаивая предложенный ранее В. А. Назаренко для населения этого района термин «приладожская чудь», авторы ее пишут: «Особенности развития, направленность культурных, экономических и политических связей при отсутствии в письменных источниках безусловных указаний на имя упомянутой общности позволяют условно называть ее приладожской чудью <…>. Использование этого достаточно нейтрального этнонима призвано подчеркнуть исторически сложившуюся обособленность и отличие формирующейся в Приладожье народности <…>. Существует и иная социально-культурная интерпретация этой общности, предлагаемая Д. А. Мачинским. Им предложен и другой термин для наименования этого населения – «колбяги» [Мачинский, Мачинская 1988]» (Назаренко, Селин 2001: 236).
К сожалению, основные положения этого текста дезориентируют читателя. Прежде всего в нем нет ссылки на какую-либо работу В. А. Назаренко, в которой была бы подробно и обстоятельно обоснована позволительность именования носителей приладожской курганной культуры «приладожской чудью»[42]42
Такой работы в действительности нет – хотя есть статья, у которой лишь название претендует на рассмотрение этого вопроса (Назаренко 1979).
[Закрыть]. В ссылке же на статью Д. А. Мачинского «[Мачинский, Мачинская 1988]» указана не та «базовая» работа, где достоверность его концепции подробно доказывается (Мачинский 1988), а другая, где о соотнесенности «колбяги ~ приладожская курганная культура» говорится лишь вкратце. Далее, интерпретация Мачинского – не «социально-культурная», а историческая, археологическая, топонимическая, этносоциальная и территориальная. Кроме того, термин «колбяги» не «предложен» Мачинским, а взят из многочисленных источников и давно вопиет о своей этносоциотерриториальной непривязанности. Наконец, этот «термин» – не просто «колбяги», а «колбяги/kylfingar/κούλπιγγοι», т. е. засвидетельствован он в трех языках.
К этому необходимо добавить, что концепция Мачинского – не «иная… интерпретация», а единственная системно обоснованная, поскольку отождествление приладожской курганной культуры с «приладожской чудью» (да и с весью) – это не «интерпретация», а отсутствие таковой и уход от проблемы – в частности, от признания ведущей роли скандинавского этнического компонента в формировании этой культуры. Письменные источники, прямо или косвенно освещающие события VIII–XII вв., никакой «приладожской чуди» не знают, не отражена она на территории приладожской курганной культуры ни в топонимике, ни в фольклоре. А чудь – далеко не «нейтральный термин»: для него в русских источниках есть четкая территориальная привязка – и она не в Приладожье.
Об «отсутствии в письменных источниках безусловных указаний на имя упомянутой общности». Во-первых, такие «безусловные» указания крайняя редкость для древних археологических общностей: нет таких «письменных» указаний, например, и на общепризнанное тождество поселений Ладога и Aldeigja. Во-вторых, задача историка – анализировать и сопоставлять разнородные источники: если Kylfingaland в скандинавском географическом сочинении отождествляется с Gardaríki (Русью), то это, очевидно, означает, что «земля колбягов» находилась у самого начала пути скандинавов в глубь Руси: по Волхову в Новгород или по Сяси в Волжскую Русь, – тем более что это подтверждается топонимами Колбяги, погост в Колбегах (XV–XVII в.) на втором из этих путей (на р. Воложбе, притоке Сяси), а о ее расположении на севере Руси косвенно говорит и рассказ «Саги об Эгиле» о kylfingar, собирающих дань на севере Фенноскандии! И наконец, хорошо известно, что на Сяси и севернее в X–XII вв. есть только одна археологическая «общность» – приладожская курганная культура.
Отметим, что до появления памятников этой культуры в конце IX в. никакой культурной общности I–IX вв. в Юго-Восточном Приладожье археологически пока не выявлено[43]43
За исключением сопок на Сяси, перекликающихся с сопками «руси» Поволховья, и одновременного им городища у с. Городище (750–930-е гг.), убедительно отождествленного с Алаборгом/Алуборгом скандинавских саг и упоминающегося в них в паре с Альдейгьей/Ладогой. К слову, Алаборг, наряду с «погостом в Колбегах», – второй древний скандинавский топоним в бассейне Сяси, существовавший на территории и, частично, в хронологических границах приладожской курганной культуры (о соотношении «погоста в Колбегах» с этой культурой см. в соответствующем месте настоящей статьи).
[Закрыть]. Гипотеза В. А. Назаренко о том, что один из типов погребальных сооружений приладожской курганной культуры восходит к «домикам мертвых» предшествующего финноязычного населения, весьма плодотворна (Назаренко 1988), но какой-либо «культуры домиков мертвых», предшествующей приладожской культуре, здесь не известно – хотя, несомненно, население здесь было.
Тех немногих, кто пожелает вдумчиво ознакомиться с аргументацией Д. А. Мачинского относительно соотнесенности приладожской курганной культуры с этносоциумом колбяги/kylfingar/κούλπιγγοι, мы отсылаем к следующим работам и страницам в них: Мачинский 1988: 90–103; Мачинский, Мачинская 1988: 52–55; Мачинский, Панкратова 1996: 52–54; Мачинский, Панкратова 2002: 38–40, 44, рис. 1, карта; Мачинский 2002а: 14. В этих работах есть неизбежные неточности, но в целом концепция и аргументация отражены в них адекватно. Аргументация, содержащаяся в указанных работах, естественно, не повторяется в настоящей статье (кроме нескольких кратких отсылок-напоминаний)[44]44
Базовая работа о колбягах 1988 г. опубликована в этом томе, см. выше.
[Закрыть].
Ниже речь пойдет об этимологии слова колбягъ, известного, как уже было сказано, из текста «Русской Правды». Разнообразие точек зрения на определение места и роли колбягов в этносоциальной структуре древнерусского общества и множество версий их происхождения, высказанных в литературе, впечатляет (специальный обзор см. в: Вилинбахов 1972). Наиболее значительный вклад в изучение «колбяжской проблемы» внесли П. А. Мунк, Ф. Миклошич, В. А. Брим, Е. А. Рыдзевская, М. Р. Фасмер, А. Стендер-Петерсен, Р. Экблом[45]45
Munch 1875: 437–444; Miklosich 1887; Брим 1929; Рыдзевская 1930; Briem 1929; Vasmer 1929; Stender-Petersen 1933; Ekblom 1933.
[Закрыть].
Не подлежит сомнению тесная связь древнерусского колбягъ с древнеисландским kylfingr, производным от основы kylfa «дубина, палка». Однако при сопоставлении приладожской курганной культуры с kylfingar/колбягами бросается в глаза одно странное обстоятельство. В соответствии с собственной этимологией древнеисландское kylfingar должно переводится как «дубинщики, „дубиноносцы“», – но в то же время носителей приладожской курганной культуры, живших в маленьких неукрепленных поселках, вдали от военно-торговых центров типа Ладоги, Смоленска/Гнёздова или Киева, из числа «сельских» жителей территории формирующейся Руси выделяет необычайно большое количество мечей эпохи викингов, обнаруженных в их курганных могильниках. Судя по этому, естественнее было бы именовать их «меченосцами».
Для понимания глубинных истоков этого противоречия обратимся к «Германии» Тацита (98 г. н. э.). После подробного рассказа о свионах в Скандинавии Тацит, описывая жителей юго-восточного – «янтарного» – побережья Балтики эстиев (aestii), сообщает: «Они редко пользуются железным оружием (ferrum „железо, железное орудие, острие стрелы, меч“), часто же дубинами (fustis „дубинка, палка“)». Вариант перевода: «Меч у них – редкость, часто пользуются дубинами» (Tac. Ger. 45). Описание Тацита отражает реальность второй половины I в. н. э., когда был проложен «янтарный» торговый путь от Карнунта на римской границе в Среднем Подунавье через земли германцев к эстиям. По данным археологии, эстиям в это, равно как и в более раннее, время было отлично известно железное оружие, в большом количестве представленное в погребальных памятниках западнобалтийских культур. Видимо, в тексте Тацита проявляется стереотип отношения германцев (в том числе и скандинавов) к своим восточным соседям, представлявшимся им невоинственными и более примитивными народами, чем те реально были – отсюда и возникновение образа «народа, вооруженного дубинами».
Напомним, что имя эстиев в I–IX вв. обозначало у германцев предков пруссов и других западнобалтийских народностей, но к концу I тыс. оно распространилось и на финноязычное население восточной Прибалтики вплоть до Финского залива, за которым и закрепилось вплоть до наших дней (ср. эстонское eestlased «эстонцы»).
А. Йоханнессон (автор этимологического словаря исландского языка) не находит для kylfingr иного толкования, нежели «keulenträger || дубинщик, „дубиноносец“», сопровождая его похожей на поговорку фразой: «die bauern und angehörigen der niederen volksschichten trugen keulen, die übrigen schwerter (sverðberendr) || крестьяне и люди низших сословий носили дубины, остальные – мечи (древнеисландское sverðberendr „меченосец“)» (Jо́hannesson 1951–1956: 369). По-видимому, противопоставление «дубины» и «меча» в древнесеверной культуре имело определенное символическое значение, без которого было бы невозможно и появление уничижительного прозвища austkylfa (дословно: «восточная дубина») «mann aus dem östlichen Norwegen || человек из Восточной Норвегии» (Jо́hannesson 1951–1956: 369) или даже «easterling || восточный житель» (Cleasby, Vigfusson 1957: 35b). Несомненно, подобное отношение к восточным соседям сложилось на берегах Балтики и лишь затем – при расселении скандинавов в Норвегии и Исландии – распространилось на собственных сородичей, живущих восточнее.
Как уже многократно отмечалось в литературе, помимо древнерусской и исландской традиций, колбяги/kylfingar известны также и в византийской, где они представлены формой κούλπιγγοι – произносившейся по-среднегречески как [kúlbiŋgi]. Чтобы синхронизировать обе формы, В. А. Брим и А. Стендер-Петерсен в качестве источника греч. κούλπιγγοις рассматривали германскую праформу древнеисландского kylfingr – *kulb-ing-az, идеально соответствующую κούλπιγγοις (Брим 1929: 280; Stender-Petersen 1933: 181–182). Такой подход абсолютно правомерен, и мы его разделяем.
Чрезвычайно значим вывод о связи названия кюльфингов с типом их вооружения: помимо сопоставления с kylfa «дубина, палка», предлагалось еще сопоставление с kolfr/kо́lfr «стрела». В авторитетных словарях данные лексемы толкуются следующим образом:
kylfa «I. club; II. the club-formed beak on a ship’s stem || I. дубина; II. вытянутый в виде дубины нос корабля» (Cleasby, Vigfusson 1957: 366a); «keule || дубина» – соответствует норвежскому диалектному kylla, восточношвед. kyla, датскому kølle, древнедатскому kölve, kylve (Jо́hannesson 1951–1956: 368); «1. Keule; 2. oberes Stück des Vorderstevens || 1. дубина; 2. верхняя часть форштевня» (Baetke 1976: 353).
kylfi «= kylfa II» (Cleasby, Vigfusson 1957: 366a); «= kylfa» (Jо́hannesson 1951–1956: 368); «= kylfa 2» (Baetke 1976: 353).
kо́lfr «club; the tongue in a bell || дубина; язык в колоколе» (Cleasby, Vigfusson 1957: 353b); «stumpfer Pfeil, Bolzen; Klöppel (einer Glocke) || тупая стрела, болт; язык (колокола)» (Baetke 1976: 333).
kolfr «pflanzenknollen, bolzen, glockenschwengel, stumpfer pfeil || расти-тельный клубень, болт, язык колокола, тупая стрела», соответствует нор-вежскому kolv, древнедатскому kolv, шведскому kolv[46]46
Современное шведское kolv имеет следующие значения: «приклад ружья; поршень; баллон, колба; початок» (Миланова 1998: 297а).
[Закрыть] (Jо́hannesson 1951–1956: 368).
Приведенные для основы kolfr/kо́lfr толкования не оставляют сомнения в производности всех ее значений от семы «удлиненный тупой предмет», поэтому ошибочно приписывать термину kylfingr особые семантические компоненты типа «стрела» или «язык колокола», как это предлагал А. Стендер-Петерсен: kylfingar «люди, созванные ударами колокола» (Stender-Petersen 1933: 190–191; см. об этом также в справке Е. А. Мельниковой 1986: 209–210). В то же время, учитывая взаимную этимологическую связь kylfa и kolfr/kо́lfr (обе основы восходят к представленному во всех германских языках архетипу *kulb-/*klub– «дубина»[47]47
Вот некоторые примеры: средненижненемецкое kolve и нидерландское kolf, древневерхненемецкое kolbo и немецкое keule, шведское klubba и английское club – все со значением «дубина».
[Закрыть]– Falk, Torp 1910: 536–537, 560; Hellquist 1922: 337; OED: club), сопоставление kylfingr < *kulb-ing-az с рефлексами основы *kulb- – несомненно, правильно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































