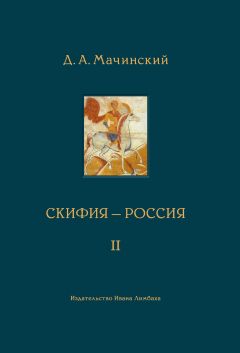
Автор книги: Дмитрий Мачинский
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 37 страниц)
Неразрывно связанные с личностью Иоанна IV после ее «перерождений» в 1560 г. и особенно в 1564 г. уверенность в божественности своей власти, узаконенный разбой от имени государя, пыточные казни и убийства и создали тот Образ Страха Государева (подменяющего Страх Божий и почти сливающийся с ним) и Вседозволенность для Государя (как и для ничем не ограничиваемого Бога), который в дальнейшем стал чуть ли не основным двигателем российской истории, особенно в поворотные ее моменты.
После ухода наиболее свободолюбивой части населения в казаки и уничтожения Иоанном III элементов республиканского устройства и политической самостоятельности Новгорода, Пскова и Двинской земли, зверства Иоанна IV не встречали даже тени физического сопротивления. Более того, в решающие моменты все слои населения раболепствовали и умоляли царя и далее унижать и уничтожать их. На уровне совести, выраженной в Слове, его мерзостям противостояли внутри России лишь отдельные личности: наиболее ярко князь Репнин (после «перерождения» 1560 г.) и особенно последовательно и мужественно митрополит Филипп (после «перерождения» 1564 г.), в решающий момент преданный и отданный на расправу царю всей верхушкой церковной иерархии. В остальном – никакого протеста, лишь покорное рабское приятие Зла, исходящего от Государя якобы по воле Бога[97]97
Героическое сопротивление имело место лишь однажды. В декабре 1569 г. Иоанн IV вместе с опричниками выступил в поход на Новгород, уничтожая по пути мирное население подвластных ему городов. В это время в Отроче-монастыре доживал свои дни святой Филипп, лишенный Иоанном сана митрополита. К нему был послан Малюта, якобы для того, чтобы получить благословение (похода на Новгород?). Старец отказался и был задушен Малютой. Затем Иоанн, достигнув Торжка, решил перебить заключенных в башне крымских и ливонских военнопленных. Но крымские татары, окованные цепями, оказали сопротивление, тяжело ранив Малюту и едва не ранив Иоанна, лично участвовавшего в убийстве пленных. Итак, героями этого чуть ли не единственного случая физического сопротивления Злу были не русские, а крымские татары, видевшие в Иоанне не исполнителя воли Бога, а просто подлого убийцу. Затем последовал зверский погром в Новгороде, уже со времен Иоанна III лишенном почти всех своих привилегий и не представлявшем никакой опасности для безграничного самовластия царя.
[Закрыть].
Главным итогом царствования Иоанна IV было окончательное (до настоящего времени) вживление в энергетическое поле национального самосознания и в генетическую память великороссов Образа страха и Вседозволенности, присущих верховной власти по воле Бога или в силу постигнутой властью «исторической закономерности». Это выражено и в фольклоре, возвеличивающем образ «грозного царя», и в литературе, романтизирующей и приукрашивающей его, без понимания, что пресловутые «приступы раскаяния» Иоанна были всего лишь гарниром к блюду людоеда-сыроядца.
Несомненно, зверства Иоанна не объясняются лишь «психологическими травмами детского и юного возраста» (как пытался показать В. О. Ключевский), а имеют укорененность в том Пыточном начале, которое, наряду с Любовью и безграничным Обаянием Жизни, определяет ход человеческой истории. Иоанн IV был не «родомыслом», а «человекоорудием Зла». А для противостояния Пыточному началу (вместо приятия его) человечеству даны Совесть и, в неких пределах, кои нам неизвестны, – Свобода Воли.
Интересно, что сформулированная Тацитом дилемма, относить ли венетов к Европе (германцам) или к Азии (сарматам), была также значима и для Иоанна IV. Но поскольку страх и разбой стали уже орудием центральной власти, и отношение к выбору в пользу Европы или Азии у Иоанна было уже не пассивным, а активным. Иоанн упорно стремился стать европейским государем, но некое предначертание («Русский бог», по Пушкину?) непрестанно подталкивало его в сторону Азии (начинавшейся, по представлениям того времени, за Доном). Попытки стать (через брак) родственником английской королевы, или же королем Речи Посполитой, или же выйти на побережье Балтики, захватив Ливонию, выражали страстное желание каким-либо образом стать причастным к настоящей Европе, но регулярно кончались полной неудачей. Зато завоевание Казанского и Астраханского ханств ему вполне удалось. А в конце жизни, после всех катастрофических поражений казаком-разбойником Иваном ему вдруг было неожиданно преподнесено (от имени Строгановых и Ермака) Кольцо Сибирского царства.
После этого Россия неуклонно, с коротким перерывом на Смутное время, продолжила разрастаться на восток, пока не достигла тихоокеанских морей и не заключила в 1689 г. Нерчинский договор о разграничении владений с Китаем. И в этом же году Петр I стал реально единодержавным властителем России. После исполнения предначертанного «азийского задания» пришел срок снова, как в VIII–X вв., приникнуть к живительным морским водам Европы – к Балтике.
Однако все действительно великие реформы Петра совершались с опорой на Пыточное Начало, реализованное во внедренном в народное сознание образе «Страха государева». В известной мере одним из итогов и как бы оправданием тех жестокостей, с помощью которых Петр «прорубал окно в Европу», являются русская литература, наука, философия и искусство, в результате европеизации жизни достигшие расцвета в конце XVIII – начале XIX в. и представляющие огромный вклад в общемировую и европейскую систему миропознания и самопостижения человечества.
Особое место в культуре России этого времени занимает феномен Пушкина. Сам Пушкин, вполне искренно возвеличивающий Петра в своих полуофициозных стихах и поэмах, в личных записях ужасался его жестокости, особенно в отношении сына Алексея. В неоконченной поэме, представляющей переход от прерванного на полуслове (из страха перед Николаем I) «Евгения Онегина» к «Медному всаднику», в родословной ее героя Езерского упоминается, что «При императоре Петре / один из них (предков героя. – Д. М.) был четвертован / За связь с царевичем». А в самом «Медном всаднике» бедный Евгений, незаметный апостол любви, в проблеске ясновидения грозит кулаком и произносит таинственное «Ужо тебе!» не только Петру, но и всему просматривающемуся за ним порядку мироздания (Богу? Року?), который равнодушно раздавливает любовь маленького человека. Пушкин во всем потоке его творчества, с одной стороны, признает Петра творцом обновленной России, с другой, дает понять и Петру, и Року, что он не приемлет их законов и способов действия по отношению к личности («Медный всадник», 1933 г.; «Памятник» (первый вариант), 1936 г.).
«Страх государев», сковывавший свободу личности при Павле I и Николае I, после поражения в Крымской войне неожиданно ослабевает, и наступает эпоха великих реформ Александра II. Но стихия устрашения и казней, ушедшая из-под контроля самодержавия, тут же переходит к появляющимся в это время революционерам, которые развязывают террор против царя, его родичей и верховных представителей власти. Однако в этот период ослабления удушающей хватки государства (1856–1917 гг.) и происходит наивысший взлет российской культуры, становящейся фактором всемирного значения, а также возникают элементы осмысленной самоорганизации общества и, пусть слабые, демократические органы управления государством.
А затем, после переворота в октябре 1917 г., террор становится основным средством удержания власти большевиками и их лидерами, действующими так якобы от имени народа и в силу того, что они единственные, кто постиг законы развития человечества и поступает в соответствии с ними. «Свобода есть осознанная необходимость» – закономерность и необходимость становятся атеистическим эквивалентом Бога и Судьбы. Апогея эта система террора достигает при Джугашвили, преобразователе и применителе в конкретных условиях европейского учения Карла Маркса: такого длительного, системного и масштабного разгула Ужаса и Пытки не знает европейская и российская история.
Отметим особую любовь Сталина к Александру Невскому, Иоанну Грозному и Петру I. Несомненно, основные инструменты террора: опричнина, Тайная канцелярия, а также ЧК и ГПУ-КГБ – родственные по своей прроде организации, совершенствующиеся в России от века к веку. Но есть между названными властителями и более глубокое сродство. Показательно, в частности, трагическое развитие темы сыноубийства в их биографиях. Александр Невский «убивает» своего старшего сына Василия лишь на политическом уровне: после его изгнания из Новгорода и изъятия из Пскова он уже не играл никакой роли в политике ни при жизни отца, ни после его смерти. Иоанн IV уже реально убивает своего старшего сына, но, может быть, единственный раз в череде совершенным им убийств искренне раскаивается в содеянном (возможно, потому, что этот акт был в известной мере самоубийством: сын по природе и по воспитанию был жутким alter ego самого Иоанна IV). Петр I уже не только отдает приказ убить сына, но перед смертью еще и лично пытает его – следов раскаяния незаметно. К сожалению, русская литература и история вплоть до середины XX в. лишь походя затрагивает эти три «эпизода», а всю вину за грех «царевичеубийства» с легкой руки великого Карамзина возлагает на невинного Бориса Годунова, сделавшего многое для укрепления позиций России и в Европе, и в Азии.
Что касается Сталина, этого «отца народов», то он совершал убийство тела и души у всех своих «детей», уничтожив или психологически раздавив в несколько приемов огромное количество лучших, наиболее одаренных и деятельных граждан во всех слоях и подразделениях российского общества. В итоге был успешно совершен дьявольский эксперимент по энергетико-генетическому перерождению всего населения страны, от которого она не может оправиться до сих пор, о чем, в частности, свидетельствует возрождение «культа Сталина» и расцвет ксенофобии, как бы идущие снизу, из гущи «народных масс» и, как ни печально, отчасти молодежи, но тайно инспирируемые сверху (навязанный стране сталинский гимн, антипольская, антиукраинская и антигрузинская кампании и т. д.).
Особо печально, что и лучшие представители русской литературы иногда героизировали пыточное насилие и разбой, как идущие сверху, так и снизу. Вспомним А. С. Пушкина: «Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Что не помешало ему, знавшему все об ужасах и зверствах «пугачевщины», написать «Капитанскую дочку», где омерзительный садист облагорожен и «европеизирован» по образцу «благородного разбойника» из романа «Роб Рой» Вальтера Скотта, откуда происходят и многие сюжетные линии и образный строй «Капитанской дочки» (как это доказала в школьном сочинении А. Д. Мачинская). По этому же пути романтизации и героизации низости, подлости и пытки идут, к примеру, «народные песни» и стихи прекрасных поэтов (Волошин, даже Цветаева) о Стеньке Разине («эпизод» с персидской княжной и прочие зверства).
Ужасает постоянная тенденция, прослеживаемая даже у больших писателей и поэтов придать некую глубокомысленную значительность, возвеличить, облечь в красивые одежды то, что ныне нуждается лишь в горьком осознании, безоговорочном осуждении и длительном изживании.
<…>
Постоянное возражение: а в Западной и Центральной Европе было тоже немало жестокостей в VI–XX вв. Но, во-первых, начиная с XVI в., они уступают по масштабу российским, во-вторых, самое ужасное их проявление – гитлеризм – был направлен преимущественно против этнически и политически «чужих», тогда как более длительный по срокам сталинизм был обращен против почти всех слоев своего народа. Кроме того, в собственно Европе происходили такие масштабные социально-экономические, политические и религиозные глубинные трансформации, которые и не снились Руси-России. И главное, запредельные проявления жестокости в Европе (Крестовые походы, еврейские погромы, инквизиция, фашизм, холокост) были глубоко осознаны, осуждены и изживаются в странах Европы, тогда как у нас все обстоит иначе.
Единодержавие, мощь и монолитность России позволяли ей иногда играть роль корректора европейской истории. Правда, это наиболее ярко проявлялось в относительно «вегетарианские» эпохи. Так, разгром Наполеона в войне 1812–1814 гг. избавил Европу от имперского варианта развития, а целая серия войн и дипломатических усилий в XIX в. привели к освобождению Балканского полуострова от владычества Османской империи. Возможно, сюда же следует отнести участие России в Первой мировой, не позволившее германскому империализму и его союзникам стать доминирующей силой в Европе и на Ближнем Востоке.
Ни в коем случае нельзя причислять к этому ряду победу СССР (вместе с союзниками) над фашистской Германией. Во-первых, Сталин и его мафия сами подтолкнули Германию к началу Второй мировой, заключив пакт Риббентропа – Молотова о разделе Европы, во-вторых, Россия немедленно сама вступила в мировую войну на стороне Германии, нанеся удар в тыл Польши и начав позорную войну против Финляндии, в конечном счете обеспечившую полную пыточную блокаду Ленинграда, поскольку из вполне нейтральной Финляндии Сталин сделал врага и союзника Гитлера. В-третьих, война закончилась оккупацией стран Центральной и Восточной Европы и насильственным насаждением там мертвой системы «реального социализма». Так что, похоже, роль «корректора европейской истории» уже сыграна Россией до конца.
* * *
В дополнение и отчасти в противовес сказанному выше остановимся на фиксируемой Кл. Птолемеем цепочке народов от Балтики до Черноморья, где центральное место занимают ст(л)аваны, именуемые Тацитом венетами. Эта цепочка явно соответствует речному Немано-Днепровско-му пути контактов, реальность которого подтверждается Маркианом Гераклейским и Аммианом Марцеллином и в особенности археологией. Путь этот пролегал севернее и в обход зоны «обоюдного страха» между германцами и сарматами и служил и для торговых, и для «дипломатических» межплеменных контактов, и для миграции отдельных групп населения – ремесленников и хранителей сакральных знаний и мифов, а следовательно, для распространения религиозных представлений, магии и обрядов. Полагаю, что известный скандинавский миф о приходе Óдина и богов-асов от низовьев Дона в Скандинавию связан с движением людей, идей и образов именно по этому пути, – этой темы последним касался М. Б. Щукин.
Эта функция – быть связующим звеном при различных контактах между Западом и Востоком, между собственно Европой и Азией – также просматривается в узловые моменты российской истории.
В середине IX в. русы, по сообщению арабоязычного перса Ибн Хордадбеха, спускаясь с севера, из Приладожья и Приильменья, по рекам и через волоки к Каспию, привозили на его южные берега и далее на верблюдах в Багдад знаменитые франкские мечи, изготавливаемые в основном на Рейне, и высококачественные таежные меха. По другим источникам, в IX–X вв. в страны Халифата руссами поставлялись также многочисленные рабы, преимущественно девушки. Позднее, с начала X в. был проложен также и путь через Волжскую Болгарию прямо в Среднюю Азию, в Хорезм. Тогда же русы пытаются силой захватить постоянные плацдармы на приморской территории современного Азербайджана и Северного Ирана. Символично, что древнейшее свидетельство о торговле руссов в Передней Азии говорит о поставке оружия на территорию нынешнего Ирана и Ирака! Много ли изменилось с тех времен?
Собирание дани в виде мехов с финноугорских народов таежной зоны от Ладоги до Урала с последующим сбытом этих мехов и в Северной и Западной Европе, и на востоке, в азиатской части Арабского халифата, и в Византии являлось важнейшим фактором в создании севернорусскогопротогосударства VIII–IX вв. со столицами в Альдейгье-Ладоге и в Невагарде – Рюриковом городке. Позднее включение северо-восточных земель вплоть до Зауралья в состав сначала Новгородской земли, а затем Московского государства привело к первичному покорению Ермаком Западной Сибири и к основательному освоению ее при Борисе Годунове. А затем казаки и поморы, отчасти взаимодействуя с центральной властью, а иногда на свой страх и риск к середине XVII в. осваивают всю Сибирь и Дальний Восток до Чукотки и Приамурья. На присоединение к России всей территории от Урала до тихоокеанских морей ушло от силы 70 лет.
Это беспримерное движение в холодную Сибирь как бы оправдывалось желанием добыть у туземцев как можно больше мехов, так много, что они потом гнили в царских и боярских хранилищах в Москве и лишь часть их утилизировалась или отправлялась на Запад. В этом движении чувствуется нечто превышающее экономические и политические интересы. Добыча золота, алмазов и других ископаемых, несомненно, увеличивала мощь России. Но настоящее значение этого освоения необозри-мых пространств обнаружилось лишь в XX в. Во-первых, сейчас Россия ведет с Западом выгодную торговлю нефтью и газом из Западной Сибири, заодно экономически ставя в зависимость от планов и инстинктов своих властителей страны Западной, Центральной и отчасти Восточной Европы. Но и это, пожалуй, не главное. По этому транссибирскому пути Россия вооружила Китай (и сопредельные с ним страны) марксизмом и социализмом, произведенными в Европе, трансформированными в СССР, принявшими в Китае форму маоизма, а затем, в настоящее время, разбавленными элементами капитализма. Вместе с марксизмом на восток шло (вплоть до недавнего времени) и лучшее советское и российское вооружение, и в итоге Китай стал второй по экономической мощи, политическому весу и военному потенциалу (если исключить ядерное оружие) державой земного шара. Последствия этого трудно предсказать, но похоже, Россия и здесь до конца выполнила свою роль посредника, и ей остается лишь выбирать между союзом с североатлантической цивилизацией или с Китаем и Ираном. Создается впечатление, что ее правители выбрали второй вариант.
Cкифия – Россия, а не Россия – Евразия[98]98
Этот текст с подзаголовком «Ключевое эссе», был написан Д. А. Мачинским для Введения к сборнику избранных работ, замысел которого он вынашивал. Поскольку сформулированные в нем наблюдения дополняют и в каком-то смысле подытоживают выводы двух последних больших статей, объединенных в Эпилоге (см. примеч. ред. на с. 386 наст. изд.), нам показалось уместным изменить первоначальный замысел и поместить это эссе в заключении тома.
[Закрыть]
Есть один факт, который властно господствует над нашим историческим движением, который красною нитью проходит через всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер, который является в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия, и истинной причиной нашего умственного бессилия: это – факт географический.
П. Я. Чаадаев. «Апология сумасшедшего», 1837
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?
А. С. Пушкин. «Клеветникам России», 1831
В моменты исторических потрясений силовое поле государственно-географического единства, именуемого Российской империей, начинало говорить устами своих величайших поэтов образно, отчетливо и откровенно. Иногда же емкие поэтические формулы выражали протест одаренной, чуткой и отважной личности против жестокостей и подлостей, совершаемых во имя «интересов государства» (зачастую с одобрения или при попустительстве большинства народа). Строки А. С. Пушкина, вынесенные в эпиграф и вызванные польским восстанием 1830–1831 гг., рельефно выражают лишь имперский уровень его сознания. Но нас они здесь более интересуют в географическом и геософском плане. Текст создает впечатление огромности и цельности территории того государства и того этноса, голосом коих становится поэт. Главное сказано в первой строке: Пушкин отчетливо сознает, что Россия – не Европа. И это говорят не «клеветники России» (депутаты парламента Франции, сочувствовавшие полякам), а сама Россия устами своего лучшего поэта.
Протяженность страны с севера на юг обозначена словами «от Перми до Колхиды». Но особенно интересно обозначение юго-восточных границ – до Великой Китайской стены. Границы Российской империи не достигали стены, но по существу Пушкин прав в интуитивном определении юго-восточной границы той географически цельной гигантской территории, большую часть которой с середины XVII в. занимала непрестанно разрастающаяся Россия[99]99
В появлении образа Китайской стены сыграл роль и личный печальный опыт Пушкина. Еще до написания приведенных строк «невыездной» поэт неудачно пытался получить разрешение на поездку к Китайской стене в составе научной экспедиции.
[Закрыть]; и в этом случае поэт предвосхищает представление о границах Евразии-России и евразийцев, и автора данного эссе о границах «Скифии» как географо-исторической реальности; об этом речь пойдет далее.
Весьма показательно, что, начав с жесткой оппозиции по отношению к Европе и затем очертив пределы России, поэт даже намеком не определяет в этом стихотворении границу между Россией и этой «французско-польской» Европой. Просторы России в западной ее части как бы обозначены строкой «От финских хладных скал до пламенной Тавриды» – но это всего лишь пространство между Петербургом и Перекопом, включающее поречье Днепра и Киев. Видимо, при определении западной границы собственно России у Пушкина возникали некие историко-географические затруднения, а включить в ее пределы Польшу с Варшавой поэт не осмелился, даже находясь в состоянии имперского запала. Хотя к подобному решению проблемы Пушкин внутренне склонялся: в письме к Е. М. Хитрово, дочери М. И. Кутузова, Пушкин с нескрываемой симпатией излагал следующее: «Известны ли вам бичующие слова фельдмаршала, вашего батюшки? При его вступлении в Вильну поляки бросились к его ногам. Встаньте, сказал он им, помните, что вы русские…» И далее о восставших поляках: «…начинающаяся война будет войной до истребления – или, по крайней мере, должна быть таковой» (9.XII. 1830). Однако вывести подобные взгляды на уровень поэтических образов и формул Пушкин все же не посмел[100]100
Впрочем, однажды почти проговорился: «Уж Польша вас не поведет: / Через ее шагнете кости!» (Бородинская годовщина», 1831 г.).
[Закрыть], и в стихотворении на взятие Варшавы милостиво пообещал: «Мы не сожжем Варшавы их», признавая этим, что Варшава все же не русская. Возможно, его останавливала вероятность прочтения этих стихов единственным поляком, мнением которого Пушкин дорожил, – Адамом Мицкевичем.
В этом отношении дальше пошел Ф. И. Тютчев, создатель религиозно-философских элегий непревзойденной глубины и одновременно дипломат, начинающий стихи на взятие Варшавы таким сравнением: «Как дочь родную на закланье / Агамемнóн богам принес <…>. Так мы над горестной Варшавой / Удар свершили роковой, / Да купим сей ценой кровавой / России целость и покой!» (1831 г.). Здесь достойно внимания не только уверенное включение Варшавы (и, следовательно, Польши) в «целость» России, но и образное приравнивание самой России, номинально христианской державы, к языческому басилевсу, «пастырю народов» Агамемнону, а Варшавы – к его дочери Ифигении, приносимой в жертву языческому божеству. Тютчев, правда, подзабыл, что тогда, в древности, само языческое божество ощутило недопустимость подобной жертвы и спасло деву, а ныне, в 1831 г., дело кончилось реальным «закланьем» Варшавы (дочери России???), совершенным христианской (?) империей и воспетым имперским поэтом, формально христианином. Более того, Тютчев договаривает в этом стихотворении то, о чем Пушкин решился сказать лишь в частном письме: из текста следует, что Тютчев уверен в окончательном уничтожении Польши как самостоятельной нации и государства, от которых остался лишь пепел, и в порыве благородства обещает: «Твой пепл мы свято сбережем». Тема Польши, убиенной навсегда ради «целости и покоя» России, не оставляет Тютчева до конца жизни и вновь звучит в стихах на новое восстание поляков в 1863 г.: «В крови до пят мы бьемся с мертвецами, / Воскресшими для новых похорон».
Будем благодарны Тютчеву за откровенное выявление в выразительных образах и емких словесных формулах тех сторон имперского сознания, о которых обычно умалчивают или говорят полуправду[101]101
Краткое пояснение. С детства развитие моего миро– и самосознания в большой мере определялось накатывавшими на меня волнами русской поэзии. В зрелые годы я обрел счастье своего особого, личного постижения поэзии А. С. Пушкина и Ф. И. Тютчева и с той поры пью ее, омываюсь ею, вопрошаю ее, воспаряю с нею и… ужасаюсь бесконечно жестокими свидетельствами и образами, порожденными имперским уровнем сознания несравненных поэтов, иногда подпадающих под воздействие мощного «силового поля имперства» и становящихся его искренними выразителями, разглашающими и то, что сама имперская власть и стихия великодержавного сознания предпочитают скрывать.
Поразительно и поучительно, как Пушкин и Тютчев в тот же период их творчества, когда возникли цитированные строки, создают глубочайшие шедевры, где облекают гармонией саму мировую бездну и предвечный хаос, являющие им себя особенно явственно в ночные часы. Лучшие стихи Ф. И. Тютчева подобного рода и написаны в диапазоне 1829–1835 гг., а цитированные выше – в 1831 г.
И еще. Несмотря на польское звучание моей фамилии, во мне нет польской крови (по крайней мере, считая до четвертого колена, мои предки по отцовской линии великороссы, крещенные по православному обряду). По материнской линии, кроме русской, во мне есть и шведская, и греческая кровь, что в еще большей степени позволяет мне ощущать себя потомком тех «росов» («руси»), которые и проложили путь «из варяг в греки». А само этническое имя «великоросс» я воспринимаю в ракурсе великой ответственности России за судьбу всех народов (включая собственный) и государств, которые она вобрала в себя.
«И чувствую безмерную винуВсея Руси пред всеми и пред каждым».М. Волошин. «Россия», 1924 г. Если и не вину, то ответственность – в том числе за судьбы Польши и поляков с конца XVIII в. до конца XX в. Главная ответственность за историческую трагедию Польши лежит (если не считать тех сил, что направляют мировые процессы) на самих поляках (как и на любом другом народе за историю своей страны). Но это – дело поляков, а нам, русским и великороссам, надо осознать свою долю ответственности за все происшедшее с Польшей, когда она волею судеб стала частью России, а позднее – частью «социалистического содружества» под контролем СССР.
[Закрыть].
В 1833 г. в «Медном всаднике» Пушкин дает общеизвестную формулу: «Природой здесь нам суждено / В Европу прорубить окно, / Ногою твердой стать при море», вновь исключая Россию из Европы и утверждая природный характер разделяющей их границы, в данном случае – морской. К слову, одним из импульсов к написанию «Медного всадника» была необходимость нейтрализовать свидетельство Мицкевича, передавшего в стихотворной форме слова Пушкина о конной статуе Петра I, в которых присутствует следующий образ: «Скоро блеснет солнце свободы, и западный ветер согреет эту страну». Природная граница по побережью Балтики явно представляется Пушкину чем-то вроде стены, потому что только в стене можно «прорубить окно» (даже не дверь и не ворота). Скрытое печально-ироничное отношение к этому образу (обычно воспринимаемому «на ура») «невыездной» Пушкин обозначил в примечании к «Медному всаднику»: «Альгаротти (итальянец, посетил Россию в 1739 г. – Д. М.) где-то сказал: Петербург – это окно, через которое Россия смотрит в Европу». Действительно, в окно можно только смотреть, но не выходить и не выезжать через него.
Тема границы России и возможности хотя бы однажды оказаться за ее пределами была душевной болью Пушкина. В «Путешествии в Арзрум» Пушкин пишет: «Арпачай! Наша граница! <…>. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видел я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России» (1829–1835 гг.).
Примечательно, что при таком интенсивном отношении к теме границы Пушкин во всех стихах и письмах, связанных с польским восстанием 1830–1831 гг., никак не обозначает западную, сухопутную границу со стороны России. И лишь слабый намек на эту природно-историческую границу содержится в стихах «Бородинская годовщина», написанных в 1831 г., после взятия Варшавы. В них поэт вспоминает годовщину Бородина: «Шли же племена, / Бедой России угрожая; / Не вся ль Европа тут была?» – и далее, переходя к событиям 1831 г. и обращаясь к этой «Европе», явно причисляет к ней и Польшу: «Ступайте ж к нам: вас Русь зовет! / Но знайте, прошеные гости! / Уж Польша вас не поведет: / Через ее шагнете кости!..» Далее поэт, упоенный кровавой победой России, перечисляет, что потеряла бы она в случае победы поляков и невольно обозначает границу как бы с «польской точки зрения»: «…скоро ль нам Варшава / Предпишет гордый свой закон? / Куда отдвинем строй твердынь? / За Буг? до Ворсклы? до Лимана?»
Здесь важно, что первой угрозой русскому могуществу представляется отодвижение границы на восток, «за Буг», и этим Пушкин (опять полуинтуитивно) намечает истинную природную и историческую границу собственно Европы и Скифии-России, проходящую вблизи среднего течения Западного Буга. Именно тут проходила граница Руси и Польши при Ярославе Мудром и Болеславе Храбром, здесь же вновь пролегла западная граница России в 1795–1814 гг., после третьего раздела Польши между Австрией, Пруссией и Россией, о чем Пушкин высказался так: «Екатерина II <…> поставила Россию на пороге Европы» (1836 г., письмо к Чаадаеву). Сюда же вернулась граница в 1939 г., после четвертого раздела Польши между Германией и СССР, приведшего ко Второй мировой войне, и оставалась здесь до распада СССР в 1991 г. Эта граница поразительно точно совпадает с природной растительно-климатической «буковой границей» и западной границей «славянской прародины», о чем – в соответствующем разделе эссе.
Устойчивое чувство, что «Россия – не Европа», вновь прорывается после подавления очередного восстания поляков в 1863 г. в стихотворении Ф. И. Тютчева. Когда генерал-губернатор Петербурга А. А. Суворов (внук генералиссимуса) отказался подписать приветственный адрес генералу М. Н. Муравьеву, за жестокую расправу с польскими повстанцами получившему прозвище Вешатель, Ф. И. Тютчев отозвался на это следующим глумливым стихом: «Гуманный внук воинственного деда, / Простите нас, наш симпатичный князь, / Что русского честим мы людоеда, / Мы, русские, Европы не спросясь!..» Этого же «людоеда» Тютчев далее называет тем, «Кто отстоял и спас России целость».
Таким образом, южная граница России по текстам Пушкина (преимущественно поэтическим) проходит по Крыму и Кавказу, юго-восточная – по Китайской стене, а западная граница с «Европой» (в пушкинском понимании) проводится по Балтике и неопределенно намечается по Западному Бугу. По Тютчеву, Россия на западе включает всю Центральную Польшу с Варшавой («Царство Польское»). В своей поэзии оба противопоставляют Россию и Европу.
При этом, несомненно, и Пушкин, и Тютчев отлично знали, что наиболее развитая часть России с обеими столицами находится в Европе в соответствии с принятым географическим членением. Пушкин в своей прозе иногда намечает границу Европы там, где ее проводила античная традиция V в. до н. э. – V в. н. э.: по Керченскому проливу (Боспору Киммерийскому) и Дону (Танаису). «Из Азии переехали мы в Европу на корабле», – так поэт обозначает свой переезд из Тамани в Керчь («Отрывок из письма Д.», 1820–1824 гг.). Сразу после упоминания о выезде из Новочеркасска на юг (т. е. после переправы через Дон) следует: «Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее» («Путешествие в Арзрум», 1829–1835 гг.). Однако в сознании русского читателя глубоко запечатлеваются именно поэтические формулы, выражающие, усиливающие и закрепляющие национальные стереотипы сознания, и фраза: «Иль нам с Европой спорить ново?» – до жути актуальна и ныне.
Итак, суммируя образы поэзии и прозы Пушкина, получаем, что пространство западнее Керчи и Дона «От финских хладных скал до пламенной Тавриды», включая и Петербург, с одной стороны, географически, – Европа, а с другой стороны, по состоянию кристаллизующегося в поэте национального самосознания, – нечто противостоящее ей и ограниченное на западе Балтикой и Западным Бугом.
Поразительно, но намеченные в поэтических образах границы Рос-сии и Европы, по Пушкину, чрезвычайно близки границам Скифии (или Сарматии + Скифии), намеченным античной традицией землеописания и картографии в VII в. до н. э. – II в. н. э. Более того, в те отдаленные времена не существовало никакой организованной системы власти, которая объединяла хотя бы бóльшую часть этой Скифии, – и тем не менее ощущение ее особости по отношению к другим частям суши и наличие неких «силовых линий», которые пронизывают и объединяют ее, уже присутствовало. А сопоставление показаний письменных источников с данными археологии позволяют полагать, что некоторые из этих «силовых линий» (священные пути между религиозными центрами) возникли не позже III тыс. до н. э. И уже с VI в. до н. э. по разному решался вопрос о том, как Скифия (или неопределенное пространство, населенное «скифскими народами») соотносится с Европой и Азией.
Таким образом, комплекс проблем, связанных с огромностью, цельностью и географо-этнографическим своеобразием Скифии, с меняющимся содержанием этой цельности и своеобразия, с ее внутренним членением и внешними границами, восходит как минимум к античной эпохе. Тогда впервые осознающая себя Европа, центром и органом самосознания которой была Эллада, смотря извне глазами своих географов, историков и поэтов на огромные пространства к северу и северо-востоку от Понта, впервые открывала для себя Скифию и выделяла ее из остальной ойкумены. А в XIX в. Скифия, обретя свое политическое выражение в Российской империи, осознавала сама себя, свою особость и соотнесенность с окружающим миром, свою силу и слабость, правоту и неправоту в первую очередь именно перед лицом Европы. Это самосознание выражалось и в действиях политиков и полководцев, и в сочинениях русских мыслителей, историков и поэтов (у последних наиболее откровенно и образно).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































