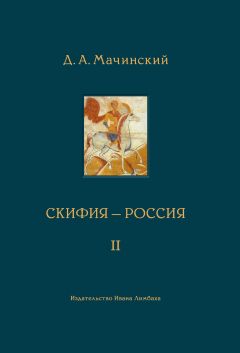
Автор книги: Дмитрий Мачинский
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 37 страниц)
Польшу, вновь обретшую в 1918 г. свою государственность, возглавил Ю. Пилсудский, одержимый нереальной, исторически и географически ложной идеей воссоздать Польшу в границах до 1772 г. 25 апреля 1920 г. польская армия совместно с войсками Украинской директории, возглавляемой С. В. Петлюрой, вторглась в Советскую Украину и вскоре взяла Киев. Большевики и лично Ленин, играя на струнах патриотизма и полонофобии, призывают в армию царских офицеров и унтер-офицеров, и Красная армия переходит в контрнаступление. И здесь вновь слышится голос древней природно-этнической границы, на этот раз использующий как рупор министра иностранных дел Британии Керзона, призвавшего заключить перемирие, остановив войска на «линии Керзона», весьма близкой неоднократно очерченному выше рубежу.
Но Красная армия, возглавляемая бывшим гвардейским подпоручиком М. Н. Тухачевским, переходит этот рубеж и продолжает наступление под лозунгом «На наших щитах мы принесем трудящемуся человечеству счастье и мир. Вперед на Запад! На Варшаву! На Берлин!». Однако затем происходит «чудо на Висле», и разгромленная Красная армия откатывается назад. Поляки наступают и вновь переходят древний рубеж и «линию Керзона». Затем фронт стабилизируется, и в 1921 г. заключается мир, но к Польше отходят западные земли Украины и Белоруссии, «освобождение» которых позволит большевикам в 1939 г. хоть как-то прикрыть и оправдать свой предательский удар в спину сражающейся с Гитлером Польши.
Таким образом, «иконостас» евразийцев, их «троица» в составе Чингис-хана, Петра I и Ленина[104]104
Все отмеченное выше отнюдь не ставит под сомнение личную одаренность и предназначенность, а также грандиозность (жестоких по средствам) свершений трех опорных для евразийцев исторических личностей (или, вернее, «человекоорудий истории»). Особенно грандиозна и труднопостижима личность Чингисхана и связанная с его именем беспримерная континентальная экспансия, начавшаяся с маленького, населенного кочевниками клочка земли на востоке Скифии (на границе современных России и Монголии).
[Закрыть], равно как и некоторые высказывания самих евразийцев, выдают их тайные агрессивные импульсы и претензию на мировое господство, роднящие этих страстных мыслителей, талантливых и эрудированных ученых-патриотов с большевиками-интернационалистами. Философ Н. А. Бердяев писал в 1925 г.: «Евразийство есть прежде всего направление эмоциональное, а не интеллектуальное, а эмоциональность его является реакцией творческих национальных и религиозных инстинктов на происшедшую катастрофу. Такого рода душевная формация может обернуться русским фашизмом». Он видел в евразийстве всплеск давних русских интуиций и инстинктов и считал, что в их построениях «оригинальна только туранско-татарская концепция русской истории у кн. Н. С. Трубецкого».
Действительно, в этой концепции немало верных наблюдений, и до крайности заостренных, как, например: «Московское государство возникло благодаря татарскому игу», «Русский царь явился наследником монгольского хана» (1925 г.), и более взвешенных: «Русская государственность в одном из своих истоков произошла из татарской»; «Прививка к русской психике характерных туранских черт сделала русских тем прочным материалом государственного строительства, который позволил Московской Руси стать одной из обширнейших держав» (1925 г.). Напомню, что под «туранцами» Н. С. Трубецкой практически понимает почти все неиндоевропейское коренное население России. Полагаю, что «прививка туранских черт» имела следствием отнюдь не только территориальное разрастание России.
Весьма уязвимо и следующее положение в «туранско-татарской концепции» Н. С. Трубецкого: «Большевизм есть такой же плод двухсотлетнего романо-германского ига, как московская государственность была плодом татарского ига <…>. И когда сопоставишь <…> аттестат школы татарской и аттестат школы романо-германской, то невольно приходишь к тому заключению, что татарская школа была вовсе не так плоха…» В подобных высказываниях о роли «турано-татарского» и «романо-германского» компонентов начисто утрачивается память о роли и ответственности за свою историю исходных русских компонентов – восточнославянского и древнерусского, вобравшего в себя, наряду со славянским, этнопсихологическое, культурное и религиозное наследие скандинавов, балтов, финнов, Византии. Такие тексты порождены ослепляющей разум ненавистью по отношению к Западу, к собственно Европе, разнородное воздействие которой, способствовавшее, например, возникновению великой русской поэзии, прозы, философии, превращается у Трубецкого в гнетущее «иго». И, отнюдь не защищая большевизм, замечу, что его можно было бы, скорее, рассматривать (в образном стиле Трубецкого) как результат взаимодействия германо-романского импульса (а по Бердяеву – и спроецированного на пролетариат иудейского мессианизма Маркса) с глубинными собственно российскими традициями, в том числе и «туранским наследием», которые задолго до появления марксизма в Европе способствовали формированию в народно-государственном менталитете тех черт, которые поэт, любивший отчизну особой, «странною любовью», запечатлел в следующем образе:
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
(М. Ю. Лермонтов).
Приятие такой имперско-рабской Россией западного марксизма делало естественным формирование большевизма, выразившего свою суть в сталинизме. В целом исторические и политические приоритеты евразийцев, их отвержение (а иногда и предательство) европейских традиций заставляет признать, что выделяемое ими территориально-историческое единство следовало бы называть, по меткому слову П. Н. Милюкова, Азиопой, а их самих – азиопцами.
Вопреки мнению Бердяева, даже «туранско-татарская концепция» евразийцев не была вполне оригинальна. Еще в XIX в. польский историк Ф. Духинский утверждал, что русские не славяне, а принадлежат «к туранскому племени». А наиболее аргументированную и эмоционально окрашенную концепцию о месте «татарщины» в русской истории дал поэт А. К. Толстой, возразивший Духинскому: «русские – европейцы, а не монголы». Он признавался и в особой любви к древнейшему (IX–XI вв.) периоду русской истории, окончившемуся при Ярославичах, который называл «европейским периодом» или «норманнско-русской эпохой», и в ненависти «к московскому периоду» (письма к Б. М. Маркевичу и к К. Сайн-Витгенштейн, 1869 г.). Событиям первого периода посвящены лучшие историко-эпические баллады поэта, причем в наиболее любимой им («Змей Тугарин») дается развернутая в образах концепция, определяющая место «татарщины» в русской истории:
«Но дни, погодите, иные придут, / И честь, государи, заменит вам кнут, / А вече – каганская воля!»;
«И снова подымется русский народ, / И землю единый из вас соберет, / Но сам же над ней станет ханом!»;
«И будет он спины вам бить батожьем, / А вы ему стукать, да стукать челом»;
«И вот наглотавшись татарщины всласть, / Вы Русью ее назовете!»;
«И предкам великим на сором, / Не слушая голоса крови родной, / Вы скажете: Станем к варягам спиной, / Лицом повернемся к обдорам» (т. е. к Уралу. – Д. М.).
В этих ритмических строках негативный образ роковой для русской истории «татарщины» выявлен не менее сильно, чем в статьях Трубецкого и Савицкого ее позитивный образ. А великодержавная убежденность евразийцев в том, что «Россия… вершит судьбы Европы и Азии», более емко и определенно выражена уже Тютчевым в стихотворении «Русская география», написанном в 1848–1849 гг. после (или во время) вторжения русской армии в Венгрию и поражения революционных выступлений в ряде стран Европы. Напомню, что «град Петров» в стихотворении – это Рим, а не Петербург.
Москва и град Петров, и Константинов град —
Вот царства русского заветные столицы.
Но где предел ему? И где его границы —
На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим временам судьбы их обличат…
Семь внутренних морей и семь великих рек…
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная…
Вот царство русское… и не прейдет вовек,
Как то предвидел Дух и Даниил предрек.
Этот шедевр мог бы послужить отправным и опорным пунктом для увлекательной и поучительной монографии. Предлагаю читателю самому поупражняться в осмыслении намеченных Тютчевым перспектив, отчасти реализованных правителями СССР. Во всяком случае, знаменитая «встреча на Эльбе» в 1945 г. и образование вассальной ГДР здесь явно предугаданы. Монолитная непрерывность «от Эльбы до Китая» составляет ядро будущей евразийской империи и навсегда решает проблему поглощенной и переваренной ею Польши. Сама западная граница по Эльбе, вероятно, обусловлена тем, что в VII–IX вв. там действительно проходила западная граница расселившихся с востока славян, о чем Ф. И. Тютчев мог знать. Но что уж там граница по Эльбе, если Рим – наш, и там сидит православный папа (как явствует из синхронной стихам статьи Тютчева)! А что сказать о границе «От Нила до Невы», «от Ганга до Дуная»: вся Передняя Азия, Индостан и Балканский полуостров – наши! Это уже размах возлюбленного евразийцами Чингисхана!
При этом Тютчев отлично понимал, какие ограниченные возмож-ности предоставляет Россия 1840-х гг. для бытия и развития личности, в особенности личности женщины. В те же 1848-е гг. из него излилось стихотворение:
РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ
Вдали от солнца и природы,
Вдали от света и искусства,
Вдали от жизни и любви
Мелькнут твои младые годы,
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои…
И жизнь твоя пройдет незрима,
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле, —
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном,
В осенней беспредельной мгле…
Конец 1840-х гг. – время знакомства и сближения Ф. И. Тютчева с Е. А. Денисьевой (с 1850 г. – его возлюбленной). Уж не ей ли посвящены эти стихи? И такую-то Россию Тютчев хочет распространить от Эльбы до Нила, Ганга и Китая?
Отметим, что Тютчев, осуществляя мечту Петра I, легко отдает России весь Индостан и его реки (Ганг, а заодно и Инд, лежащий между Гангом и Евфратом), но сохраняет незыблемую границу с Китаем, не покушаясь на Хуанхэ и Янцзы. Правда, неясно, где точно мыслилась ему эта надежная граница.
Более всего «Русская география» Тютчева перекликается с документом, известным как «политическое завещание Петра I» и впервые опубликованным в 1830-х гг. во Франции. Этот документ, якобы обнаруженный кавалером д’Эоном в Петергофском дворце не ранее середины XVIII в., несомненно, не является завещанием Петра и, вероятно, был создан кем-то из иностранцев, враждебно настроенных к России. Однако, как резонно считает крупнейший исследователь Петровской эпохи Е. В. Анисимов, составитель документа «уловил многие общие тенденции имперской политики России XVIII в. и экстраполировал их <…> на время Петра». В этом документе среди прочего планируется захват Россией Польши, Индии и Турции с Константинополем, однако, в отличие от текста Тютчева, не упоминается о завоевании Рима. Любопытно, что в СССР «политическое завещание Петра I» было полностью опубликовано лишь однажды, в 1946 г., когда оно было особо актуально в связи с планами и действиями Сталина по «коммунизации» и подчинению ряда стран на континенте Евразия.
В 1848 г. Тютчев пишет статью «Россия и революция», которая в рукописи была прочитана Николаем I и рекомендована им для напечатания за границей. Однако в своей политической поэзии Тютчев выражался круче, чем в статьях. Когда в 1854 г., в разгар Крымской войны, Николай I прочитал написанное им «Пророчество» о предполагавшемся в 1853 г. завоевании Стамбула-Константинополя (в 400-ю годовщину захвата его турками):
И своды древние Софии,
В возобновленной Византии
Вновь осенят Христов алтарь,
Пади пред ним, оцарь России, —
И встань как всеславянский царь!
он зачеркнул два последних стиха и написал: «Подобные фразы не допускать»[105]105
А чем-то вроде «всеславянского царя» (правда, без захвата Константинополя) век спустя стал на короткое время Сталин (≈ в 1947–1949 гг., до конфронтации с Югославией).
[Закрыть]. Такого рода стихи Тютчева предвосхищают и далеко перекрывают смутные претензии евразийцев на лидерство России-Евразии в Европе и Азии (т. е. в истинной Евразии).
Поражение в Крымской войне было тяжким ударом для Тютчева-историософа, и после смерти Николая I он так высказался в 1855 г. о потенциальном «всеславянском царе», политику которого при его жизни (в том числе и расправу над Польшей в 1830–1831 гг.) он в целом одобрял:
Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые, —
Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей[106]106
Это не сиюминутная вспышка эмоций, как показывает другое высказывание Тютчева о Николае I: «Чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека» (письмо жене от 17.IX.1855 г.).
[Закрыть].
Это сказано с горечью и болью – и не вполне справедливо. Николай I искренне и с осознанием своей миссии служил суровому и примитивному (как он сам) языческому богу Империи Российской, который заслонял и искажал для него более высокие уровни Вселенского сознания, обычно именуемого Богом.
Не этот ли государственно-национальный «бог» как бы невзначай появляется у Пушкина в известных четверостишиях из 10-й главы «Евгения Онегина» (частично уничтоженной, частично зашифрованной)?
Гроза двенадцатого года
Настала – кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?
………………………………
Но бог помог – стал ропот ниже,
И скоро силою вещей
Мы очутилися в Париже,
А русский царь главой царей.
Хотя формула «русский бог» восходит к официозной литературе периода 1812 г., у Пушкина она обретает особый смысл, как бы завершая (и суммируя?) все перечисленные ранее компоненты той русской победы, которая на некоторое время сделала Россию сильнейшим государством в Европе («остервенение народа» – психологический склад этноса, «Барклай» – разумный европейский компонент, «зима» – особенности континентального климата на безмерных пространствах). «Русский бог» выступает здесь скорее не как альтернатива этим причинам победы, а как нечто высшее, вбирающее в себя эти (и другие?) компоненты, разрешающие ситуацию («бог помог»).
Очень близкий образ появляется и у конгениального Пушкину в имперской тематике Тютчева в стихотворении «Неман» (о переходе Немана Наполеоном в 1812 г., написано в первый год Крымской войны – в 1853-м). Наполеон осмысляется здесь как «могучий южный демон» и даже «как некий бог».
Лишь одного он не видал…
Не видел он, воитель дивный,
Что там, на стороне противной,
Стоял Другой (демон? Бог? – Д. М.) – стоял и ждал…
И мимо проходила рать —
Все грозно-боевые лица,
И неизбежная Десница
Клала на них свою печать…
Возможно, Тютчев на прямой вопрос ответил бы, что «Другой» – это вселенский Бог, вершитель судеб, но в системе образов данного поэтического текста сей персонаж, названный «Другим» по отношению к Наполеону, «южному демону» и «некому богу», несомненно ближе «по рангу» к этим сущностям и образам.
Национальное божество (или демон), выявляемое в приведенных строках Пушкина и Тютчева, представляется неким предвестием образа «демиурга – народоводителя сверхнарода» в системе метафизических прозрений величайшего мистика-историософа, а также поэта Даниила Андреева (1906–1959 гг.). Но напомню, что, по Д. Андрееву, реальную борьбу «на инфрафизическом уровне» ведут не демиурги, а их порождения – уицрáоры, демоны великодержавия, которые отдаленно напоминают «чудищ морских глубин», т. е. спрутов. Эти примитивные, но необходимые для сохранения сверхнарода сущности предстают в описании прорывов сознания визионера куда более образно убедительными, чем демиурги. Описанное им первое «видение» русского уицраора имело место в Москве, около храма Христа Спасителя (воздвигнутого в память о победе 1812 г.) в августе 1921 г. (месяц смерти Блока[107]107
За два месяца до ухода А. А. Блок так осмыслял свою близящуюся смерть в письме к К. И. Чуковскому: «Слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка».
[Закрыть] и Гумилева).
Родственный уицраору жуткий образ имперства (не только российского) в виде чудища возникает еще до Даниила Андреева в поэзии А. К. Толстого, А. Блока, М. Волошина. Однако впервые подобный образ – Российская империя в виде стоглавой Сциллы – явлен А. Н. Радищевым в 1790 г. в эпиграфе к «Путешествию из Петербурга в Москву»: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» (взято из описания Сциллы в «Телемахиде», переведенной Тредиаковским)[108]108
Все эти зооморфные воплощения имперского начала имеют дальних предшественников в четырех последовательно являющихся фантастических зверях, олицетворяющих четырех царей и их царства в сновидении пророка Даниила (Дан. 7). Вслед за зверями во сне Даниила нисходит с облаков «Сын человеческий», чье царство, которое «не прейдет», Тютчев в «Русской географии» и отождествлял с Российской империей, овладевшей почти всей Евразией.
[Закрыть].
Что касается предъявленного Тютчевым Николаю I обвинения в «лицедействе», то последнее есть необходимый элемент в служении государственно-национальному «богу имперства» (впрочем, и в служении Богу во многих конфессиях). А объявление всех дел царя «призраками пустыми» – не крах ли это политических позиций и историософских пророчеств самого Тютчева?
Печально другое. В служении богу имперства не только государственные мужи и полководцы проявляли жестокость, но и лучшие поэты, попавшие под его воздействие, принимали, оправдывали и воспевали происходившие в ходе войны жуткие проявления жестокости, о которых были прекрасно осведомлены. Наиболее яркие примеры опять-таки касаются событий, при которых Скифия-Россия сама нарушала свою западную природно-историческую границу с собственно Европой, т. е. событий в Польше. Тютчев, оправдывая действия русских войск в 1831 г. при взятии Варшавы в уже упоминавшемся стихотворении «Как дочь родную…», утверждает:
…нас одушевляло в бое
Не чревобесие меча,
Не зверство янычар ручное
И не покорность палача!
Т. е. он не отрицает, что все перечисленное имело место, а лишь только объясняет, что нас «одушевляло» не это, а стремление
Грозой спасительной примера
Державы целость соблюсти.
Образ «чревобесия меча» неуклюжий – но выразительный: это когда меч вонзается в чрево и там поворачивается, чтобы внутренности вывалились. Но все же меч этот лишь символически обозначает зверство войны, он из того же античного реквизита, что и Агамемнон-Россия, его дочь-Варшава, феникс, пепл…
У Пушкина сказано точнее и конкретнее. В 1824 г. в неоконченном стихотворении «Графу Олизару» А. С. Пушкин вспоминает роковое событие тридцатилетней давности – штурм и взятие в 1794 г. Праги, предместья Варшавы, определившее утрату Польшей своей государственности. Граф Олизар, поляк, сватался в 1823 г. за Марию Раевскую и получил отказ, закономерность которого Пушкин воспевает так:
И наша дева молодая,
Привлекши сердце поляка,
Отвергнет, гордостью пылая,
Любовь народного врага.
Но главное здесь – примеры давнишней вражды двух «племен»:
То наша стонет сторона,
То гибнет ваша под грозою.
Крайне объективно: наша только стонет, а ваша – гибнет. Но что-то не ладится у Пушкина с перечислением обид более чем двухсотлетней давности, нанесенных поляками:
И вы, бывало, пировали
Кремля позор и… плен.
После Кремля он, возможно, хотел упомянуть о пленении в XI в. поляками, приглашенными русским князем, Киева, но что-то не задалось с размером. Зато далее, когда речь заходит о сравнительно недавних славных победах русского оружия, которых не могут простить поляки, голос поэта обретает силу, в нем чувствуется упоение, звучные строки насыщены образами:
И мы о камни падших стен
Младенцев Праги избивали,
Когда в кровавый прах топтали
Красу Костюшкиных знамен.
Свидетельство Пушкина заслуживает доверия: некоторые его старшие приятели в юном возрасте были современниками штурма Праги и слышали рассказы его участников. Так Денис Давыдов (род. в 1784 г.) ребенком жил в военном лагере (отец – полковник, командовал Полтавским полком) и наблюдал реакцию войск и своих родственников на приезд в лагерь Суворова. Он свидетельствует: «Во время штурма Праги остервенение наших войск, пылавших местью за изменническое побиение поляками товарищей, достигло крайних пределов».
Избиение младенцев о камни – это и есть «остервенение», достигшее «крайних пределов». А «побиение поляками» русских войск – это изгнание из Варшавы восставшими поляками русского корпуса генерала Игельстрома, который поляки имели все основания рассматривать как оккупационный. После его изгнания поляки сохранили жизнь сдавшимся в плен: при взятии Варшавы Суворовым были освобождены 1379 пленных русских офицеров и солдат. Взятую Суворовым Варшаву Екатерина II через год при третьем разделе Польши отдала Пруссии, так что младенцы избивались не зря. Достоверность этого избиения подкрепляется и тем, что Пушкин сообщает о нем как о чем-то, что хорошо известно и графу Олизару, и ему, и их окружению. Во всяком случае, Пушкин считал это несомненным фактом. Естественно, что Пушкину не удалось завершить свои правдивые стихи happy end’ом – «Но глас поэзии чудесной / Сердца враждебные дружит» – и они остались незаконченными.
Таким образом, и замаскированные претензии евразийцев на доминирование России (ложно отождествляемой с Евразией) на всем пространстве истинной Евразии, и откровенные завоевательные планы их предшественников, талантливо озвученные поэтами, были чреваты, с одной стороны, непосредственным усилением и оправданием пыточного начала, издавна присущего истории человечества, с другой – движением государственной машины c середины XIX в. от краха к краху, от краха – к позору и пытке. От Крымской войны – к Японской, от Японской – к Первой мировой и к установлению пыточного режима большевиков, уничтожавшего лучших во всех слоях и группах населения, через него – ко Второй мировой, «победа» в которой обернулась невосполнимыми потерями генофонда, укреплением преступного режима и порабощением многих стран Европы, а от всего этого – к стагнации слабеющей империи, напоследок удавливающей ростки свободы в Венгрии, Чехословакии, Польше (да и в самой себе!), начинающей войну в Афганистане и, наконец, заслужившей имя «Империя зла», что в итоге и привело к распаду уже основного, спаянного природой и историей «тела» империи[109]109
В формуле «Империя зла», произнесенной президентом США Рональдом Рейганом, напрямую присутствует осуждение лишь государственной имперской машины, а ни в коем случае не народа и не страны как природно-исторического единства. Эта формула была предвосхищена (как это часто бывает) поэтом Натальей Горбаневской, которая в августе 1968 г. вышла в числе пятерых, олицетворявших совесть России, на Красную площадь протестовать против введения войск в «братскую Чехословакию» под лозунгом «Отечество в опасности – наши танки на чужой земле» (позднее она была посажена в «психушку»):
Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом,Это я, это я, и вине моей нет искупленья.Будет наглухо заперт и проклят да будет мой дом,Дом зла, дом греха, дом обмана и дом преступленья.И прикована крепкой незримою цепью к нему,Я отраду найду и усладу найду в этом страшном дому,В закоптелом углу, где темно, и пьяно, и убого,Где живет мой народ без вины и без Господа Бога (Цитирую по памяти, как я слышал эти стихи от самой Н. Горбаневской в доме моего друга В. В. Иофе). Концовку можно понимать двояко: народ, живущий в «доме» зла, не виновен в этом (что, видимо, и подразумевал поэт) и народ, не сознающий и своей доли вины или хотя бы ответственности за деяния своего государства. Последняя трактовка становится актуальной в наши дни.
[Закрыть].
Но поскольку пытка (в разных формах) на уровне бытия уравновешивается неодолимым очарованием жизни (в различных житейских его проявлениях), так что они становятся взаимодополняющими силами, обеспечивающими пресловутый «прогресс» человеческой истории, постольку и внутри имперского каркаса возникали очистительные и трагические проявления души, духа, мысли, совести и гармонии, укорененные в общемировом потоке творчества, самопознания и миропознания, к европейской струе которого Россия после некоторой изоляции в середине XV–XVII вв. вновь приникла в XVIII–XIX вв. Но обо всем вышеназванном много написано и давно известно, а ныне об этом настырно трубят на всех перекрестках. Я же заостряю внимание на все более замалчиваемой негативной стороне имперской истории России, поскольку умолчание и подлог в слове и действии уже зримо подвели к порогу, за которым – утрата общественной совести у подавляющего большинства и замена ее фантомами фашистско-большевистской и псевдорелигиозной природы. А далее, возможно, Возмездие – в той или иной форме.
Как каменный лес, онемело,
Стоим мы на том рубеже,
Где тело – как будто не тело,
Где слово – не только не дело,
Но даже не слово уже.
Идут мимо нас поколенья,
Проходят и машут рукой.
Презренье, презренье, презренье…
Александр Галич. 1973
<Вторая половина 2000-х>
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































