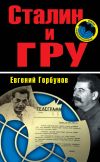Текст книги "Наш Сталин: духовный феномен великой эпохи"

Автор книги: Василий Туев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Потому и отводит он русскому народу особое место среди других советских народов: «Все народы Советского Союза равноправны, но и среди равноправных бывают первые. Русский народ является первым среди равноправных народов» [181, с. 316]. 24 мая 1945 года, на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии он, умудренный опытом тяжелейшей войны, называет русский народ «наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза» и подчеркивает, что «он заслужил в этой войне общее признание, как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны» [172, с. 196].
Государственно-патриотическая идеология сталинизма, опирающаяся на русский народ как свою корневую основу, явилась мощнейшим духовным фактором обретения Советской Россией статуса великой мировой державы. К этому Сталин стремился с первых шагов своей политической деятельности: еще в 1920-м он с гордостью констатировал, что «в лице России растет величайшая социалистическая народная держава» [147, с. 389]. На этом идейном плацдарме основывается его политика по отношению к окраинным губерниям бывшей Российской империи, направленная на «превращение их в советские страны, тесно связанные с центральной Россией в одно государственное целое» [145, с. 359].
Сталинской национальной политике обязано сплочение народов России вокруг русского народа и возникновение подлинного братства советских народов. Такая политика закономерно и естественно привела к появлению единого советского народа – принципиально новой, межнациональной общности людей. В этом был глубокий всемирно-исторический смысл: крепкое и сильное народное государство становилось маяком для трудящихся всех стран и континентов в их борьбе за социальный прогресс.
Итак, теорема Сталина – это соединение марксистской социальной теории с духовными основами общественной жизни, выработанными в тысячелетней истории России и запечатленными в народной культуре. Размышляя в русле марксистской идеи социального прогресса, Сталин сумел наполнить ее «цивилизационным» содержанием: народная культура была осознана им как важнейший духовный фактор преобразования жизни страны. Поэтому сталинизм предстает как теоретическое развитие идей не только западного марксизма, но и русского социализма, как идеология утверждения социализма на почве русской культуры, как политика созидания великой народной державы.
Выработанный народной культурой принцип организации общественной жизни (особый тип коллективности) был воспринят Сталиным как культурная «матрица» советского социализма. «Настроенность» российского общества на социализм, полагал он, обусловлена как особым типом экономических отношений, так и формой социального жизнеустройства, системой культурных императивов, ценностей и идеалов.
Это, прежде всего, коллективность. Сталин, высоко ценивший коллективистские традиции, рожденные в глубинах народной жизни, увидел и по достоинству оценил специфику российского типа социальной организации, которая не противопоставляла коллективное и личностное начала в существовании и развитии общества. Он выдвинул задачу утверждения коллективистских начал в организации производственно-трудовой деятельности людей. В выборе сталинским гением оптимальной для тех условий пропорции коллективности-индивидуальности как раз и была заключена энергия духовного взлета, совершенного тогда нашим народом.
Это, далее, социальное равенство и справедливость, обеспеченные трудом на общее благо и распределением материальных продуктов труда в соответствии с его социальной мерой. Впервые в мировой истории для всех были созданы одинаковые «стартовые» возможности в виде социальных гарантий в сферах здравоохранения и образования, а также возможности последующего физического и духовного развития, измеряемые единой мерой – общественно значимым трудом.
Это также исторически обусловленная культурными предпосылками система подлинного народовластия – участие народа в государственном и общественном управлении посредством общественных организаций и органов советской власти. Центром этой системы стала большевистская партия – авангард советского народа в его великих свершениях.
Наконец, это подчинение всех социальных процессов задаче совершенствования духовной культуры общества и личностного развития каждого советского человека. Советский тип социализма, направляя созидательную энергию миллионов на общегосударственные и общенародные дела, тем самым придавал ей духовно-нравственную направленность. На этой же почве вырос и советский патриотизм как важнейшая духовная ценность, принятая всем обществом и каждым советским человеком.
Солидарность основной массы народа с идеологическими принципами сталинизма позволила сторонникам самобытного развития страны, сгруппировавшимся вокруг Сталина, оттеснить идеологов мировой революции от лидерства в партии и взять курс на построение советского социалистического государства под руководством русского народа. Отстаивая принцип лидерства СССР в мировом историческом процессе, Сталин возродил традиционную «русскую идею» на новой основе. Она была соединена с марксизмом как передовой социальной технологией, опираясь на которую страна создала мощную технико-экономическую базу, разрешила за счет этого спор с Западом и отстояла свою самобытность.
Сегодня произошел отрыв наших социальных и личностных ориентиров от культурных корней, нарушена историческая преемственность, в результате чего прогресс общества резко затормозился. Возрождение традиционных форм общественной жизни, выработанных народной культурой и явленных в своей высшей форме в сталинскую эпоху, – категорический императив нашего времени. Русский (советский) коммунизм – это для нас некая историческая судьба, освященная глубинной традицией форма социального жизнеустройства, а в конечном итоге – способ самосохранения. Отказаться от него, принять западные ценности, значит, погибнуть. Пока мы это не осознаем, мы будем жить в состоянии перманентного социального кризиса без всякой надежды на достойное будущее. В лучшем случае, нам уготована участь полуколониального существования и постепенного замещения российского этноса выходцами из других цивилизаций.
СТРАТЕГЕМА
Троцкистская теория «перманентной революции» прямо нацеливала партию на «экспорт революции» в европейские страны. Распространение этой, «несуразно левой», по определению Ленина, теории в большевистской среде стало причиной острой идейно-политической борьбы вокруг стратегии и тактики партии в 20-х—30-х гг. ушедшего века, когда во весь рост встал вопрос о путях развития страны. Эту борьбу вели политические силы, группировавшиеся, с одной стороны, вокруг Троцкого, с другой – вокруг Сталина. Борьба Сталина против Троцкого была вызвана вовсе не личной неприязнью или «жаждой власти», как иногда думают. Нет, это была борьба двух противоположных взглядов на будущее России, борьба за выбор пути ее дальнейшего развития. За обоими лидерами стояли массы людей, интересов, материальных и духовных сил и ресурсов.
После Октября 1917 года в стране проводилась политика «военного коммунизма», рассчитанная на то, чтобы выстоять в схватке с российским и мировым капиталом, а затем перейти в наступление на него. Окончание гражданской войны было ознаменовано переходом к «новой экономической политике» (нэп). Отказ от «военного коммунизма» был связан с потерей надежды на скорый революционный взрыв на Западе, что и побудило партийных вождей к отступлению. Другой причиной такого «кульбита» стали крестьянские мятежи и восстание кронштадтских моряков, породившие неверие в успех социалистических преобразований.
Да и сама мысль об особой, российской цивилизационной модели социализма, создаваемой на иной платформе, нежели дальнейшее капиталистическое развитие страны, была чужда тем, кто считал, что существуют только общие законы исторического развития, единые для всех стран. Как мы видели, Ленин и до революции, и после нее не предполагал, что Россия пойдет к социализму одна, впереди Европы, а не вслед за ней. Поэтому политике «военного коммунизма» он противопоставил нэп: «к социализму – через отступление в капитализм». Это был обычный для человека европейской культуры ход мысли: в экономически отсталой стране построить социализм невозможно без опоры на передовые страны Запада, но там революции запаздывают, поэтому Россия, совершив свою революцию, должна самостоятельно пройти капиталистическую фазу развития, теперь уже – под контролем пролетарского государства.
После гражданской войны такая точка зрения стала для Ленина преобладающей. Он видит только один реальный путь к социализму в России – через госкапитализм, который приведет к подъему производительных сил. В социальном жизнеустройстве русского крестьянства, в общинно-коллективистских традициях народной культуры он не усматривает никаких предпосылок к социализму и не видит путей перевода крестьянского хозяйства на социалистический путь развития. Для него, привыкшего лицезреть ухоженные европейские поля и деревни, русский крестьянский мир – это «патриархальщина, обломовщина, полудикость» [79, с. 228].
Культура же, в понимании Ленина, связана «с капитализмом, с крупной промышленностью, с большим городом» [Там же]. Поэтому для нас «капитализм неизбежен в известной мере, как стихийный продукт мелкого производства и обмена» и «как посредствующее звено между мелким производством и социализмом, как средство, путь, прием, способ повышения производительных сил». Иные пути существуют, – продолжает Ленин, – в частности, через электрификацию, но это потребует десятилетий; сокращение сроков возможно «лишь в случае победы пролетарской революции в таких странах, как Англия, Германия, Америка» [Там же, с. 229].
Разъясняя суть нэпа на съезде политпросветов 17 октября 1921 г., Ленин говорит: «Новая экономическая политика означает замену разверстки налогом, означает переход к восстановлению капитализма в значительной мере. В какой мере – этого мы не знаем. Концессии с заграничными капиталистами (правда, пока очень немного их заключено, в особенности по сравнению с предложениями, которые мы сделали), аренда частных капиталистов – это и есть прямое восстановление капитализма и это связано с корнями новой экономической политики» [80, с. 159—160].
При этом Ленин вполне отдает себе отчет в том, что такая политика может привести к полной реставрации капитализма: «Весь вопрос – кто кого опередит? Успеют капиталисты раньше сорганизоваться, – и тогда они коммунистов прогонят, и уж тут никаких разговоров быть не может. Нужно смотреть на эти вещи трезво: кто кого? Или пролетарская государственная власть окажется способной, опираясь на крестьянство, держать господ капиталистов в надлежащей узде, чтобы направлять капитализм по государственному руслу и создать капитализм, подчиненный государству и служащий ему? Нужно ставить этот вопрос трезво» [Там же, с. 161].
Следовательно, по мысли Ленина, возможны два варианта последующего развития: или капитализм удастся удержать «на привязи у пролетарского государства», или он восстановится в полной мере, – такова «трезвая» постановка вопроса. Ленин понимает, что у нас, в крестьянской стране, с введением нэпа «капитализм не может не расти»: двери для него теперь «открываются помимо нас и против нас» [Там же, с. 160]. Но Ленина теперь, как будто, не особенно и беспокоит возможное возрождение капитализма: ведь он будет создавать промышленный пролетариат, без которого немыслимо движение страны по пути социалистического строительства. Его дальнейшие рассуждения о возможной утрате завоеваний революции достаточно определенны и даже в некотором роде оптимистичны:
«С другой стороны, если будет выигрывать капитализм, будет расти и промышленное производство, а вместе с ним будет расти пролетариат. Капиталисты будут выигрывать от нашей политики и будут создавать промышленный пролетариат, который у нас, благодаря войне и отчаянному разорению и разрухе, деклассирован, т. е. выбит из своей классовой колеи и перестал существовать, как пролетариат. Пролетариатом называется класс, занятый производством материальных ценностей в предприятиях крупной капиталистической промышленности. Поскольку разрушена крупная капиталистическая промышленность, поскольку фабрики и заводы стали, пролетариат исчез. Он иногда формально числился, но он не был связан экономическими корнями.
Если капитализм восстановится, значит восстановится и класс пролетариата, занятого производством материальных ценностей, полезных для общества, занятого в крупных машинных фабриках, а не спекуляцией, не выделыванием зажигалок на продажу и прочей «работой», не очень-то полезной, но весьма неизбежной в обстановке разрухи нашей промышленности» [Там же, с. 162].
Как видно отсюда, Ленин понимает, что «выделывание зажигалок» и спекуляция ими к социализму не приведут, еще менее перспективно в этом плане развитие деревенского хозяйства, которое представлено почти сплошь «мелким и мельчайшим крестьянским производством». Однако, полагает он, нэп позволит нам «продержаться» до тех пор, «пока западноевропейские капиталистические страны завершат свое развитие к социализму» [85, с. 402]. При этом он допускает, что в стране может произойти восстановление и развитие крупного капитала, но и в этом он видит прогресс: развитие производительных сил и рост численности промышленного пролетариата рано или поздно приведут к новой пролетарской революции. Что ж, вполне логично для мыслителя, связывающего условия и предпосылки социализма, главным образом, с уровнем капиталистического развития страны.
Существенно иную перспективу усматривал Сталин с его пониманием общественного развития, учитывающим глубоко традиционный общинно-коллективистский характер сознания русского крестьянина. Он хорошо знал, что капиталистический путь развития деревни сопряжен с неизбежной пролетаризацией и люмпенизацией огромной массы крестьянства, как это и происходило в европейских странах в эпоху первоначального накопления капитала. Для Сталина такой путь неприемлем, – он выдвигает идею «социализации» крестьянства путем создания на земле коллективных хозяйств. С коллективизацией он связывал возможность введения социалистических форм хозяйствования в деревне помимо таких паллиативов, как торгово-посредническая и кредитно-сбытовая кооперация, на которой настаивали его оппоненты. Заметим, что подобные формы кооперации по сей день практикуются американскими фермерами, никак не затрагивая капиталистические основы их хозяйства.
Дальнейший ход событий подтвердил, что введение нэпа явилось отступлением назад – с непомерными социальными издержками. Начавшийся было рост промышленного производства вскоре замедлился и к 1927 г. почти прекратился. Производство товарного зерна в стране так и не достигло даже половины от уровня 1913 г. Зато нэп принес с собой быстрое восстановление дореволюционных порядков, – вопреки расчетам и надеждам оно оказалось неконтролируемым. В городе интенсивно развивался торговый капитал, на авансцену общественной жизни стал выходить «нэпман» – спекулянт, лавочник, продажный чиновник. Товаров стало много, торговец процветал, а уровень жизни рабочего люда существенно снизился. Если в годы «военного коммунизма» жили впроголодь, но продовольственные пайки были у всех одинаковы, то теперь в крупных городах продуктов было вдоволь, однако «заоблачные» цены делали их доступными только для «нэпмана». Объявились новые «господа» и «баре». Как поганки после дождя появлялись многочисленные лавочки и всевозможные «злачные места». Вместе с тем быстро росли нищета, безработица, пьянство, уголовная преступность. Не правда ли, читатель, узнаваемая картина для нас сегодняшних?!
Возродились противоречивые тенденции в развитии крестьянского хозяйства. Кулачество быстро обогащалось, а беднота нищала, попадая во все большую экономическую зависимость. При этом попытки борьбы против кулака наталкивались на недовольство и тех крестьян, которые надеялись стать кулаками, и даже тех обедневших крестьян, которые хотели бы наняться к ним в работники, – в деревне стали задавать тон кулак и «подкулачник». Возникла реальная возможность капиталистической реставрации: оба класса крепнущего капитализма – хозяева и наемные работники – стояли за продолжение отступления. Такой была расплата за разочарование в революционных возможностях западного пролетариата. Еще один шаг – и мы тогда получили бы то, что стало фактом после 1991 года.
Развитие капитализма в торговле и крестьянском хозяйстве диссонировало с наличием социалистического сектора в промышленности и на транспорте, тормозило его развитие. К 1928 г. страна столкнулась с трудностями в хлебозаготовках, в городах возник призрак голода: кулаки не хотели продавать хлеб по ценам, установленным государством. Не принес успеха курс на иностранные концессии: западный капитал не проявил в этом большой заинтересованности. В конечном счете, нэп не оправдал ни одной из надежд, которые на него возлагались, и вскоре полностью исчерпал себя. По существу единственным сторонником его продолжения, среди вождей партии, оставался Бухарин. Другие партийные лидеры – Троцкий, Зиновьев, Каменев и Сталин – выступали за форсированную индустриализацию, правда, понимая ее каждый по-своему.
Троцкисты («левые») рассматривали нэп как неизбежное зло, – для них допущение частной инициативы в торговле и мелкой промышленности, частное предпринимательство в сельском хозяйстве, – все это было предательством интересов мирового пролетариата. Но Троцкий считал, что отмена нэпа означала бы принятие курса на построение социализма в одной стране, провал которого без пролетарской революции на Западе неизбежен. Поэтому «левые», пропитанные духом «революционного западничества», требовали пересмотра аграрной политики и концентрации сил на широкомасштабной индустриализации, которая сделала бы СССР плацдармом для мировой гражданской войны.
Что касается Бухарина, то в первые послеоктябрьские годы он стоял на позициях, близких к троцкистским. Еще в 1917 г. А. М. Горький отмечал, что «люди типа Бухарина относятся к России как к «материалу» для <…> жестокого и заранее обреченного на неудачу опыта» (Советская Россия. —2003. – 3 июля). Во время борьбы за подписание Брестского мира Бухарин стал идеологом «левых коммунистов». Тогда он, как и Троцкий, видел «спасение» лишь в победе международной революции. Он призывал к полевой войне летучих партизанских отрядов, рассчитанной на воспламенение мирового революционного пожара. Он готов был пожертвовать советской властью и государственной независимостью России в интересах мировой революции. В борьбе против Ленина он проявил тогда такое упорство и такую непримиримость, что его не остановил даже ультиматум вождя: или мир будет подписан, или он выходит из состава правительства и ЦК партии.
В конце гражданской войны Бухарин выступит вдохновителем «коммунистического воспитания» с помощью кнута: «…Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи» [30, с. 146].
Однако теперь, в годы нэпа, видя, что революция в Европе не состоялась, Бухарин круто меняет позицию: российская революция, в таком случае, тоже не имеет ближайшей перспективы… Более шести лет, проведенных Бухариным среди социал-демократов Германии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Дании и Америки, не прошли даром для его мировоззрения: оно целиком основывалось на ценностях западной цивилизации. Бухаринский вариант западничества полностью отвергал «русский» путь к социализму и означал не что иное, как возврат в прошлое: для создания предпосылок социализма страна должна идти по пути капиталистического развития – вплоть до свершения революции в «передовых» западных странах.
Исходя из этой логики, Бухарин выступает теперь за построение в СССР «либерального» общества, основой которого является экономика частной инициативы и «свободного рынка». Если раньше он настаивал на разжигании революционного пожара в Европе, то теперь он видит, в сущности, единственный выход в том, чтобы догонять европейские страны, опираясь на индивидуальное крестьянское хозяйство, которое следует двинуть по пути кооперирования – кредитного, снабженческого, сбытового, потребительского.
Поэтому бухаринцы («правые») были активными сторонниками продолжения нэпа, они полагались в развитии страны на свободные рыночные связи между городом и деревней. Их не смущало, что это было чревато капитализацией и разорением крестьянства и подрывало возможности построения социализма в ближайшей перспективе, ибо вело к социальному размежеванию общества и развитию индивидуалистической психологии. По существу это была первая «либеральная» попытка вернуть страну «в лоно мировой цивилизации», отказавшись от завоеваний Октябрьской революции, что «по достоинству» оценивается современными «либеральными социалистами», с почтением относящимися к Бухарину. Мы теперь на собственном горьком опыте хорошо представляем себе, к чему привела бы тогда победа «правых»: М. С. Горбачев пошел как раз по бухаринскому пути и довел дело до реставрации капитализма, возрождения социального неравенства и обнищания основной массы населения.
Таким образом, троцкисты были против нэпа и за индустриализацию, видя в ней путь к созданию плацдарма для мировой пролетарской революции. Бухарин и его сторонники, напротив, отстаивали нэп, но, как ни парадоксально, из соображений, сходных с троцкистскими. Они связывали исторические перспективы России с ликвидацией ее отсталости, с «подтягиванием» ее до уровня капиталистически развитых стран путем развития рыночной экономики. Как Троцкий, так и Бухарин в равной мере не верили в способность народов России пойти иным, некапиталистическим путем развития и построить свой, «русский» социализм.
Но если Троцкий до конца дней противостоял Сталину «слева», стремясь втянуть Россию в горнило всемирной пролетарской революции, то Бухарин, казалось бы, непостижимым образом превратился из «левого коммуниста» в «правого», либерального социал-демократа. Сталин эти, на первый взгляд, «странные» маневры выразил в парадоксальной формуле:
«пойдешь налево – придешь направо, пойдешь направо – придешь налево». Это сходство ориентаций и сделало возможным в дальнейшем объединение «левой» и «правой» оппозиции сталинскому курсу.
Подоплека таких «маневров» была заключена в теоретических воззрениях как Троцкого, так и Бухарина. Почвой, на которой «левые» и «правые» оппозиционеры сомкнулись в борьбе против Сталина и его политики, явилась ортодоксальная марксистская концепция единого пути исторического развития всех народов. Оба они – Троцкий и Бухарин – не принимали идеи самостоятельного движения России к социализму, исходя из формационной схемы: весь мир идет по «столбовой дороге мировой цивилизации», т. е. вслед за «цивилизованным», капиталистическим Западом к мировой пролетарской революции. Троцкий в послесловии к своей брошюре «Программа мира», написанном в 1922 г, когда и гражданская война уже победоносно завершалась, говорил о «невозможности изолированного социалистического строительства в национально-государственных рамках» и подчеркивал, что «подлинный подъем социалистического хозяйства в России станет возможным только после победы пролетариата в важнейших странах Европы» [191, с. 92—93].
Напротив, Сталин отчетливо видел возможности самостоятельного, независимого от Запада, движения России по пути социалистического строительства – движения, опирающегося на коллективистское, «соборное» сознание народа, выработанное исторически и прочно вошедшее в наш социокультурный опыт. Конечно, было бы наивно думать, что Сталин с юных лет мыслил теми же категориями, как и в пору своей идейно-политической зрелости. Поэтому трудно сказать, насколько четко в годы революционной борьбы он мог бы сформулировать мысль о том, что Россия является особой цивилизацией и что это обстоятельство определяет всю ее историческую судьбу. Но, по-видимому, интуитивно он почувствовал это уже тогда. Напомним его заявление на VI съезде партии о том, что именно Россия явится страной, прокладывающей путь к социализму. В этой, на первый взгляд, очень простой, формуле уже тогда была выражена стратегема будущей сталинской политики.
После революции, в противовес троцкистской стратегии распространения революции на европейские страны вооруженным путем, Сталин выдвигает теоретическое обоснование возможности построения социализма в одной стране. В докладе «О политическом положении Республики» 27 октября 1920 года в г. Владикавказе он подчеркивает, что «некоторые участники Октябрьского переворота» допускали возможность успеха нашей революции «лишь в том случае, если непосредственно за революцией в России начнется революционный взрыв на Западе, более глубокий и серьезный, который поддержит и толкнет вперед революцию в России, причем предполагалось, что такой взрыв обязательно начнется» [146, с. 374—375].
Он отмечает, что взрыв не состоялся, а наша революция успешно продолжается. «Оказалось, что социалистическая революция может не только начаться в капиталистически отсталой стране, но и увенчаться успехом, идти вперед, служа примером для стран капиталистически развитых» [Там же, с. 375]. Он последовательно и настойчиво доказывает, что «победа социализма в одной стране, если даже эта страна является менее развитой капиталистически, при сохранении капитализма в других странах, если даже эти страны являются более развитыми капиталистически, – вполне возможна и вероятна» [152, с. 370].
Такая логика делает его принципиальным противником следования в фарватере европейской истории, в том числе и по пути европейской пролетарской революции. Тем более – сращивания с европейским капиталом, что делалось, в свое время, царским правительством, а позднее вполне допускалось «нэповской» ориентацией советской экономики. Подобная стратегия обрекала Россию на постоянное отставание и зависимость от Запада, поэтому России нужен был собственный, самобытный путь развития. Троцкий и троцкисты этого не понимали, и Сталин констатирует: «Троцкий не чувствует внутренней мощи нашей революции» [Там же, с. 375]. Напротив, наделенный глубокой интуицией, Сталин не только ощущает мощь новой России, но и видит предпосылки грядущего кризиса западной цивилизации: «…Троцкий не улавливает той внутренней немощи, которая разъедает ныне империализм» [Там же].
Действительно, в послесловии к новому изданию своей брошюры «Программа мира» (1922 г.), Троцкий пишет о «колоссальной мощи пролетариата, которая в других, более передовых, более цивилизованных странах способна будет совершать поистине чудеса» (Цит. по ст. Сталина «Октябрьская революция и тактика русских коммунистов»: т. 6, с. 376). Поскольку же в «более цивилизованных» странах революция не произошла, Троцкий, по словам Сталина, видит только две возможности для России: «…Либо сгнить на корню, либо переродиться в буржуазное государство» [152, с. 377]. Позицию Троцкого он оценивает в следующих рассуждениях:
«Неверие в силы и способности нашей революции, неверие в силы и способности российского пролетариата – такова подпочва теории «перманентной революции».
До сего времени отмечали обычно одну сторону теории «перманентной революции» – неверие в революционные возможности крестьянского движения. Теперь, для справедливости, эту сторону необходимо дополнить другой стороной – неверием в силы и способности пролетариата России.
Чем отличается теория Троцкого от обычной теории меньшевизма о том, что победа социализма в одной стране, да еще в отсталой, невозможна без предварительной победы пролетарской революции «в основных странах Западной Европы»?
По сути дела – ничем.
Сомнения невозможны. Теория «перманентной революции» Троцкого есть разновидность меньшевизма» [Там же, с. 378—379].
В «Тезисах 1926—1927 гг.» Троцкий, как бы подтверждая эту сталинскую оценку, совершенно недвусмысленно характеризует теорию построения социализма в одной стране как «первый открытый разрыв с марксистской традицией». Что ж, остается лишь заметить: решительный разрыв с догматическим марксизмом оказался в высшей степени плодотворным. Это был разрыв большевизма с западничеством. Это было осознание того, что многие не понимают и сегодня: нам нельзя перекраивать страну по западным лекалам; с Западом можно соревноваться (прежде всего, в развитии техники), но не догонять его, а идти своим путем, соответствующим историческим условиям и менталитету народа, как это было при Сталине. Идеология сталинизма соответствовала русским культурным традициям и национальному характеру, поэтому она и имела колоссальный успех.
Что же касается социалистической (а тем более коммунистической) перспективы для западных стран, то скептическое отношение к ней, высказывавшееся Сталиным еще в 1920-м, в дальнейшем, с годами все более крепло. Об этом свидетельствует хотя бы такой эпизод. Летом 1944 года состоялись его переговоры с главой польского правительства в эмиграции Станиславом Миколайчиком. При их завершении С. Миколайчик, видимо, желая польстить Сталину, рассказал:
– Перед отъездом из Лондона я читал показания пленных немцев. Один немецкий офицер заявил в своих показаниях, что Германия найдет себе спасение в коммунистическом строе…
Сталин усмехнулся и неожиданно для лондонского поляка заявил:
– Германии коммунизм подходит так же, как корове седло…
Оторопевший С. Миколайчик не нашел что ответить и только поблагодарил Сталина за гостеприимство и за оказанную ему честь (Наш современник. – 2016. – №1. – С. 184).
Надо полагать, что то же самое он мог бы, с еще большим основанием, сказать и об Англии, и об Америке, и о других странах Запада: коммунизм – это нечто не соответствующее их культурным приоритетам. История ХХ века – доказательство правоты и прозорливости Сталина: за прошедшие сто лет социализм марксистского типа не утвердился ни в одной западной стране. Не утвердился потому, что их индивидуалистическая культура не приемлет коллективистский общественный строй. Если он там и возможен в исторической перспективе, то только как результат постепенной длительной трансформации индивидуалистической культуры в направлении превращения ее в культуру коллективистского типа. Это могло бы произойти значительно быстрее под влиянием культурного прогресса России или стран Востока на путях социализма. Однако крушение социалистического строя в нашей стране надолго отодвигает подобную перспективу для Запада.