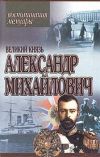Текст книги "Романовы. Последние дни Великой династии"

Автор книги: Владимир Хрусталев
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 59 страниц)
Обсудив все эти сообщения, Исполнительный комитет постановил командировать С.Д. Масловского в качестве комиссара Исполнительного комитета, для контроля над охраной и организацией всего дела»419.
В 1922 г. комиссар С.Д. Мстиславский (он же Масловский) опубликовал воспоминания «Пять дней. Начало и конец Февральской революции», в которых красочно описал свою историческую поездку 9 марта в Царское Село с ответственной миссией, порученной ему Петросоветом. Исполнитель «воли народа» С.Д. Масловский писал о прибытии в Царское Село:
«Я решил выехать… захватив с собою только Тарасова-Родионова и двух стрелков для связи; командование отрядом передал старшему после меня командиру семеновцев, с наказом… если через час я не вернусь и не передам через ординарцев или по телефону дальнейших приказаний, идти с отрядом в казармы 2-го стрелкового полка (по нашим сведениям, на этот полк, по революционности его, всецело можно было положиться), поднять стрелков и двинуться во дворец для выполнения возложенного на нас поручения: “Любой ценой – я повторяю, подчеркивая, – любой ценой обезопасить революцию от возможности реставрации. Смотря по обстоятельствам – или вывезете арестованных в Петербург, в Петропавловскую крепость, или ликвидируйте вопрос здесь же, в Царском…”»420. Далее Масловский описывает события в Александровском дворце: «Пусть он станет передо мной, – простым эмиссаром революционных рабочих и солдат, – он, император, “всея Великие и Малые и Белые России Самодержец…”, как арестант при проверке в его былых тюрьмах… Этого ему не забудут никогда: ни живому, ни мертвому…
Я категорически требую предъявления… Судьба Временного правительства, бывшей династии, всей России, наконец, снова станет на карту. И гадать ли, чья карта будет бита? Реальная сила, действительная сила – у нас в руках, безраздельно… И ответственность за то, что произойдет – падет полностью на вас: я сделал все, чтобы избежать крови. Не теряйте же времени понапрасну…
Устанавливается ритуал. Император будет мне предъявлен во внутренних покоях, у перекрестка двух коридоров…
На “предъявление” со мной пошли: начальник внутреннего караула, батальонный, дежурный по караулу, рунд. Долго, демонстративно долго возились с тяжелым висячим замком массивной входной двери, запертой еще, кроме того, на ключ. У двери этой стоял сильный караул – ближайший к арестованным воинский пост; внутри замкнутого оцеплением крыла дворца – не было ни одного солдата: мера, в высшей мере рациональная – ибо она раз навсегда исключала возможность общения арестованных с внешним миром – неизбежного, если бы “узники” могли подойти к страже. Ибо, как доказывает извечный опыт – нет стражи, которая устояла бы перед соблазном – жалости, уважения или подкупа… А при данной системе Николай Романов оказывался в буквальном смысле слова “замурованным” в этом – наглухо, без малейшей связи, отрезанном от мира в дворцовом крыле – со своими лакеями и поварятами.
Но внутри этой клетки все было оставлено Временным правительством по-прежнему – так, как было оно до катастрофы, в былой расцвет “Большого Императорского Дворца” – со всей его роскошью, со всем его ритуалом. Когда сквозь распахнувшуюся, наконец, с ворчливым шорохом дверь мы вступили в вестибюль, нас окружила – почтительно, но любопытно – фантастической казавшаяся на фоне “простых” переживаний революционных этих дней – толпа придворной челяди. Огромный, тяжелый, как площадной Александр Трубецкого – гайдук, в медвежьей, чапом, шапке; скороходы, придворные арапы, в золотом расшитых малиновых бархатных куртках, в чалмах, острыми носами загнутых вверх туфлях; выездные – в треуголках, в красных, штампованными императорскими орлами отороченных пелеринах. Бесшумно ступая мягкими подошвами лакированных полусапожек, в белоснежных гамашах – побежали перед нами вверх, по застланным коврами ступеням, лакеи «внутренних покоев»… Все по-старому: словно в этой, затерянной среди покоев дворцовой громаде не прозвучало и дальнего даже отклика революционной бури, прошедшей страну из конца в конец.
И когда, поднявшись по лестнице, мы “cледовали” сквозь гостиные, “угловые”, “банкетные”, переходя с ковров на лоснящийся паркет и вновь коврами глуша дерзкий звон моих шпор, мы видели у каждой двери застывшими парами лакеев, в различнейших, сообразно назначению комнаты, к которой они приставлены, костюмах: то традиционные черные фраки, то какие-то кунтуши… белые, черные, красные туфли, чулки и гамаши… А у одной из дверей – два красавца лакея в нелепых малиновых повязках, прихваченных мишурным аграфом, на голове – при фраке, белых чулках и туфлях…
В верхнем коридоре (под стеклянной крышей), обращенном в картинную галерею, нас ожидала небольшая кучка придворных во главе с Бенкендорфом; здесь же вертелся, еще до нас, “при переговорах” проскочивший Коцебу. Придворные были в черных, наглухо застегнутых сюртуках. Шагах в шестивосьми от места нашей встречи со свитой коридор пересекался накрест другим: по нему-то и должен был выйти ко мне бывший император.
Я стал посередине коридора, правее меня Бенкендорф, по левую руку Долгоруков и еще какой-то штатский, которого я не знал в лицо. Несколько отступя сзади стояли пришедшие со мной офицеры…
Вид у меня действительно был “Разинский”: ведь со дня переворота почти не приходилось раздеваться. Небритый, в тулупе с приставшей к нему соломой, в папахе, из-под которой выбиваются слежавшиеся, всклоченные волосы. И эта рукоять браунинга, вынутого из кобуры, так назойливо торчавшая из бокового кармана. Долгоруков не сводит с нее глаз…
Где-то в стороне певуче щелкнул дверной замок. Бенкендорф смолк и задрожавшей рукой расправил седые бакенбарды. Офицеры вытянулись во фронт, торопливо застегивая перчатки. Послышались быстрые, чуть призванивающие шпорой, шаги.
Он был в кителе защитного цвета, в форме лейб-гусарского полка, без головного убора. Как всегда подергивая плечом и потирая, словно умывая, руки, он остановился на перекрестке, повернув к нам лицо – одутловатое, красное, с набухшими, воспаленными веками, тяжелой рамой окаймлявшими тусклые, свинцовые, кровяной сеткой прожилок передернутые глаза. Постояв, словно в нерешительности, – потер руки и двинулся к нашей группе. Казалось, он сейчас заговорит. Мы смотрели в упор, в глаза друг другу, сближаясь с каждым его шагом. Была мертвая тишина. Застылый – желтый, как у усталого, затравленного волка, взгляд императора вдруг оживился: в глубине зрачков словно огнем полыхнула, растопившая свинцовое безразличие их – яркая, смертная злоба. Я чувствовал, как вздрогнули за моей спиной офицеры. Николай приостановился, переступил с ноги на ногу и, круто повернувшись, быстро пошел назад, дергая плечом и прихрамывая.
Я выпростал засунутую за пояс правую руку, приложил ее к папахе, прощаясь с придворными, и, напутствуемый шипением брызгавшего слюной Бенкендорфа, двинулся в обратный путь. Мои спутники подавленно молчали. И только в вестибюле один из них, укоризненно качнув головой, сказал: “Вы напрасно не сняли папахи: Государь, видимо, хотел заговорить с вами, но когда он увидел, как вы стоите…”.
А другой добавил: “Ну, теперь берегитесь. Если когда-нибудь Романовы опять будут у власти, попомнится вам эта минута: на дне морском сыщут…”».421
Дальше мы уже знаем, что было выступление о результатах поездки на заседании Исполкома Петросовета.
В конце воспоминаний С.Д. Масловский скромно упоминает:
«Через день появилось официальное сообщение Совета о событиях 9 марта. Я “не узнал” своей поездки: там говорилось о том, как мы “охватили плотным кольцом броневиков, пулеметов, артиллерии – дворец” и тому подобное.
– К чему это? – спросил я в душевной простоте составителя отчета. – Ведь вы же знаете, что на всем пути я прошел один, одним – “Именем революции”.
– Пустое! Так гораздо эффектнее. Разве с массами можно так? Романтика! Это для кисейных девиц годно, а не для рабочих и солдат…»422.
Однако вскоре в протоколе Исполкома Петросовета от 10 марта 1917 г. по этому делу было записано: «Чхеидзе сообщает отказ Масловского нести обязанность комиссара в Царском Селе»423. Таким образом, «одиссея» комиссара С.Д. Мстиславского (Масловского) по «изъятию самодержца» бесславно провалилась.
Любопытно, что произошедший инцидент не нашел отражения ни в дневнике Николая Александровича, ни в дневнике Александры Федоровны. А их приближенная Анна Вырубова писала об этом дне следующее: «Они оба пришли после обеда, вместе с госпожой Ден. Государыня и госпожа Ден сели к столу с рукоделием, а Государь сел около меня и начал мне рассказывать. Государь Николай II был доступен, конечно, как человек, всем человеческим слабостям и горестям, но в эту тяжелую минуту его глубокой обиды и унижения я все же не могла убедить себя в том, что восторжествуют его враги; мне не верилось, что Государь, самый великодушный и честный из всей семьи Романовых, будет осужден стать невинной жертвой своих родственников и подданных. Но царь с совершенно спокойным выражением глаз подтвердил все это, добавив еще, что “если бы вся Россия на коленях просила его вернуться на престол, он бы никогда не вернулся”. Слезы звучали в его голосе, когда он говорил о своих друзьях и родных, которым он больше всех доверял и которые оказались соучастниками в низвержении его с престола. Он показал мне телеграммы Брусилова, Алексеева и других генералов, членов его семьи, в том числе и Николая Николаевича; все просили его величество на коленях, для спасения России, отречься от престола. Но отречься в пользу кого? В пользу слабой и равнодушной Думы? Нет, в собственную их пользу, дабы, пользуясь именем и царственным престижем Алексея Николаевича, правило бы и обогащалось выбранное ими регентство!.. Но, по крайней мере, этого Государь не допустил! “Я не дам им своего сына, – сказал он с волнением. – Пусть они выбирают кого-нибудь другого, например, Михаила, если он почтет себя достаточно сильным!”
Я жалею, что не запомнила каждое слово Государя…
“Зачем вы не обратились с воззванием к народу, к солдатам?” – спросила я. Государь ответил спокойно: “Народ сознавал свое бессилие, а ведь тем временем могли бы умертвить мою семью. Жена и дети – это все, что у меня осталось! Их злость направлена против Государыни, но ее никто не тронет, разве только перешагнув через мой труп…”. Дав волю своему горю, Государь тихо проговорил: “Нет правосудия среди людей. Видите ли, это все меня очень взволновало, так что все последующие дни я не мог даже вести своего дневника”.
Я спросила Государя, не думает ли он, что все эти беспорядки непродолжительны. “Едва ли раньше двух лет все успокоится”, – был его ответ. Но что ожидает его, Государыню и детей? Этого он не знал. Единственно, что он желал и о чем был готов просить своих врагов, не теряя своего достоинства, это не быть изгнанным из России. “Дайте мне здесь жить с моей семьей самым простым крестьянином, зарабатывающим свой хлеб, – говорил он. – Пошлите нас в самый укромный уголок нашей родины, но оставьте нас в России”. Это был единственный раз, когда я видела русского царя подавленным случившимся; все последующие дни он был спокоен»424.
Но вот еще один дневник гофмейстерины Императорского Двора, княгини Елизаветы Алексеевны Нарышкиной, в котором она записала:
«Рассказывала Государю, как началась революция 1848 года, как пример той потрясающей быстроты, с которой совершаются великие крушения. Государь вышел наружу; его вызвали. Оказалось, приехал в автомобиле офицер, присланный бунтовщиками; они хотят видеть Государя, потому что, как он говорит, не верят, что царь арестован. Он приехал, чтобы взять его и отвезти в Петропавловскую крепость… Он, однако, не посмел выполнить свой мандат и уехал, удостоверившись, что Государь действительно арестован. Эту последнюю подробность мы узнали вечером от Коцебу… Немного спустя Государь вернулся, и мы продолжали нашу дружескую беседу. Самообладание их прямо непостижимо. Когда императрица на минуту вышла, Государь мне сказал: “Не правда ли, как она мужественна?” Вечером они пришли к Бенкендорфу, где мы все собираемся. Страшно грустно – видеть их спокойными среди больших волнений»425.
Более подробные сведения о геройстве комиссара С.Д. Масловского мы находим в показаниях полковника Е.С. Кобылинского судебному следователю Н.А. Соколову: «Явился ко мне какой-то неизвестный и, назвавшись Масловским, предъявил мне требование Петроградского Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. Человек, называвший себя Масловским, был одет в форму полковника. Наружности его я не помню. В требовании говорилось, что я должен оказать всяческое содействие в выполнении возложенного на него поручения. Требование Исполнительного комитета было подписано, хорошо это помню, членом Государственной думы Чхеидзе; оно имело надлежащую печать. Называвший себя Масловским заявил мне, что, по поручению Исполнительного комитета, он должен сейчас же взять Государя и доставить его в Петропавловскую крепость. Я категорически заявил Масловскому, что допустить этого не могу. Тогда он мне сказал: “Ну, полковник, знайте, что кровь, которая сейчас прольется, падет на вашу голову”. – “Ну, что же делать? Падет так падет, исполнить не могу”. Он ушел. Я думал, что он совсем ушел. Но он, оказывается, всетаки отправился во дворец. Там его встретил командир первого полка капитан Аксюта. Он показал ему требование и заявил, что желает видеть Государя. Осмотрев его карманы, Аксюта показал ему Государя так, что он Государя видел, но Государь его – нет. Об этом я тогда же сообщил в штаб. Мои действия были одобрены»426.
Показательно, что на следующий день, 10 марта 1917 г., Чхеидзе сообщает на заседании Исполкома Петросовета об отказе «Масловского нести обязанности комиссара в Царском Селе». На этом же заседании прозвучал вопрос о переговорах с командующим Петроградским военным округом генералом Л.Г. Корниловым. В частности, в протоколе была сделана запись «о необходимости быть с ним осторожными, что он генерал старой закваски, который хочет закончить революцию»427.
Таким образом, у Петросовета на тот момент не было реальных возможностей реализовать свои постановления в отношении царской семьи, что вынудило его пойти на компромисс с Временным правительством.
Между тем жизнь в Царском Селе вступила в новую фазу. В своем дневнике Николай II записал: «10-го марта. Пятница. Спали хорошо. Несмотря на условия, в которых мы теперь находимся, мысль, что мы все вместе, радует и утешает. Утром принял Бенкендорфа, затем просматривал, приводил в порядок и жег бумаги. Сидел с детьми до 2 1/2 ч. Погулял с Валей Долг[оруковым] в сопровождении тех же двух прапорщиков, они сегодня были любезнее. Хорошо поработали в снегу. Погода стояла солнечная. Вечер провели вместе»428.
Фрейлина императрицы Анна Вырубова вспоминала: «Дорожка шла вокруг лужайки и князь Долгоруков и Государь разгребали снег навстречу друг другу; солдаты и какие-то прапорщики ходили вокруг них. Часто Государь оглядывался на окно, где сидела императрица и я, незаметно для других улыбался нам или махал рукой. Я же в одиночестве невыносимо страдала, предчувствуя новое унижение для царственных узников. Императрица приходила ежедневно днем; я с ней отдыхала, она была всегда спокойна. Вечером же Их Величества приходили вместе. Государь привозил Государыню в кресле, к вечеру она утомлялась. Я начала вставать; мы сидели у круглого стола; императрица работала, Государь курил и разговаривал, болел душой о гибели армии с уничтожением дисциплины. Многое вместе вспоминали…»429.
Присутствие А.А. Вырубовой во дворце в первые же дни революции пугало лиц царского окружения, которые и пытались убедить Александру Федоровну расстаться со своей преданной подругой. На осторожный намек об этом Государыня, в негодовании и горе, разрыдалась, сказав: «Вы хотите, чтобы я больную Анну Александровну выгнала из дворца? Никогда я этого не сделаю. Поверьте, я во многом более русская, чем вы, но в одном я не русская: я не отказываюсь от своих друзей в несчастии».
В дневнике княгини Е.А. Нарышкиной читаем:
«11 (24) марта. Апраксин больше не может выдержать и завтра уезжает. Он ходил прощаться с императрицей и сказал, что ей следует расстаться с Аней Выр[убовой]. Гнев и сопротивление. Держится за нее больше кого бы и чего бы то ни было. Нас спасает корь, но было бы опасно оставлять ее в нашем обществе после выздоровления. У меня был Коцебу; он преисполнен желания помочь, но правительству приходится бороться с социалистами; если победа окажется на их стороне, нашим головам не уцелеть…»430.
Созвучны общему настроению Императорского Двора и строки дневника французского посла в России М. Палеолога:
«Пятница, 10/23 марта. Бьюкенен заявил сегодня утром Милюкову, что король Георг, согласно с мнением своих министров, предлагает императору и императрице убежище на британской территории; он отказывается обеспечить их неприкосновенность, но выражает надежду видеть их в Англии до конца войны. Милюков, по-видимому, очень тронут этой декларацией, но грустно прибавляет: “Увы, я боюсь, что слишком поздно”.
В самом деле, со дня на день, я сказал бы, почти с часу на час, я вижу, как утверждается тирания Совета, деспотизм крайних партий, засилье утопистов и анархистов…
По мнению одних, несомненно, объявление Республики. По мнению других, неизбежна реставрация империи в конституционных формах…»431.
Очевидно, подобная информация доходила и до Царского Села. Так, Е.А. Нарышкина записала 13/26 марта в своем дневнике: «Все хуже и хуже: революционная партия не соглашается отпустить Государя, опасаясь интриг с его стороны и предательства тайн. Таким образом, положение остается невыясненным. Немцы усиленно готовятся прорвать наш фронт. Если это удастся, дорога на Петербург будет открыта…»432.
12 марта 1917 г. Временным правительством была отменена смертная казнь, которая заменялась срочной или бессрочною каторгою. В этот же день было объявлено о передаче в казну земель и доходов кабинета отрекшегося императора.
При обследовании дел Петроградской конторы Государственного банка были обнаружены вклады бывшей царской семьи: на счету великой княжны Татьяны Николаевны состоит 2 118 500 рублей, Ольги Николаевны – 3 169 000 рублей, у бывшего наследника Алексея Николаевича – 1 425 700 рублей, у бывшей императрицы Александры Федоровны – 2 518 293 рубля…
Общая сумма вкладов, принадлежащих членам династии Романовых, составляет 42 402 322 рубля 71 копейку.
Таким образом, тайна личных вкладов Романовых была раскрыта, что противоречило элементарной букве закона.
В середине марта 1917 г. была официально главнокомандующим Петроградским военным округом генерал-лейтенантом Л.Г. Корниловым утверждена «Инструкция начальнику гарнизона города Царское Село по охране Александровского дворца». В инструкции, в частности, предписывалось: «1) Караулы по охране Александровского дворца занимать по очереди от всех запасных полков и батальонов вверенного вам гарнизона. Кроме караульного наряда назначать ежедневно во дворец дежурного офицера, которому строго руководствоваться изложенными в инструкции указаниями…
4) Допускать выход отрекшегося императора и бывшей императрицы на большой балкон дворца и в часть парка, непосредственно прилегающую к дворцу, в часы по их желанию в промежуток между 8 час. утра и 6 час. вечера. В означенные часы дежурному офицеру находиться при отрекшемся императоре и бывшей императрице и распоряжением караульного начальника усиливать внешнюю охрану дворца.
5) Все лица бывшей Свиты, означенные в прилагаемом списке и пожелавшие по своей воле временно остаться в Александровском дворце, не имеют права выхода из дворца, подчиняясь в отношении выхода в парк и сношения правилам, установленным настоящей инструкцией.
6) Без разрешения моего никакого свидания с лицами, содержащимися в Александровском дворце, не допускать.
7) Письменные сношения со всеми лицами, находящимися вне дворца, допускать только через штабс-ротмистра Коцебу, которому надлежит подвергать строгому просмотру все письма, записки и телеграммы, пропуская из них самостоятельно лишь необходимые сношения хозяйственного характера и сообщения о здоровье, медицинской помощи и т. п. Все остальное подлежит представлению через вас в Штаб округа.
8) Телефоны, находящиеся во внутренних покоях дворца, снять, телефонное сношение допускать только по телефону в комнате дежурного офицера в присутствии последнего или штабс-ротмистра Коцебу.
9) В случае необходимости вызова врачей-специалистов из Царского Села и Петрограда для оказания медицинской помощи, таковых следует допускать во дворец при постоянном сопровождении дежурного офицера…
12) О всех происшествиях коменданту дворца доносить мне по команде и кроме того, немедленно докладывать по телефону»433.
Как видим, 12 пунктов инструкции регламентировали каждый шаг арестованных и их охраны. Такая усиленная опека давила на психику обитателей Александровского дворца.
Так, княгиня Е.А. Нарышкина записала 17/30 марта в дневнике:
«Воспользовалась солнечной погодой и впервые вышла подышать свежим воздухом. Прогуливалась с Мери Бенкендорф с полчаса по террасе. Великие княжны гуляли в саду, по снегу, под конвоем офицера. Странное впечатление от этой прогулки, в качестве пленников. После нас вышел Государь с Валей Долгоруковым.
У меня немало забот, но ничего; сила сопротивления у меня еще есть, и я много могу еще перенести. Вечером был Коцебу; он очень умный и тонкий»434.
О довлеющей обстановке заключения позднее рассказывал граф П.К. Бенкендорф графине М.Э. Клейнмихель, о чем она писала:
«Во дворце был введен строгий режим, – продолжал Бенкендорф. – Наши прогулки по парку были нам разрешены на очень небольшом пространстве. Особенно тяжело было для заключенных то, что для их прогулок был назначен преимущественно двор, выходящий на улицу, так что все проходившие могли видеть царскую семью из-за решетки забора и ворот. Число любопытствующих было огромно, особенно по воскресениям и праздникам, когда поезда привозили из Петербурга и окрестностей массу людей. Стража показывала заключенных за деньги народу. Царская семья была обречена на выслушивание часами фанатических, полных ненависти замечаний разжигаемого пропагандой плебса. Дома заключенных ожидали другие мучения. Когда великие княжны или Государыня приближались к окнам, стража позволяла себе на их глазах держать себя неприлично, вызывая этим смех своих товарищей…»435.
В прессе началась кампания по дискредитации царской семьи и династии Романовых. По замечанию А.А. Вырубовой: «Императрица вначале сердилась на грязные и глупые статьи в газетах, но потом с усмешкой мне сказала: “Собирай их для своей коллекции…”»436.
Дневник Александры Федоровны в это время пестрел записями о температуре и состоянии здоровья тяжело заболевших детей, что занимало все ее помыслы и отнимало все силы. Положение было тяжелое и порой граничащее с отчаянием. Перелистаем некоторые страницы ее дневника: «Март, 16-го. Четверг. Ольга – температура 36,5°; Татьяна – 37,2°; Мария – 40°; Анастасия – 40,5° (пульс 120). Анастасия – плеврит и воспаление легких, Алексей – 36,1°. Жгла письма, разбирала бумаги… Сидела с Аней [Вырубовой]…
Март, 18-го. Суббота. Ольга, Татьяна – 36,5°; Мария – 40°; Анастасия – 38,8°; Алексей – 36°. Завтрак, как обычно. 3 часа. Мария – 40,9 1/2°; Анастасия – 38,3°. А[ня] и Лили [Ден] сидели в детской…»437.
Анна Вырубова вспоминала об этих страшных днях: «Императрица уничтожала все дорогие ей письма и дневники и собственноручно сожгла у меня в комнате шесть ящиков своих писем ко мне, не желая, чтобы они попали в руки злодеев… 19 марта (по дневнику императрицы 18-го марта. – В.Х.) утром я получила записку от Государыни, что Мария Николаевна умирает и зовет меня. Посланный передал, что очень плоха и Анастасия Николаевна; у обеих было воспаление легких, а последняя, кроме того, оглохла по причине воспаления уха. Коцебу предупредил меня, что если я встану, меня сейчас же уведут. Одну минуту во мне боролись чувства жалости к умирающей Марии Николаевне и страх за себя, но первое взяло вверх, я встала, оделась, и Коцебу в кресле повез меня верхним коридором на половину детей, которых я целый месяц не видала. Радостный крик Алексея Николаевича и старших девочек заставил меня все забыть. Мы кинулись друг к другу, обнимались и плакали. Потом на цыпочках пошли к Марии Николаевне. Она лежала белая как полотно; глаза ее, огромные от природы, казались еще больше, температура была 40,9°, она дышала кислородом. Когда она увидела меня, то стала делать попытки приподнять голову и заплакала, повторяя: “Аня, Аня”. Я осталась с ней, пока она не заснула…
На другой день… я опять пошла к детям, и мы были счастливы быть вместе. Их Величества завтракали в детской и были спокойнее, так как Мария и Анастасия Николаевны чувствовали себя лучше. Вечером, когда Их Величества пришли ко мне в первый раз, настроение у всех было хорошее; Государь подтрунивал надо мною, мы вспоминали пережитое и надеялись, что Господь не оставит нас, лишь бы нам всем быть вместе»438.
Тревогой за детей полны строки из дневника Николая II за эти дни. Только 19 марта он с некоторым облегчением записал: «Лучезарный день. В 11 ч. пошли к обедне с Ольгой, Татьяной и Алексеем. Темп[ература] у Марии и Анастасии опустилась до нормы, только к вечеру у Марии она несколько поднялась. Вышел на прогулку в 2 часа, гулял, работал и наслаждался погодой. Вернулся домой в 4 1/2 ч. Сидел долго у детей, а вечером были у Ани и у других жильцов»439.
Совершенно другое настроение было у некоторых придворных вельмож, внутренне осуждающих царскую семью за все невзгоды, обрушившиеся на них и их окружение. Княгиня Е.А. Нарышкина записала в своем дневнике: «19 марта/1 апреля. Все так ужасно тяжело: опубликованы последние телеграммы императрицы Государю. Императрица возмущена и, кажется, испугана. Возбуждение против нее растет. Какой ужас, если будет осуждение. Так бы хотелось, чтобы поскорее позволили уехать, но две младшие великие княжны еще очень больны, и ничего не устраивается. В такое время не смеешь думать о себе, но те же опасности угрожают и нам. Их покровительства добивались все изменники. Все по совету Распутина. Изумительно, как могло такое громадное и величественное здание рухнуть в грязь, словно карточный домик! Евреи получили право на жительство; благодаря своим капиталам, они господствуют в России. Англичане приближаются к Иерусалиму, а пророчества – к исполнению!»440.
Относительная свобода Романовых вызывала тревогу и протест со стороны революционно настроенных слоев населения. В Петросовет по-прежнему продолжали поступать заявления и доносы. Часто они исходили от лиц, наблюдавших непосредственно жизнь царской семьи. Вахмистр А.П. Данилов сообщал: «1) Николай II здоровается с караулом и ему отвечают, как отвечали раньше. 2)… допущено неизвестное штат[ское] лицо, который беседовал несколько часов с Николаем II. 3) Пропущен штатский господин полковником Артабалевским… 4) Караульный начальник был пьян… 5) Солдатами 2-го батальона был арестован офицер 4-й роты за то, что он позволил выразиться – будем ходить по колено в крови, а старое вернем. Офицер был отправлен в ратушу, но кем-то был освобожден…»441.
Во дворце, занимаемом царской семьей, среди прислуги и окружения процветало фискальство. Первыми жертвами доносов стали ротмистр П.П. Коцебу, комендант Александровского дворца, и фрейлина императрицы Анна Вырубова. Так, полковник Е.С. Кобылинский, исполнявший обязанности начальника Царскосельского гарнизона, позднее показывал белогвардейскому судебному следователю Н.А. Соколову по этому инциденту:
«Коцебу недолго пробыл комендантом дворца: недели, приблизительно, две. Уволен он был вот по какому поводу. Во дворце проживала фрейлина Вырубова и вместе с ней какая-то Ден, носившая форму сестры милосердия. Через лакеев солдаты узнали, что Коцебу подолгу засиживается у Вырубовой, разговаривая с ней по-английски. Когда вести об этом дошли до меня, я их проверил. Лакей (фамилии его не помню), вынесший эти слухи солдатам, подтвердил мне самый факт поздних засиживаний Коцебу у Вырубовой. Боясь эксцессов со стороны солдат, я доложил об этом Корнилову. Тот вызвал к себе Коцебу и затем приказал мне больше его во дворец не впускать, а самому временно нести его обязанности»442.
Арест А.А. Вырубовой был большим моральным ударом по царской семье и особенно по Александре Федоровне, которая в течение 12 лет делила с ней печали и радости. Как это происходило, имеется несколько свидетельств. Но прежде всего дадим слово самой Вырубовой, которая вспоминала:
«21 марта я с утра очень нервничала, я узнала, что Коцебу не пропускают солдаты во дворец, вероятно, за его гуманное отношение к арестованным, а тут еще доктора принесли мне из ряда вон выходящую газетную статью, в которой говорилось, что я, с доктором Бадмаевым, которого, между прочим, не знала, “отравляю Государя и наследника”… Стоял сумрачный, холодный день, завывал ветер. Я написала Государыне записку, прося ее, не дожидаясь наступления дня, зайти ко мне утром. Она ответила мне, чтобы я к двум часам пришла в детскую, а сейчас у них доктора. Лили Ден позавтракала со мной. Я лежала в постели. Около часу вдруг поднялась суматоха в коридоре, слышны были быстрые шаги. Я вся похолодела и почувствовала, что это идут за мной. Перво-наперво прибежал наш человек Евсеев с запиской от Государыни: “Керенский обходит наши комнаты, с нами Бог”. Через минуту Лили, которая меня успокаивала, сорвалась с места и убежала. Скороход доложил, что идет Керенский. Окруженный офицерами, в комнату вошел с нахальным видом маленького роста бритый человек, крикнув, что он министр юстиции и чтобы я собралась ехать с ним сейчас в Петроград. Увидав меня в кровати, он немного смягчился и дал распоряжение, чтобы спросили доктора, можно ли мне ехать; в противном случае обещал изолировать меня здесь еще на несколько дней. Граф Бенкендорф послал спросить доктора Боткина. Тот, заразившись общей паникой, ответил: “Конечно можно”. Я узнала после, что Государыня, обливаясь слезами, сказала ему: “Ведь у вас тоже есть дети, как вам не стыдно!” Через минуту какие-то военные столпились у дверей, я быстро оделась с помощью фельдшерицы и, написав записку Государыне, послала ей мой большой образ Спасителя. Мне в свою очередь передали две иконы на шнурке от Государя и Государыни с их подписями на обратной стороне. Я обратилась со слезной просьбой к коменданту Коровиченко дозволить мне проститься с Государыней. Государя я видела в окно, как он шел с прогулки, почти бежал, спешил, но его больше не пустили. Коровиченко (который во время большевиков погиб ужасной смертью) и Кобылинский проводили меня в комнату… Я старалась ничего не замечать и не слышать, а все внимание устремила на мою возлюбленную Государыню, которую камердинер Волков вез в кресле. Ее сопровождала Татьяна Николаевна. Я издали увидела, что Государыня и Татьяна Николаевна обливаются слезами; рыдал и добрый Волков. Одно длинное объятие, мы успели поменяться кольцами, а Татьяна Николаевна взяла мое обручальное кольцо. Императрица сквозь рыдания сказала, указывая на небо: “Там и в Боге мы всегда вместе”. Я почти не помню, как меня от нее оторвали. Волков все повторял: “Анна Александровна, никто – как Бог!”
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.