Текст книги "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 2"
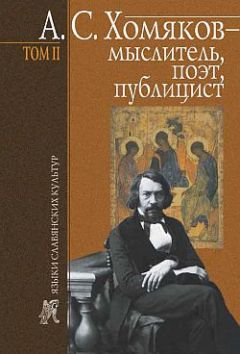
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Религиозные тексты, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 39 (всего у книги 51 страниц)
И. Б. Ничипоров
«Я прижму природу к трепетному сердцу…»: пейзаж в духовной лирике А. С. Хомякова
В поэзии Хомякова, занимающей одно из ключевых мест в его творческом и научном наследии, постижение природного бытия становится важнейшим путем самопознания лирического «я», открытия им мира в целостности его онтологических, культурно-философских и социально-исторических оснований.
Пейзаж органично входит у Хомякова в сферу его психологической, интимной поэзии, отражая тончайшие нюансы лирического переживания. В такой ипостаси предстают образы природы в стихотворении «Молодость» (1827), построенном как романтическое по духу дерзостно-восторженное воззвание лирического героя к природной – небесной и земной – беспредельности: «Небо, дай мне длани / Мощного титана!»[729]729
Тексты произведений Хомякова цит. по: Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л., 1969; Хомяков А. С. Стихотворения. М., 2000.
[Закрыть]. Сугубо личностное оказывается здесь в органичном взаимопроникновении со вселенским. В порыве религиозно-мистического озарения герой ощущает свою равновеликость природному мирозданию, что на уровне поэтики художественного пространства отражается в переосмыслении реальных пропорций картины мира:
Я схвачу природу
В пламенных объятьях;
Я прижму природу
К трепетному сердцу…
Мощь жизнепорождающей стихии природы, причастной своим «вечным бореньем» и «пламенной жизнью» вечности, становится вместилищем страстных сил бурлящей юности. Мотив неустанно движущейся жизни создает здесь необычную для поэтической традиции динамическую перспективу видения земного и особенно небесного бытия, где «звезды в синей тверди / Мчатся за звездами…». Динамика микро– и макрокосма запечатлена здесь в энергии стиховой ткани: в подвижном ритме коротких строк, яркой цветовой гамме, а также в звуковой инструментовке – с явным преобладанием открытых напевных гласных и сонорных согласных:
Небо, дай мне длани
Мощного титана:
Я хочу природу,
Как любовник страстный,
Радостно обнять.
Жажда наполнить душу живительными ритмами бытия Божьего природного мира подчас обуславливает в стихотворениях Хомякова тенденцию к стиранию субъектно-объектных граней в отношениях личности и мироздания. Так, в стихотворении «Желание» (1827) императив духовной целостности предопределяет то, что развитие лирического переживания сопряжено с устремленностью героя к «перевоплощению», участному «вживанию» в многообразные лики природы – от небесных светил до «стеклянной зыби» земных вод. В сопоставлении со стихотворением «Молодость» здесь дано большее разнообразие проявлений природы, которые могут выражаться в движениях как страстных, бурных, так и в плавно скользящих, умиротворенных, что на лексическом уровне стихотворения передается богатством семантического потенциала глагольных форм: «разлиться в мире», «с солнцем в небе течь», «скользить по плещущей волне», «буйным ветром разыграться», «пространство неба обтекать»…
В более позднем «Ноктюрне» (1841), органично вписывающемся в традицию медитативной лирики, развитую в творчестве Жуковского, Тютчева, постигается глубинная диалектика «роптанья» и мудрого покоя природы, которая, проецируясь на законы душевной жизни, художественно раскрывает единство земного и небесного, человеческого и природно-космического. В системе характерных для романтизма образов и ассоциаций – «неба как моря», «бездны небесной и бездны морской», тишины, «далекого берега» – прорисовываются грани сокровенного общения лирического «я» с дремлющим ночным космосом. Венцом этого общения становится обретение душой детской чистоты и открытости горнему миру, что привносит в нее духовное трезвение и сосредоточенность, способность приблизиться к незамутненному преломлению божественной первозданности: «Вечное небо гляделось бы в ней / Со всеми звездами».
Созвучен тютчевской лирике поэтический интерес Хомякова к изображению переходных состояний природы, ассоциирующихся с антиномиями душевного мира. На подобных параллелях строится в его лирике ряд пейзажно-психологических элегий. В поэтической миниатюре «Заря» (1825) аллегорическая пейзажная зарисовка этого явления, промыслительно «поставленного Богом» в качестве «вечной границы <…> меж нощию и днем», переходит в прямое обращение к одушевленной природе, содержащее религиозно-философское прозрение неизбывной в своем трагизме двойственности человеческой сущности:
Заря! Тебе подобны мы —
Смешенье пламени и хлада,
Смешение небес и ада,
Слияние лучей и тьмы.
В «Элегии» (1835) композиция и система пейзажных мотивов, примечательная, в частности, оригинально найденным образом-олицетворением («И землю сонную луч месяца целует»), запечатлели психологический параллелизм предрассветной природы и переливов душевных переживаний, в которых ночные тревоги и смятение, порожденные удаленностью от Бога света, превозмогаются силами света и открытием новых горизонтов духовного самоосмысления:
Готовая к борьбе и крепкая как сталь,
Душа бежит любви, бессильного желанья,
И одинокая, любя свои страданья,
Питает гордую безгласную печаль.
Пейзажные образы обретают в поэтическом творчестве Хомякова религиозно-философскую значимость, представая как средоточие и выражение молитвенных импульсов лирического «я».
Пейзаж-молитва рисуется в стихотворении «Поэт» (1827), образный ряд которого построен на соприкосновении вселенского, звездного простора, преисполненного Божественным славословием («Все звезды жизнью веселились / И пели Божию хвалу»), и человеческого существования, чающего преодоления своей конечности. В планетарной, насыщенной философскими раздумьями пространственной перспективе приоткрывается глубина религиозного осмысления трагедийной отторгнутости земного греховного мира от божественного всеединства:
Одна, печально измеряя
Никем не знанные лета,
Земля катилася немая,
Небес веселых сирота…
Кульминацией стихотворения становится настоянное на сокровенном богообщении творческое озарение души художника, способной, слагая «Богу гимн» и впитывая в себя тайну Его небесного бытия, превозмочь сиротскую отчужденность земного от горнего: «И дал земле Он голос стройный, / Творенью мертвому язык».
Достигаемый силой художнической интуиции прорыв к созерцанию природы в ее первозданной, послушной божественной воле, «как в первый день творенья», целостности живописуется в стихотворении «Степи» (1828), а стихотворения «Видение» (1840), «Ночь» (1854), «Звезды» (1856) объединены изображением ночной космической беспредельности. «Хоры звезд», подобных «лампаде пред иконой», «горящие… бездны синие» образуют сферу таинственного соприкосновения лирического «я» с Творцом, с гармонизирующими его внутреннее устроение ангельскими силами. Сквозными становятся здесь формы прямого обращения к душе как собственной, так и «спящего брата» – участника эстетического переживания – с призывом к духовному трезвению:
И полный сил, торжественный и мирный,
Я восстаю над бездной бытия…
Проснись, тимпан! проснися, голос лирный!
В моей душе проснися, песнь моя!
Образ ночи имеет в данном контексте и аксиологическую окрашенность, воплощая не только природную бесконечность, но и греховную помраченность внутреннего мира, запутавшегося в «сетях ночных обманов» и жаждущего преображения «сердца дремлющей мглы».
Высветление вселенского в индивидуальном осуществляется в стихотворениях Хомякова через углубление в природу как в сокровенный текст Божьего послания человеку, запечатленный в «мыслях» звездного мира. В стихотворении «Звезды» значима в этом плане «книжная» метафорика. В пространстве «горнего мира», пройдя путь внутреннего очищения, герой прозревает письмена евангельского свидетельства о Христе:
Ты вглядись душой в писанья
Галилейских рыбаков —
И в объеме книги тесной
Развернется пред тобой
Бесконечный свод небесный…
А в стихотворении «По прочтении псалма» (1856) композиционный центр образует обращенный к человеку Божий глас, который возвещает истинный смысл как «бесконечности небес», «утробы скал», так и земной человеческой стези: «Мне нужен брат, любящий брата, / Нужна мне правда на суде».
Аксиологически весомая динамика философского пейзажа прочерчивается в «Вечерней песни» (1853), этом поэтическом молении героя о прозрении своего пути, нераздельного и неслиянного с путями пребывающего в неустанном движении «солнца святого» и горней Вселенной в целом: «Господи, путь наш меж камней и терний, / Путь наш во мраке…Ты, свет невечерний, / Нас осияй!..». В стихотворении же «Старость» (1827) в подвижном образе мира, «воспрявшего из колыбели», звезд, «стройно полетевших в небесной синей высоте», обозревается разомкнутая в вечность панорама вселенской истории, внутренне имманентная исканиям «утомившейся в обманах» души:
Придет ли час, когда желанья
В ее замолкнут глубине
И океан существованья
Заснет в безбрежной тишине?
Пейзажные образы в лирике Хомякова выводят и на осмысление духовно-нравственных и эстетических аспектов художественного творчества, его почвенной сердцевины, поэтически переданной в стихотворении «Две песни» (1831):
<…> то песнь родного края
Протяжная, унылая, простая,
Тоски и слез и горестей полна…
По принципу притчевого параллелизма построено стихотворение «Жаворонок, орел и поэт» (1833), где «надоблачный размах крыл» небесных птиц являет искомую духовную высоту художника в отношении постигаемого им мироздания. Во «Вдохновении» (1828) образная ассоциация поэта с растущим «средь Аравии песчаной» древом, которое источает «росу благоуханья», когда «рука пришельца <…> его глубокой раной просечет», служит утверждением подлинного творчества как жертвенного подвига, ведущего к катарсическому просветлению сердца творца. А в стихотворении «Труженик» (1858) элегические картины крестьянского труда, образ преодолевающего утомление и соблазняющие мечты о «дубравах» и «звонком ручье» пахаря подготавливают взволнованный лирический монолог поэта, молитвенно обращенный к Богу и заключающий осознание императива труднического, самозабвенного отношения к Божьему миру и ко внемлющим художественному слову людским душам:
Не брошу плуга, раб ленивый,
Не отойду я от него,
Покуда не прорежу нивы,
Господь, для сева Твоего.
Образ природного космоса становится у Хомякова и ядром гражданско-патриотической лирики, являя свою бытийную укорененность в глубинах национального духа.
Стихотворение «Ключ» (1835) построено на развернутом метафорическом уподоблении и рисует Россию в образе «тихого, светлого», потаенного до определенного исторического рубежа животворящего ключа, которому велением Высшего Промысла суждено, как верит поэт, переродиться в полноводную реку, утоляющую «духовную жажду» многих «чуждых народов». Активное присутствие лирического «я» проявляется здесь в его проникновенном обращении к стихии родной земли как прообразу скрытых от «людских страстей» «кристальных глубин» души, которые он стремится сберечь от внешних бурь. Величие и просветляющая сила патриотического чувства выражаются здесь в одическом стиле, мажорной цветовой гамме, выдержанной в серебряно-лазурных и солнечных тонах:
И солнце яркими огнями
С лазурной светит вышины,
И осиян весь мир лучами
Любви, святыни, тишины.
Раздумья о значительности будущей исторической миссии России как центра православного славянства наполняют пейзажные образы в стихотворениях «Мечта» (1835), «Киев» (1839). В первом из них циклические законы бытия природы, проявляющиеся, в частности, в движении небесного светила, ассоциируются с ритмами истории и интуициями о духовном кризисе западноевропейской цивилизации: «Ложится тьма густая / На дальнем Западе, стране святых чудес». Именно в христианской культуре «дремлющего Востока» поэт усматривает залог торжества «пламенного светила» веры, просвещающего «мертвенный покров» механистичной цивилизации. Культурно-исторический и даже политический смысл обретает целостная пейзажная картина в стихотворении «Киев» (1839). Мощь этого национального природно-культурного единства подчеркивается изображением беспредельности географического пространства – от «Киева над Днепром» до «старого Пскова» и «верха Алтая», от «Ладоги холодной» до «Камы многоводной»… Осмысление судеб западных земель Украины («Братцы, где ж сыны Волыни? / Галич, где твои сны?») сквозь призму притчи о блудном сыне привносит в поэтическое раздумье о «святом лоне» Отчизны напряженно-драматические ноты:
Пробудися, Киев, снова!
Падших чад своих зови!
Сладок глас отца родного,
Зов моленья и любви…
Таким образом, природный мир в поэзии Хомякова явился средоточием сокровенных граней лирического переживания, интуиций об исторических судьбах России на перекрестии Востока и Запада. В многообразии земных и небесных пейзажей, в художественном взаимопроникновении конечного и беспредельного поэт-мыслитель провидел пути божественного преображения тварного естества, его приобщения к вечности. Природное бытие, запечатленное в синтезе элегически-напевных и одических, ораторских интонаций, образует у Хомякова и сферу таинственного богообщения, и пространство, где развертывается масштаб ищущей религиозно-нравственной, культурно-исторической мысли лирического «я».
С. В. Шешунова
«Светлое воскресенье» А. С. Хомякова и пасха в русской литературе XIX—XX веков
И наше исповедание —
Одно и без изменения:
Пасхальное ликование,
Прощение, воскрешение.
Ю. Иваск
В 1844 году А. С. Хомяков переложил «Рождественскую песнь в прозе» («A Christmas Carol in Prose») Ч. Диккенса, созданную всего годом раньше, в повесть «Светлое Христово Воскресенье». В. А. Кошелев, установивший в 1991 году авторство Хомякова, показал, что это переложение не было простым заимствованием: оно отвечало внутренним потребностям русской литературы, которая как раз в ту эпоху искала пути для художественного воплощения особенностей православной культуры. Здесь Хомяков первым выразил то, что Гоголь через год теоретически оформил в своем «Светлом Воскресенье».[730]730
Хомяков А. С. Светлое Воскресенье. Повесть, заимствованная у Диккенса / Публ., вступл. и примеч. В. А. Кошелева // Москва. 1991. № 4. С. 83–84.
[Закрыть]
Впоследствии эти потребности были реализованы русскими писателями уже в оригинальных, незаимствованных сюжетах, где прощение во имя Христа, возрождение героя, просветление его жизни приурочено ко времени пасхального цикла праздников – от Великого поста до Троицы и Духова дня. И. А. Есаулов и В. Н. Захаров рассмотрели с этой точки зрения ряд классических произведений – рассказы И. А. Бунина и А. П. Чехова, романы Б. Л. Пастернака и М. Е. Салтыкова-Щедрина, но в первую очередь – Ф. М. Достоевского[731]731
См.: Захаров В. Н. Символика христианского календаря в произведениях Достоевского // Новые аспекты в изучении Достоевского. Петрозаводск, 1994. С. 37–49; Захаров В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы // Евангельский текст в русской литературе XVIII—ХХ веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск, 1994. Вып. 1. С. 249–261; Есаулов И. А. Пасхальный архетип в поэтике Достоевского // Там же. Петрозаводск, 1998. Вып. 2. С. 349–362; Есаулов И. А. Пасхальный архетип русской литературы и структура романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» // Там же. Петрозаводск, 2001. Вып. 3. С. 484–499.
[Закрыть]. Этот ряд можно было бы продолжить, включив в круг рассмотрения сочинения авторов второго и третьего ряда как XIX (например, «В лесах» П. И. Мельникова-Печерского), так и ХХ века («Пароль» И. И. Савина, «Побежденные» И. Н. Римской-Корсаковой). Если В. Н. Захаров предпочитает говорить о пасхальном рассказе как особом жанре, то И. А. Есаулов поставил вопрос об особом пасхальном архетипе православной соборной культуры, определяющем своеобразие русской литературы независимо от жанровых ограничений.[732]732
Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995; Есаулов И. А. Пасхальность в русской литературе // Исторический вестник. М.; Воронеж, 2001. № 2/3 (13/14). С. 456–461.
[Закрыть]
Не вдаваясь в обсуждение этих теоретических проблем, вернемся к повести «Светлое Христово Воскресенье» и отметим одну ее особенность. Еще В. А. Кошелев указал, что текст у Хомякова в два раза короче, чем у Диккенса[733]733
См.: Хомяков А. С. Светлое Воскресенье. С. 83.
[Закрыть]. Однако в последнем абзаце все наоборот. Финал Диккенса краток. Это лаконичные, энергичные фразы: «<…> and it was always said of him, that he knew how to keep Christmas well, if any man alive possessed the knowledge. May that be truly said of us, and all of us! And so, as Tiny Tim observed, God Bless Us, Every One!». Перевод Т. Озерской несколько длинее: «<…> и про него шла молва, что никто не умеет так чтить и справлять святки, как он. Ах, если бы и про нас могли сказать то же самое! Про всех нас! А теперь нам остается только повторить за малюткой Тимом: да осенит нас всех Господь Бог своею милостью!»[734]734
Диккенс Ч. Собр. соч.: В 10 т. Т. 8. М., 1986. С. 70.
[Закрыть]. А вот текст Хомякова:
Но про него <…> все говорили, что никто не умел быть так весел и счастлив в Светлое Воскресенье, как он, что никто не умел так хорошо праздновать его, с таким любящим вниманьем и так много делать добра и помогать своему ближнему <…> с той любовью и кротостью христианина, которая требует, чтобы не ведала наша левая, что подает правая…
Дай-то Бог, чтобы и про каждого из нас мог всякий тоже сказать, что сумеем и мы сделать из каждого Божьего дня Светлое Воскресенье каждому последнему из наших страждущих братий – когда нас только ни призовет к нему его строгая нужда… Помните, дал же когда-то такое обещанье в своем добродетельном порыве Скруг своему Духу будущего и, как слышно, по мере сил и возможности, сдержал слово. Да обещает то же и каждый из нас тому душевному ангелу-хранителю, которого он избрал для своего будущего! И да благословит нас на такой подвиг всей жизни. Господь наш, всех нас и каждого, большого и малого, – как то, помните, раз сказал маленький Степа.[735]735
Хомяков А. С. Светлое Воскресенье. С. 105.
[Закрыть]
У Хомякова финал вдвое длиннее, чем у Диккенса. На фоне той краткости, которая свойственна его переложению, это, конечно, особенно значимо. Условием той пасхальной радости, которую читатель может испытать в реальности, оказывается «подвиг всей жизни» – тот самый, который, как напишет Хомяков в стихотворении 1859 года, свершается «в терпеньи, / Любви и мольбе». Поэтому трудно согласиться со словами В. А. Кошелева о том, что превращение Скруга «явно утопично, но Хомяков и не настаивает на нем <…>. Просто эта утопия и эта мечта – часть того праздника Светлого Воскресения, который, в отличие от веселого английского Рождества, наполнен наивысшим смыслом»[736]736
Там же. С. 83–84.
[Закрыть]. Во-первых, мечта, а тем более утопия, – понятия, плохо совместимые с православной верой, сердцем которой является Пасха. Во-вторых, превращение старого скряги у Хомякова, как и у Диккенса, не утопично, а сказочно. Указание же на подвиг (чего в английской повести нет) решительно проводит в финале границу между сказкой и действительностью.
Воскресения нет без смерти, и преображение души покупается ценой страданий. Именно так оно приходит к героям не только Достоевского, но и писателя совершенно иного склада – Ивана Шмелева. Говоря о Пасхе в его творчестве, упоминают обычно «Лето Господне», где церковные праздники пережиты чистым сердцем маленького ребенка. Благодаря этой чистоте радость рождается сама собой. Но есть у Шмелева целый ряд произведений, где пасхальное просветление покупается именно ценой подвига.
В рассказе «Перстень» (1932–1935) экстравагантная красавица-богачка именно в Светлый День, день Воскресения Христова в раскаянии разрывает свою тайную связь с повествователем – известным актером. Во время пасхальной заутрени в Кремле она последний раз видится с любовником и просит ее забыть. Захваченный страстью актер закрыт для переживания праздника: «Крестный ход, огни, ракеты, горит Иван Великий, все ликуют… пылает сердце – Кремль, Россия. А я – как “демон мрачный и мятежный” взираю, только. Все для меня погасло, нет огней. <…> Миг счастья, только миг. В звоне-гуле взглянули на меня… <…> Кругом – восторги, ликованье, братство… “Христос Воскресе!”. – “Воистину Воскресе!”. А я – как умер»[737]737
Шмелев И. С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3. М., 1998. С. 206–207. Далее ссылки на произведения И. С. Шмелева даются по этому тому с указанием страницы в скобках.
[Закрыть]. Эта антитеза пасхального звона и духовного состояния человека напоминает строки хомяковской «Кремлевской заутрени на Пасху» (1850):
И мощный звон промчался над землею,
И воздух весь, гудя, затрепетал.
Певучие, серебряные громы
Сказали весть святого торжества;
И слыша глас, ее душе знакомый,
Подвиглася великая Москва.
Все тот же он: ни нашего волненья,
Ни мелочно-торжественных забот
Не знает он, и, вестник искупленья,
Он с высоты нам песнь одну поет, —
Победы песнь, песнь конченного плена.
Мы слушаем; но как внимаем мы?[738]738
Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л., 1969. С. 129–130.
[Закрыть]
Для героини «Перстня» пасхальный звон кремлевских колоколов действительно возвещает о конце ее плена – освобождении от страсти. Стремясь искупить грех, она жертвует свои деньги на приюты, уходит на фронт сестрой милосердия и умирает, заразившись там тифом. Актер после революции бедствует, голодает, но хранит перстень, подаренный ему в Кремле в час прощания. «Я ждал: вот Светлый День настанет. И он настал… в голоде, в аду, во мраке» (208). Что же становится для рассказчика этим Светлым Днем, подлинной Пасхой? Как и его любимая, он, говоря словами того же стихотворения Хомякова, открывает «объятья / Для страждущих, для меньшей братьи всей»[739]739
Там же. С. 130.
[Закрыть]. Когда «кругом от голода валились», он обменял перстень – последнее, что у него было, – на муку, собрал окрестных детей и накормил их. «И легче стало. Будто очищался, отмывался… ото всего. Воспоминанья сожраны, я – н о в ы й: ни “жизни мышьей беготни”, ни… лжи» (208).
В рассказе «Свет вечный» (1937) повествователя-маловера поражает строгое поведение крестьянской семьи в Страстную пятницу. Через двенадцать лет, уже при советской власти, те же крестьяне, защищавшие свой храм от поругания, спокойно идут на расстрел: «Смоем грех. Это, барин, уже за в с ё расплата» (224). В глазах крестьянского парня, которого он в ту давнюю пятницу соблазнил своей колбасой, рассказчик видит «сознание <…> не вины, как прежде, а жертвы, искупления <…>. Увидал глаза – и понял: э т о – у м е р е т ь н е м о ж е т. Свет его глаз, с в е т в е ч н ы й, проник в меня и озарил потемки» (224). В рассказе почти с таким же названием – «Свет» (1943) – герой, процветающий парижанин Антонов, чудом остается жив во время бомбардировки. Его спасает и счастливое стечение обстоятельств (осмысляемое как милость Божия), и доброта его нищего соотечественника, однорукого капитана. Приходя в себя в его подвале, Антонов слышит пение: «… и сущим во гробех живот даровав».
« – Это вы пели, господин капитан? – Я. Пою иногда, молитвы. Тяжело… рядом ведь “сущие во гробех”… – мотнул капитан за стены, – и Пасха скоро… вот и запелось.
“Сущие во гробех!..” – прошептал Антонов и перекрестился, в страхе» (249).
Герой ужасается и участи своих друзей, погребенных за стеной под обломками, и собственному вчерашнему прошлому. Устыдиться себя его побуждает спокойная доброта капитана, вся жизнь которого есть страдание и подвиг. Как и хомяковский Скруг, герой этого рассказа готов отринуть свою самодовольную черствость и начать новую жизнь.
Кульминация романа Шмелева «Няня из Москвы» (1933) приходится на день Вознесения Господня, которым завершается празднование победы Христа над смертью. Чтобы узнать содержание письма, от которого зависит судьба ее воспитанницы Кати, старая, больная и неграмотная няня Дарья Степановна едет из Нью-Йорка в Париж. Но тяжела ей не столько эта дорога, сколько необходимость просить письмо у католической монахини, сестры Беатрисы. Несколько лет назад Катя уже обращалась с такой просьбой, но сестра Беатриса предстала перед ней «живым камнем» (147), поскольку письмо содержит признание ее родной сестры (Катиной соперницы в любви) в самоубийстве. Няня боится, что сестра Беатриса посмеется над ней: «Я уж как сумашедчая тогда стала, не ела – не пила, ночей не спала… на страсти какие еду! <…> на страшный суд словно бы иду» (176). Но во время тяжелого разговора взгляды женщин сходятся на висящем в келье распятии; после этого обе иначе смотрят друг на друга – с пониманием, с состраданием. Как неоднократно повторяет Дарья Степановна, это Господь их обеих «наставил», «навел» нужные мысли, подсказал нужные слова (183, 185, 190); отсюда сюжет устремляется к счастливой развязке. О том, что это произошло именно в день Вознесения, говорится трижды: перед поездкой Дарьи Степановны к сестре Беатрисе (180), в начале их разговора (182) и после его окончания: «<…> ну, самое Вознесение на небеса!» (186). В этой связи уместно напомнить кондак праздника: «Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами и никтоже на вы». Роман Шмелева воплощает эти слова в сюжете.
Примерно через 40 лет после появления повести Хомякова – первого образца жанра – пасхальный рассказ стал массовым явлением газетно-журнальной беллетристики. В. Н. Захаров справедливо указывает, что немало таких рассказов, приуроченных к Пасхе и опубликованных в пасхальных номерах, по своему содержанию пасхальными отнюдь не были; исследователь ссылается на рассказ М. Горького «На плотах» (1895)[740]740
Захаров В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы. С. 256, 259. См. Так же: Баран Х. Поэтика русской литературы начала ХХ века. М., 1993. С. 315, 317–319.
[Закрыть]. Антипасхальным можно назвать и рассказ А. Н. Куприна «Пасхальные яйца» (1911). Как и в сюжете, который Хомяков взял у Диккенса, здесь есть богатый, черствый старик-дядя (угрюмый холостяк) и бедный племянник, который хочет поздравить дядю со Светлым Воскресением. Но на этом сходство и кончается. Подросток покупает в цветочном магазине яйцо, на котором, по обещанию продавца, к Пасхе вырастет кресс-салат. Но когда в Светлое Воскресенье герой дарит яйцо, на нем неожиданно обнаруживается надпись «Я был лысым». К ужасу рассказчика, дядюшка срывает с себя парик, обнажая лысину, и кричит: «Мерзавец, проклинаю тебя и лишаю наследства отныне и во веки веков, аминь! Вон!..»[741]741
Светлое Воскресение: Произведения русских писателей. М., 1994. С. 245.
[Закрыть]. Так в самый день Воскресения Христова герой рассказа, по его собственным словам, «через одно пасхальное яичко <…> лишился наследства, родни и поддержки»[742]742
Там же. С. 243–244.
[Закрыть]. Дядя воспринимает как издевательство над собой подношение племянника, а тот – всю свою судьбу, которая вечно выставляет его смешным неудачником: «Приходится смириться, закрыть глаза, не дышать, спрятаться куда-нибудь в угол, накрыться с головой одеялом и терпеливо ждать смерти»[743]743
Там же. С. 243.
[Закрыть]. Не больше пасхальности и в рассказе Тэффи «За стеной» (1910), где квартирная хозяйка разговляется вдвоем со своей жиличкой. Нелепы, уродливы и несчастны обе старухи, нелепа их ссора, которой кончается вздорный застольный разговор, нелеп даже кулич: «Кривой, с наплывшей сверху коркой, облепленный миндалинами, он был похож на старый гнилой мухомор, разбухший от осеннего дождя»[744]744
Там же. С. 220.
[Закрыть]. В финале рассказа через открытую форточку доносится живой ветер, запах весны и пасхальный благовест – «отзвук далекой чужой радости»[745]745
Там же. С. 226.
[Закрыть]. Но изображенных женщин радость Воскресения не касается даже на миг. Празднование Пасхи, как и в ряде других рассказов, оказывается формальной данью обычаю.
В начале ХХ века образ Пасхи претерпел в журналистике и литературе и другие изменения. У Хомякова и его последователей этот праздник неразрывно связан с обновлением соборного чувства, с обостренным ощущением другого человека как ближнего, как брата во Христе. В «Кремлевской заутрене на Пасху» поэт, как подчеркивал В. А. Кошелев, принципиально отказывается от лирического «я»; авторское «мы» становится знаком соборности сознания, а «весть святого торжества» неотделима от идеи братства всех людей[746]746
Кошелев В. А. «Прихоть головы»: Заметки о лирике Хомякова // А. С. Хомяков: Проблемы биографии и творчества: Хмелитский сб. Смоленск, 2002. Вып. 5. С. 45–46.
[Закрыть]. Но идея братства обернулась в начале ХХ века революционной демагогией, и та «песнь конченного плена», о которой говорилось в стихотворении Хомякова, стала звучать как «Марсельеза». В оппозиционной прессе тема Пасхи превратилась в радикально-политическую: «мученичество и воскресение Иисуса Христа было исключительно удобно использовать в качестве аналогии страданиям народов России и их упованиям на будущее»[747]747
Баран Х. Поэтика русской литературы начала ХХ века. С. 297.
[Закрыть]. Эта тема подробно рассмотрена в работе Х. Барана «Пасха 1917 г.: Ахматова и другие в русских газетах»[748]748
Там же. С. 239–347.
[Закрыть]. Не касаясь материала, приведенного американским исследователем, обратимся к его преломлению в эпопее А. И. Солженицына «Красное Колесо». П. Е. Спиваковский выделил в ней сквозной мотив псевдопасхи, связанный с другими символическими мотивами повествования – солнечного затмения и гуннов[749]749
См.: Спиваковский П. Е. Символические образы в эпопее А. И. Солженицына «Красное Колесо» // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 2003. Янв./февр. Т. 62. № 1.
[Закрыть]. Добавим к этим наблюдениям, что в эпопее несколько раз упоминается мнимо-пасхальный звон, возвестивший о победе революции. По ощущению одного из персонажей, философа Варсонофьева, этот звон «на третьей неделе Поста <…> был как охальник среди порядочных людей, как пьяный среди трезвых. <…> Это были удары – как если бы татары залезли на русские колокольни и ну бы дергать» (VII, 46)[750]750
Здесь и далее в скобках даются ссылки на издание: Солженицын А. И. Красное Колесо: Повествованье в отмеренных сроках. М., 1993–1997; римская цифра обозначает том, арабская – страницу.
[Закрыть]. В другой главе Ксенья слушает тот же «громовой колокольный звон, как пасхальный», и чувствует, «что это неуместно и даже обидно: как же так, на великий пост?». А «многие прохожие <…> восхищались, как это замечательно придумано: отметить колокольным звоном праздник обновления России. Некоторые шли смеялись, а другие крестились по привычке. Правда, слышали, что этот звон – подменный какой-то» (VII, 230). Показательно, что Ксенья про себя определяет псевдопасхальный звон так же, как и Варсонофьев: «пьяный» (VII, 231). Этот звон – символ духовного опьянения и ослепления народной души, символ свершившейся глобальной духовной подмены. «Из проповеди священника в те дни: “Мальчики и девочки с пальмами и цветами встречали Христа Спасителя – вот как сейчас гимназисты и гимназисточки встречают Великую Русскую Революцию”» (VIII, 117). Подобное переосмысление календаря предстает как результат глобального искушения, которому поддается Россия. Не соборному братству во Христе открывает путь эта псевдопасха, а его страшной карикатуре – советскому коллективизму.
Подлинная Пасха при этом отодвигается на задворки национальной жизни и дискредитируется. «Тема этой незамеченной, упущенной Пасхи проходит у Солженицына по “апрельским” страницам», – справедливо замечает И. Б. Роднянская.[751]751
Роднянская И. Б. Уроки четвертого узла // Роднянская И. Б. Литературное семилетие (1987–1994): Статьи. М., 1995. С. 15.
[Закрыть] «Уже ворчали ответственные люди и газеты, что слишком много времени потеряно после революции, теперь еще эта Пасха не вовремя, сбивает темп, необходимый повсюду, и “Речь” призывала сограждан самим сокращать себе неуместный сейчас праздник» (IX, 19). И вот уже делегаты царскосельского гарнизона обращаются к рабочим судостроительного завода с требованием «напряженной работы на оборону. “И заклинаем товарищей не губить родины празднованием Пасхи! Не услышите – найдем средства заставить!”. Рабочие отвечали: охотно пойдут навстречу желаниям солдат» (IX, 85). Люди даже не замечают абсурдности предположения, что Пасха Господня может быть «не вовремя», что ее празднование может погубить родину – страну, которая еще числится христианской. Отказ от Пасхи показан в «Красном Колесе» как следствие отказа от самоограничения, от подвига, от Креста[752]752
См.: Шешунова С. В. Колесо и Крест // Посев. 2003. № 12. С. 3–6.
[Закрыть]. Здесь – истоки пути к тому страшному состоянию России, которое показано в раннем рассказе Солженицына «Пасхальный крестный ход».
Беллетристический опыт Хомякова оказался провозвестником не только жанра пасхального рассказа, но и одной из важнейших тем русского романа. Если в XIX веке тема Пасхи связана главным образом с помрачением и просветлением души героя, то в ХХ она нередко соотносится с судьбой всей России.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































