Текст книги "Броуновское движение"
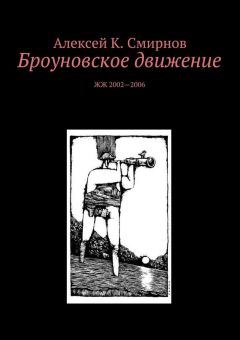
Автор книги: Алексей Смирнов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 44 страниц)
Если я ничего не путаю, в 1984 году я решил отпраздновать 23 февраля.
Тут, собственно говоря, и вспоминать-то нечего – дебош он дебош и есть, один из бесчисленных. Но тогда был единственный случай, когда мы натешились в ресторане, да нам еще за это заплатили денег, и не кто-нибудь, а халдей.
Мы, без одиннадцати минут офицеры, выпили бутылку водки и пошли в ресторан «Балтика». Там была длинная очередь, но мы, повторяю, уже выпили бутылку водки, и потому в очереди стоять не стали, а сразу сели за столик. И стали диктовать оттуда, веля принести новую водку и, черт с вами, салат. Угостившись из графина до дна его и оставив салат на потом, мы отправились танцевать под песню за тех, кто в море. Мы учились на военно-морской кафедре, и нам казалось, что эта песня про нас. Там же мы познакомились с женщинами, которые явились поздравить героических мужчин со светлым праздником через то, что готовы были вместить их подправленную алкоголем генетическую информацию. Мы решили приберечь этих простых русских женщин с крынками на десерт и пошли назад к столику. Там, оказалось, уже произошла драка. Наш столик повалили, растоптали беззащитный салат и теперь пинали графин, уже давно пустой нашими стараниями.
Тут же подсуетился халдей, который стал требовать с нас денег за разбитое и растоптанное.
Мы ответили ему, что даже не успели попробовать его деликатесов. Мы показали ему двадцать пять рублей и сказали, что он их получит, если принесет нам еще. А сдачу пусть даст прямо сейчас.
Одурманенный собственным хлебосольством лакей вытаращился на гипнотическую бумажку, отсчитал нам заранее сдачу и удалился в салатную.
Мы решили, что сдачу делить лучше не здесь, а на улице, спустились в гардероб, и, после крайне тревожной заминки с номерком, ушли.
КружкаУ меня дома есть увесистая пивная кружка с откушенным краем. Она мне досталась от деда жены. Судя по прежнему владельцу, это заслуженная, повидавшая виды Вещь. Вероятно, ее вынесли за щекой из зеленогорской пивной под неофициальным названием «Черный Кот», которую, как и все прочие интересные места, покойный дед именовал «буфетом».
«Постоял у буфета» – так он любил выражаться. И еще на многое говорил «О как». Сдержанно. Например, когда кому-нибудь давали в глаз.
Из этой кружки я теперь регулярно пью гепатитную воду из-под крана и только здоровее делаюсь.
Она меня выручала в лихое время, когда из всех пивных ларьков и шалманов куда-то пропали кружки, сменившись полулитровыми баночками. Эти баночки я недолюбливал из-за резьбы. В бороздках скапливалось то же пиво, которое круговращалось и практически неизмененным выделялось из высосавших его гурманов. Оно подсыхало, мешаясь с рыбными чешуйками, и смачивалось слюной для пущей легкости заглатывания.
Все это я не любил. Поэтому клал кружку в мешочек и отправлялся освежиться.
Однажды это чуть не стоило мне жизни.
Я пришел в один зал, где висел здоровый плакат с от руки нарисованным котом Леопольдом, который предупреждал: Ребята! Давайте правильно наливать пиво.
Чуть пониже шла огромная надпись: Граждане посетители! От вашего поведения зависит СУЩЕСТВОВАНИЕ пивного зала!
Я вынул кружку и торжествующе выпил из нее, победно взирая на повальную баночную безвкусицу. Потом, допив, уложил кружку в мешок. Тут-то на меня и накинулся кот Леопольд, которого озвучивала румяная горилла промежуточного пола:
– Кружку! Кружку ложи на место! Верни кружку! Держите его, он ворует кружку!
Она прекратила наполнять баночки и высунулась из окошка, заполнив его всё.
Я, пятясь, отступал к выходу и лепетал про дедушкино наследство. Наконец, побежал.
«Нас не догонят!» – вот какой был у меня девиз в те далекие времена. Теперь народ измельчал. Теперь его подхватили какие-то мокрощелки, которых я в том зале никогда и не видел, цена им три рубля.
ГригорьевичМеня всегда пугают именные питейные заведения.
Вот, например, на Садовой есть рюмочная «У Григорьевича».
Раньше бы этому Григорьевичу дали по ушам. Все было анонимно: Котлетная, Пельменная, Стаканная. И чувствовалась за всеми этими оплотами и приютами сонная Сила – аморфная, безымянная и бесконечная. Она была как море: ныряешь – и выныриваешь, хапаешь воздух, и снова ныряешь, в нее же. И серый горизонт.
А теперь появился Григорьевич.
Нет, между прочим, никаких сомнений в его реальном существовании. Скорее всего, это подлинное отчество хозяина. Реальный Григорьевич не спит, не ест и не пьет, он видеть не может оскаленных посетителей, которых ему удается осчастливить. Он озабочен налогами да бандитами.
Зато умозрительный Григорьевич становится фигурой собирательной. Он нечто намного большее, он слово с Большой Буквы. Хлебосольный Григорьевич образует отдельную метафизическую категорию. Он, не к ночи будь помянут, терзает покинутых жен, им пугают детей. Он караулит их кормильцев, притаившись, невидимый, под неоновой рюмкой. И после, угостившись на брудершафт с этими кормильцами, потирает свои волосатые лапы и медленно превращается в абстракцию.
Сад приутюженных тропокСимволом нынешних перемен для меня выступает ближайший парк – скромный оазис в промышленном окружении, носящий имечко не из святцев: «Памяти Жертв 9 Января».
Хороший был парк.
Я смутно припоминаю, что в нем была даже каруселя, на которой я ездил, а пруд был сравнительно чистый, с проволочной оградой, о которую я в пятилетнем возрасте разодрал себе горло, пытаясь прорваться за какой-то дубиной.
Ну, каруселю Советская Власть, измученная гонкой вооружений, не потянула. Это была роскошь.
Еще она не потянула сортир и летнюю эстраду. Но на качели, если их не красить и не чинить, хватало.
А потом все развалилось, и парк в том числе. Правда, даже в условиях начального капиталистического безобразия он сохранял известную прелесть. Эстрада заросла буйной зеленью и сделалась вполне живописной. Спортивных лесенок и колец нам с дочкой было достаточно, чтобы силой воображения преобразовать их в метро и путешествовать в разные волшебные места. В пруду, глубиною полметра, купались собаки вместе с порядком уже мутировавшими хозяевами. Укромные алкогольные уголки превращались в мужские клубы с допуском избранных дам.
Но вот начались изменения. В парк приехали многочисленные строительные вагончики, тракторы, бульдозеры и прочая рабочая сила. Пруд почистили, устроили лесенки, чтобы удобнее было пакостить, и его, разумеется, загадили моментально.
Полувековые деревья перепилили на дрова за нескромность. Вернули убогий бюстик Васи Алексеева, которого свергли в запале, и недовольные начертали, помнится, на осиротевшем постаменте: «дермократы, будьте вы прокляты». Бюстик революционной шпаны вернулся, отлитый заново, с особенно гадкими, сглаженными чертами. Надпись еще видна: ее не слишком затирали, соблюдая плюрализм и всенародное примирение.
Снесли кольца с лесенками, убрали качели. Посулили построить много хорошего для детей – ну, не помню уже, что им нужно: казино там, бар, и вообще сказочный мир. Не построили.
Раскатали дорожки, понаделали низких оградок, проехались катком по алкогольному гайд-парку, долбанули железной грушей по зданию администрации, проделавши там дыру в три человеческих роста, и уехали.
Теперь в нашем парке все гладко, ровно. Воет ветер. Пустынно и очень прилично, всюду вежливые газоны. Входишь и идешь, не задерживаясь. Быстро проходишь по вылизанным дорожкам. Выходишь на три буквы, повинуясь незримому указателю.
ТянитолкайБыло дело, мне попалась милая карикатура. Сидят на скамейке бабушки, а мимо идут детки. Бабушки показывают на деток, а детки – на бабушек. И все говорят: «Это наше будущее».
Как это верно.
Смещаются акценты, развивается мышление.
Я рос общительным ребенком (поначалу).
Любил бабулек всяких.
Однажды, когда я учился в первом классе, мне дали задание придумать десять задач на вычитание. Было десять яблок, взяли одно, осталось девять. Было девять груш, взяли одну, осталось восемь. На цифре семь я сломался.
Сидел и тоскливо глядел в окно, на скамейку, где грелись бабушки. Потом написал: во дворе сидело семь старушек. Одну старушку увезли. Осталось шесть.
Если во дворе никого подходящего не было, а я гулял, то приходилось прибиваться к этим старушкам. Я это делал охотно, у меня была похожая на них прабабушка, которая часами выслушивала мои разглагольствования. Я ей сказки рассказывал – свои и про Айболита.
Так что, понятно, я стал рассказывать про Айболита и тем, на скамейке. Стою в коротких штанишках, размахиваю руками – захлебываюсь! Дошел до Тянитолкая. Они смеются! Одна подается ко мне и шепчет в ухо поганым беззубым ртом: «Ну, а говняшки-то, говняшки откуда у него выкатываются?»
Зачистка и утечка мозговВот какой был однажды скандал.
В одном конструкторском бюро любили зачищать электроды.
Для этого, как всем известно, существует очень вкусная жидкость.
Настало утро, когда начальник КБ не выдержал и всех предупредил: он якобы плеснул туда бесцветной отравой, чтобы положить зачистке конец. Так что если чего случится, то его хата с краю.
Нашелся смельчак, которому с отравой жидкость показалась даже вкуснее. Ничего особенного не произошло, но с работы пришлось уйти, да еще, представьте, лечиться. Несколько лет.
И вот он в очередной раз поступил в мою незабываемою больницу. Правда, не ко мне, а к моему товарищу – доктору С., если кто знает по основной хронике.
И доктор С. послал его к физиотерапевтихе, чтобы та ему выписала грязи и сон. И еще горный воздух, который не знаю, откуда на тамошних болотах брали.
Так вот инженер пропал минут на сорок. Доктор С. пошел узнать, в чем дело. Заходит в кабинет и видит: докторша втиснулась в спинку стула и сидит, белее белого. Пальцы сведены писчим спазмом, лицо расползается. Пациент же стоит, небрежно прислонившись к косяку, и с некоторой надменностью разглагольствует. Доктор С. сгреб его за шиворот и выволок, едва тот успел докончить фразу:
– … и вообще, я должен вам признаться, что являюсь участником всемирного комитета «Сексуальное Лицо Инквизиции».
МилиционерОднажды я познакомился с Добрым Милиционером. Во всяком случае, он относился к породе людей – ну, не совсем современных, конечно, водились же некогда какие-то неандертальцы, синантропы, так вот он из них был. Не из числа, короче, горилл и гиббонов.
Мне было семнадцать лет, мы с приятелем выпили пива в скверике. Вышли под арку, на улицу, и тут меня цап! Поймал Милиционер. Он был молод и строг. Помимо пива, я не знал за собой никакой вины и пошел с ним, сильно подавленный. Приятель мой убежал. Он бежал по-особенному: медленно, но очень длинными прыжками, и поминутно оглядывался, потому что ему и убежать хотелось, и узнать, что со мной делают.
Милиционер завел меня в опорный пункт, надеясь, что там-то я, под впечатлением от увиденного, сознаюсь во всем. События, царившие внутри, я наблюдал впервые в жизни и стоял с разинутым ртом. Милиционер потоптался и, не дождавшись явки с повинной, вывел меня на воздух. Там он добродушно сказал мне:
– Знаешь, мне тут скучно ходить одному, так вот чтобы тебя не забирать, давай ты со мной немножко погуляешь!
Я сдержанно согласился. И мы с ним гуляли четыре часа – по Тверской, по Суворовскому проспекту, по улице Бонч-Бруевича, возле Смольного в одноименном саду. Милиционер не умолкал. Он рассказывал мне историю за историей про какого-то Колю-Колокольчика, которого, пьяного, провожали в армию. Иногда он прерывал рассказ, внимательно смотрел на меня и грозил пальцем со словами:
– А все-таки я чувствую, что за тобой что-то водится!
Часов в одиннадцать вечера он меня отпустил. Мы прямо-таки подружились. Пригласил зайти в милицейское общежитие, но я поостерегся. Надо мной висел зачет по анатомии, а поведение животных – большей частью, глистов – я уже сдал.
Все последующие милиционеры, с которыми меня пересекало, были болотными гадами.
Помню, они приняли меня в свои объятия, едва я вывалился из троллейбуса возле метро. Я еще и сделать-то ничего не успел, чтоб арестовывать. Завели в свою комнатку, велели поприседать с растопыренными пальцами. Но тут ввалилась целая куча вооруженных и возбужденных горилл, которые волокли леньку пантелеева; тот, получивший четыре пули в голову, сулил милиционерам нечеловеческие мучения в самом ближайшем будущем. «Иди на хер отсюда!» – сказали мне.
ПаласИногда у нас в больнице образовывалось производственное собрание.
В маленькую комнату набивались сестры, отягощались сестрой-хозяйкой, да еще прихватывали меня, если успевали изловить.
Казначейша – оборотистая сестрица с товарно-денежными интересами – отчитывалась, сколько куплено мыла и наволочек.
Специально выбранный Секретарь все это записывал. Секретарями бывали сестры помоложе, еще не разучившиеся красиво писать. Они сразу становились немного серьезнее, чем обычно.
На вкусное оставляли вопросы, касавшиеся обустройства кабинета Заведующей.
Бывало, что в отделении заводились лишние деньги (карманные, халатные, неучтенные). Казначейша вечно вынимала их из разных мест. И вот решали, что купить: Штору или Палас.
– Палас! Давайте купим Палас! – глаза казначейши горели. – Я тут видела Палас!..
Я сидел, закрыв лицо ладонью. Наконец, не выдерживал и спрашивал:
– Ну зачем нам Палас? Ведь мы же на работе, мы не дома… На кой черт нам сдался Палас?
Казначейша чуть поперхивалась и набирала воздух в мясомолочную областную грудь. Сестра-хозяйка округляла глаза и шептала, нажимая на букву «о», испуганные слова про Заведующую, от каких сразу веяло чем-то отлично знакомым, из пьес Александра Островского:
– А она бОгатство любит!..
ЛюксНачитанный и грамотный человек нигде не пропадет.
Если какой грамотей закономерно угодит под нары, то и там ему светит завидная карьера. Глядь – а он уже лежит у кого-то под татуированным боком, романы тискает, развлекает. Потом еще бумагу какую напишет адвокату, или письмо Тосе Жоховой на деревню, чтобы не слишком там без коханого блядовала. Выстраивается очередь, все его уважают, зовут Профессором. А там уж и срок весь вышел, назначенный за спекуляцию марками.
Вот и я не пропадал, в больнице-то.
Мне тоже поручали составлять разные бумаги, потому что сами слогом не владели, а за мной, когда надо было, признавали умеренные литературные способности.
Как-то раз затеяли тяжбу с бытовым магазином. В магазине на какие-то шальные деньги был куплен маленький телевизор, чтобы поставить его в палату Люкс. Люкса в палате было столько, что дыхание перехватывало. А с телевизором сделалось вообще ни в сказке сказать. Это ж еще и психотерапия! Лежит себе больной со сломанной шеей, ниже которой у него ничего не работает, и смотрит на телевизор. И кажется ему, что они, если напрячься фантазией, товарищи по несчастью: у него говорящая голова без ничего, и у того, между прочим, тоже говорящая голова, только квадратная, но этим-то фантазию не смутишь, эка невидаль.
Но телевизор сломался, не затруднившись даже новости показать.
В него заполз таракан.
Казначейша нашего отделения взяла телевизор под мышку и понесла к продавателям. С претензией: вы, дескать, нам продали телевизор с готовым тараканом в жизненно важном узле. Но там, не будь дураки, ответили, что знать ничего не знают, а таракан в телевизоре, наш, с отделения, поэтому отвечать за него никто в их образцовом магазине не будет. Напрасно казначейша доказывала, что только вчера приходили с фукалкой и все полили, какие могут быть тараканы! Про фукалку в магазине слушали так, словно им рассказывали про тарелку, летающую на голом энтузиазме.
Поэтому пробил мой час. Мне сказали написать бумагу с грамотным обоснованием таракана. Для справки выдали черновик, который сочинили в бельевой комнате: это был страшный документ, уместившийся в пять с половиной строк. Ничего подобного мне больше не приходилось держать в руках.
И я старался! Ведь я был лагерный романист. Зачеркнул «а», написал «о»; рассказал ошарашенной публике про запятую, нашвырял угроз, выкинул обороты вроде «она мне сказала что не буду» и дал всем расписаться по очереди.
Колеса правосудия медленно провернулись, и тяжба поехала. Я успел уволиться, а с тараканом еще было неясно.
Олл РайтИз монолога моей бывшей Заведующей (ныне лежит в сумасшедшем доме), который не попал в основную хронику «Под крестом и полумесяцем».
– Вы что же думаете – у нас иностранцы никогда не лечились?
(Я ничего не думаю.)
– У нас был один иностранец, американец. У него была травма шейного отдела позвоночника. Том его звали. Сначала он все нос воротил, все ему не нравилось. Ему отдельную палату выделили, все… преклонялись перед ним. Но ничего! И что же вы думаете? Я-то английский язык хорошо знаю. Войду к нему в палату и спрошу: ну, как себя чувствуешь? Он хмурится, но уже, гляжу, не такой, как сначала. А я ему: Олл Райт! И все в порядке.
Выход из тупикаКак подумаешь, сколького мы лишились за эволюцию, так начинает душить жаба. Хорошо бы генетикам вмешаться. Не нужно создавать никаких роботов, и никакой сверхчеловек тоже не нужен. Все уже есть! Наши зародыши стремительно проносятся мимо живописных станций под названиями «Червяк», «Рыба» и «Прочие Гады». И негде преклонить голову. А вот бы сойти, да поднабраться полезного – глядишь, и получится абсолютная неуязвимость, помноженная на долгожительство.
Новые гены вживлять не придется, достаточно избирательно реанимировать старые. И взять все самое хорошее.
От вирусов – непостоянство фигуры.
От амебы – пластичность.
От губок – губы.
От рыбы – жабры.
От таракана – мозги.
От ящерицы – регенерацию.
От птицы – клюв. И, черт с ними, крылья.
От слона – яйца.
От медведя – анабиоз.
Чудо, что получится. Самое классное надо взять, конечно, от лягушек. В медицинском институте этому не учили, но я вроде читал, что самец у них здорово как размножается: залез в купальню и прыснул там под себя, а все вокруг уже беременные. Ни тебе цветов, ни стихов на ушко.
Войдет такой субъект, всем вышеназванным оснащенный, в метро и, допустим, покашляет. И пожалуйста: весь вагон ждет головастиков.
Если он еще и маньяк, то хрен такого поймаешь.
РезонансЛюбому ребенку с яслей известно, что между патологоанатомом и трупом устанавливается особая связь. Они общаются. Я не думаю, что доктор (? не уверен) общается с душой, потому что душа уже улетела. И также не думаю, что он общается с мертвым телом, потому что бессмысленно. Скорее всего, он обращается к остаточной жизни, которая сохраняется в ногтях и волосах, покидая их в последнюю очередь. Он как бы слизывает эту жизнь, словно капельку героина с кончика иглы.
Это общение происходит без слов. Оно заметно по особому взгляду и размеренной мимике.
Однажды я видел, как в судебно-медицинский морг привезли двухнедельный труп цвета малевического квадрата и такой же загадочный. Он был лысый. Глаза были выпучены, рот свернут в приоткрытую удивленную дудочку.
Доктор взял циркулярную пилу для черепа и на секунду завис над ним. Он перешел к нему без паузы, на вдохе, а выдыхал еще у предыдущего стола, где только что закончил работу. Доктор чуть сдвинул брови и тоже вытянул губы в трубочку. «Ну, ты какой, – говорило его лицо. – Ну, что же… " Следя за ним, я понял, что он копирует выражение лица клиента, настраивается с ним в резонанс.
«И даже тобой, таким хорошим, я сейчас займусь, – читалось в лице доктора. – Я оценю твою особенность синхронизацией наших ротовых трубочек».
Все, несмотря на маски, отшатнулись, когда состоялся разрез. Из черепа вылилось нажитое: даты, люди, среднее образование, первый поцелуй.
Начинка сменилась. В череп засунули нижнее белье усопшего. Натянули обратно лицо, которое содрали, словно колбасную шкурку. Поиграли ножом. Пошли дальше.
Наложение щипцовБольница, в которой я служил Отечеству, была горазда на разные штуки. Эта ее особенность обеспечивалась продвинутым кадровым составом.
Кадры, как известно, решают все – кому жить, кому помереть.
В феодальную больничную вотчину попал, по несчастному стечению градостроительных обстоятельств, родильный дом. Он стоял на отшибе, вечно пустовал, и о нем вспоминали редко.
Но пришлось вспомнить.
В одну прекрасную, но холодную зиму туда привезли мою знакомую, о чем я узнал только после того, как ничего нельзя было поправить. Знакомая-то хорошая, жалко, такая немного тургеневская барышня.
Ну, родить-то она как-то ухитрилась, несмотря на оказанные услуги.
Зато потом новорожденного окружили заботой.
В палате новорожденных было сильно холодно, и дежурная акушерка встревожилась. Ее огромное сердце было так велико, что для мозга, не считая нижних отделов спинного, места уже не осталось. Она решила согреть малышей. Это благородное намерение она реализовала при помощи щипцов для завивки. Подложила поближе, чтобы теплее было. О дальнейшем ожоге шеи и головы, которым и было-то два часа от роду, она сообщила только утром, на конференции.
В городскую реанимацию за 40 километров малютку доставили только к обеду.
На следующий день в больнице срочно собрался Совет Безопасности. Издали приказ 227: ни шагу назад. Было решено молчать и стоять на смерть. А роддом вообще закрыть на хер. Одно расстройство с ним.
Малютка выжила, заработав колоссальный рубец.
Больнице выставили иск на двести тыщ, но руководство нарядилось в белые и рваные одежды. Оно завело нечто вроде «люди добри, поможите пожалуста, сами-то мы местные». Короче, денег в больнице не нашлось, что, между прочим, было правдой, потому что потом, как я узнал, кассиршу и бухгалтершу обвинили в хищении именно той суммы, которую прочили малютке.
Правда, больница клялась обеспечить бесплатное лечение на всю оставшуюся жизнь, но это не проканало, потому что все умные и всё понимают. Всем было ясно, что лечение, как и сама жизнь, при таком подходе не затянется.
Недавно мне рассказали, что суд завершился. Безжалостное правосудие выкусило из больницы тридцать тыщ рублей.
Плюс бесплатное лечение.
Малютке благополучно сделали вторую косметическую операцию. Обошлось в шесть тыщ карманных без чека, за «очень дорогой шовный материал».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































