Текст книги "Броуновское движение"
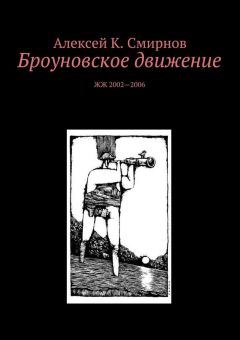
Автор книги: Алексей Смирнов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 44 страниц)
Меня всегда тянуло в разную самодеятельность – то в школьную, то в институтскую. Из амбиций, конечно, но не только из них – еще и ради контраста. У Достоевского в «Записках из мертвого дома» есть место, где рассказывается о каторжном спектакле. И Достоевский, умилившись и окрылившись, говорит нечто вроде: «Нет, можно ведь и здесь жить» (цитата неточная, но по смыслу правильная).
И вечно у меня оставался какой-то осадок после этих мероприятий.
Поэтому, наверно, я так и не сумел полноценно влиться во все эти бригады-отряды. Держался особняком, из-за чего получался уже полный идиотизм, и затея теряла смысл.
Дело, понятно, было в дозированной крамоле, искательном заигрывании с сильными. Песни типа «Мой любимый, родной ЛМИ» всегда вызывали во мне судорожное передергивание, как будто я – свежевыстиранный носок, и меня выжимают. Какой он, к дьяволу, любимый и родной, когда меня в этом ЛМИ имели всеми противоестественными способами? Притворное умиление поросячьего братства, где братья не без опаски посасывают свинью, склонную к свино же пожирательству.
Неплохо, опять-таки, и над собой посмеяться, повеселиться с жюри заодно над собственной нерадивостью, раздолбайством, разгильдяйством, неуспеваемостью – попутно слегка задевая снисходительно-покровительственный Олимп, да и самому жюри оказывая уважительные оральные услуги.
(Все это удачно переползло в КВНы.)
Группа у нас, между прочим, подобралась циничная, в ней такие обычаи не прививались. На четвертом курсе нам выделили кураторшу: чудесную тетю с кафедры гигиены, по-настоящему хорошую, не сволочную, вечно молодую душой, искренне преданную идеалам учебного товарищества. Она честно пыталась устраивать с нами неформальные чаепития, приглашала делиться с ней сокровенными мыслями, но мы не особенно делились, потому что сокровенные мысли у нас еще те были. Себе-то признаться страшно.
Когда мы сказали тете, что у нас есть любительский кинофильм о жизни группы, та восхитилась и немедленно организовала закрытый просмотр, после урока. Зарядили проектор, сели смотреть. Фильм в минуты веселости снимал угрюмый Серёня, человек с простонародными ухватками и первобытной направленностью ума. Сперва все было про группу, кураторша благожелательно улыбалась. Мы посмотрели, как специальная, инвалидная физкультурная группа, в которую вошли все наши самые здоровые лбы, бросает стограммовые мячики. Было приятно, ощущение братства и памяти на долгие-долгие годы курилось и ковалось. Но после физкультуры проектор вдруг стал показывать самого Серёню. Снежные поля, снежные леса: улыбающийся Серёня идет с ружьем. Привокзальный шалман: крупный план. Стойка с ценниками: крупный план. Бутылка портвейна: крупный план. Наплывает стакан, в стакан льется жидкость. Довольный Серёня протягивает руку…
В кинозале прыснул гадкий смешок, наша наставница расстроенно заерзала.
Но не сдалась! «Ко мне и через много-много лет приходят мои ученики, – говорила она и добро смотрела на нас. – И нам всегда есть о чем поговорить. Бывает, я посоветую что-то, объясню, помогу…»
Никто, никто не пришел к ней через много-много лет.
Весенний МарафонВ нашем районе с похвальным усердием празднуют День Пожарника.
Никакие другие дни не празднуют, а этот не забывают.
И постоянно устраивают Марафон.
Я сначала не мог понять, хоть убейте, какая связь между Днем Пожарника и Марафоном. Но потом догадался, что Марафон – всего лишь полезное упражнение в бегстве.
Сегодня отдельный дедуля под номером 248 перекрыл движение на проспекте Стачек.
Все уже давно убежали, а он все шел – именно шел, немного спортивным шагом. На вид ему было годков под восемьдесят, он шел при седой бороде, пронумерованный и оттого значительный.
«Скорая помощь» медленно оттесняла дедулю к тротуару и гостеприимно распахивала дверь, но дедуля продолжал ковылять.
Сзади ползла и мигала серьезная милиция.
А проспект опустел, занятый сугубо дедулей и его обеспокоенным эскортом.
В этой ситуации я тоже не сразу разобрался. Сперва я решил, что дедуля – внучатый племянник Порфирия Иванова, написавшего наставление о зимней ходьбе босиком под названием «Детка».
И вдруг меня осенило, что дедулю надо в первую очередь тренировать спасаться. Потому что в сводках происшествий то и дело читаешь: «на месте пожара после совместного распития спиртных напитков обнаружен труп семидесятилетнего мужчины… восьмидесятилетнего мужчины… девяностолетней женщины…»
Готовь сани летом, как говорится!
Хорошо бы этого дедулю выпустить еще на День Медработника, с полным повторением антуража.
КулибинКаждым народом владеют демоны. Паразитируют, науськивают, ведут носителя к своей недостойной цели. Но действуют слаженно, дружно, вызывая к жизни ту или иную организацию общества.
Наша беда, а может быть, и спасение, в том, что нашим народом владеют РАЗНЫЕ демоны. Им никак не договориться между собой, всякий тянет на себя кусочек бездуховного одеяла. Поэтому ничего внятного не получается, и все, может быть, обойдется. Иначе вышло бы полное светопреставление, потому что у нашего народа колоссальный потенциал. Единодушное служение какому-то отдельному бесу привело бы к фантастическим достижениям культуры и техники.
А пока этим творческим потенциалом пользуются мелкие бесы. Наполняют население, кто в лес, кто по дрова, злобной и сильной волей.
Знал я когда-то одного молодого человека, моего тезку – знал очень плохо, в этом мне повезло. Если бы этого Лешу пожирал какой-нибудь высокоидейный бес, он бы придумал, скажем, летающую тарелку или открыл богатырское антивещество. Но в бесах согласия не было, и возобладала совершенная шпана. Леша стал наркоманом и благополучно сел.
Посидев, он вышел и каким-то невероятным провидением устроился работать медбратом в больницу, в травматологическое отделение. Подпускать его к наркотическим препаратам было строго-настрого запрещено, однако Лешу подпускали, потому что деваться было некуда. Допускали, правда, в присутствии доктора, под пристальным контролем. Потому что Леша прекрасно умел запаивать ампулы, нагревая их зажигалкой, в сортире. Предварительно отсосавши вкусное и напрудивши невкусное – например, димедрол.
И дело выглядело так.
Поручают, стало быть, Леше сделать наркотический укол. В сопровождении доктора Леша идет в процедурный кабинет. Под строгим взглядом доктора отпирает сейф ключами, врученными ему на три секунды. Вынимает ампулу. Насасывает шприц. Ампулу, по инструкции, в присутствии того же доктора накрывает газетой и раскатывает в порошок молочной бутылкой. Идет по коридору, воздевши шприц к небу. Доктор топает рядом. Входят в палату. Там уже обнажилось хамское операционное поле, жаждущее укола и не въезжающее в высокую наркотическую идею. Леша вонзает иглу. Давит на поршень. Шприц пустеет. Доктор удовлетворенно кивает и уходит. Леша тоже удовлетворенно кивает и тоже уходит, к себе.
Операционное поле, поделенное природной щелью надвое, мучается. Оно не получило укола. Ему больно. Оно не понимает, в чем дело.
И никто не понимает.
Потому что Леша заранее высверлил в поршне полость и прикрыл его шторкой на крохотной, расслабленной пружинке. Раствор, будучи введен под сильным давлением, переходит в поршень и не переходит в больного.
Бес облегченно вздыхает и шепчет Леше ласковые слова.
ДемиургиПоздний вечер, метро.
Полный вагон рыбаков.
Финский бульон-залив еще не до конца переварил ледяную корку зимнего жира. Рыбаки сидят до последнего.
Мне их сильно не хватает, этих рыбаков. Несколько лет назад, когда я каждое утро садился в поезд, эти странные люди с громоздкой экипировкой были для меня бесплатным триллером. Удовольствие от созерцания этих фигур, как и от всякого триллера, строилось на контрасте и радости за личный комфорт. Я даже забавлялся, вспоминая не помню, чью, обидную песню про жен, встречающих рыбаков, которых доставили прямо со льдины на чрезвычайном вертолете. «Кормилец спустился с небес», – вот как пелось в той песне, не без высоколобого сарказма. А жены стоят внизу с разинутыми ртами.
Меня не покидало подозрение, что это какие-то особенные люди. Придешь на залив и видишь вдали множество черных мушек. Сидят неподвижно, не пьют и не курят, хотя, конечно, как-то же они пьют и курят, потому что иначе теряется весь смысл. Каждый сам по себе, никакого общения, никакого обмена продуманными мнениями и видами. И едут-то в поезде молча, лишь рыкнут изредка что-то универсальное, размытое семантически. Как будто из камня высечены, да и близко уже к тому по текстуре кожи с проникновением в податливый, восприимчивый к оледенению мозг.
Вчера я решил, что они, может быть, демиурги.
Они никого не ловят. Они зависают над водами и творят Рыб.
Они сосредотачиваются, и Рыбы образуются из ничего.
Но дело, вполне возможно, обстоит совершенно иначе, наоборот. Не исключено, что это сами Рыбы охотятся на рыбаков. Потому что эпоха Рыб к маю месяцу заканчивается, и наступает эпоха Водолея. Льдину отрывает, и вот уже Рыбы густеют косяками, ждут, когда им удастся выделить из ловцов чистый Духовный Экстракт.
Не знаю, короче. В быту такие люди ничем не выделяются.
Был у нас физиотерапевт – милейший, невысокий человечек, немного хроменький, и даже машину себе купил такую же трогательную, «Оку»; выходит однажды за ворота, а ее хулиганы перевернули, и вот он стоит весь беспомощный, кричит одиноким голосом человека. И, представьте, туда же – рыбак оказался! Сам мне рассказывал, как отправился с железным ящиком за далекие горизонты, по талой льдине. В конце апреля было дело. Солнышко к полудню припекло, захотелось демиургу назад, а берег-то вот он: близко, да не укусишь! Лед уже почти весь растаял! И пришлось ему петлять два часа, выбирать местечко потверже. Уже спешит, и ножку-то хромую приволакивает; уже в каждой полынье ему по серой раковой шейке мерещится, но не сдается, ибо в сердце у него – пламенный рыбный мотор. Так и ходил он по водам, аки посуху, но вышел, иначе как бы я узнал.
По многочисленным заявкамКогда я жил с родителями в коммуналке, была у нас в соседях достаточно доброкачественная старушка, Марья Васильевна. Безобидная. Позволяла себе только самое основное, а сверху – ни-ни. Ну, в сортир, бывало, идет и задирает халат до подмышек уже в коридоре. А то еще поставим мы варить варенье; заглянем в кухню, потихонечку, а Марья Васильевна там стоит и быстро-быстро пенку жрет, ложка так и летает. Но чавкает негромко, с деликатностью.
Марья Васильевна любила посмотреть кино.
Идешь мимо комнаты и слышишь оттуда жалобный мат-перемат. «С кем это она?» – удивляешься. А она одна. Сидит, а валидол перед ней лежит. Смотрит, как Антона Савельева ведут расстреливать: четвертую серию Вечного Зова. Причитает, оглянувшись на нас: «Это что ж делается? И никого же нет!»
В другой раз явилась в кухню в полном недоумении. «Как же это, – спрашивает у моей матушки. – Артиста показывают, который вчера был умёрши, а он живой сидит!» И действительно: в телевизоре сидел Евстигнеев. Накануне, после неудачной инкарнации, он выпал из окна в виде профессора Плейшнера.
Когда в фильме «Противостояние» главный герой окликнул второстепенного, позвав его по имени «Игорь Львович», Марья Васильевна замерла, подождала чуть-чуть и вышла к нам вконец разочарованная. «Сказали Игорь Львович – и не показали», – пожаловалась она. Для ясности скажу, что Игорем Львовичем зовут моего отчима, которого Марья Васильевна всегда уважала и боялась.
Получается, что наше кино исправно бьет в самую точку и не промахивается. Я всегда думал: кто такой Гостелерадио, что все время заказывает фильмы? А потом понял, что это и есть, наверное, Марья Васильевна, потому что кому же заказывать, как не адресной группе?
Однажды, правда, телевидение хватило через край.
Показало документальный фильм про Высшее Китайское руководство. Там сильно художественно, метанимически и метафорически, рассказывалось, как Мао покоцал все свое окружение. Про то, как на челне было всякой твари, а остался один Кормчий.
Марья Васильевна вышла бледная, покрытая сырыми пятнами.
Она была так разгневана, что даже не стала ни с кем говорить.
Держась за сердце, она бормотала: «Раком бы всех подвесить».
Неуверенное послесловиеПеречитывая написанное, я поймал себя на невольном хмыканье: точно! Было такое! Надо же! Совсем из головы вылетело!
Письмо не помогло.
Я напрасно старался.
Старая черепаха памяти втягивает лапы и погружается в непроницаемый сон.
Броуновское движение
Броуновским движением заняты мои мысли-воспоминания. Заканчивая цикл «Мемуриалки», я решил, что вполне очистился. Не тут-то было. Этих воспоминаний и мыслей, веселых и не очень, не сосчитать. Поэтому я снова собрал все пусть не самое интересное для читателя, но ценное для меня, и предусмотрительно обозвал первой частью.
Часть первая
МикромирУ нас водились коммунальные соседи по фамилии Кудряшовы. Маменька Марья Васильевна и ее дочка Наташа, на большого любителя.
Марья Васильевна была деревенских корней, не умела читать и работала сторожем в «яслив», будучи естественным клоном бабуси из фильма про операцию Ы. Вспоминала свою молодость, как ехала на телеге:
– А парень-то мне говорит: ты штаны надела? А я ему: нет. Вдруг он мне: а не боишься, что надует? А что я понимаю, еду дальше. Чего он такое говорит, думаю.
Это она потом пересказывала докторские речи, про которые у меня уже где-то было: «У тебе, кудряшова, вся перепенка хрящой затянувши».
А у Наташи, когда подросла, образовались кавалеры. Один любил ее деструктивной любовью, опасной для жизни имущества. Она уже давно посоветовала ему вернуться на переделку в материнское лоно, а на двери так и хранился отпечаток его пролетарской пяты. Он бил пятой, но дверь отворялась наружу. Прошло много лет, а отпечаток все был.
Марья Васильевне наливала Наташе перед обедом рюмочку для аппетиту. Это не прошло бесследно, и Наташа стала из Кудряшовой – Редькиной, привела домой мужа-сережу. Я был свидетелем их помолвки.
Наташа, обогащенная семимесячным животом, сидела на лестничном подоконнике. Глаза ее сузились в блаженные щелочки. Жених стоял на коленях, упершись лбом в лоно, так как подозревал, что ему туда тоже нужно, на переделку, но лоно уже было занято постояльцем – столь же несовершенным, как выяснилось потом. Все надо переделывать вовремя. По лестнице плыл предсвадебный сиреневый туман, в котором угадывалась летучая версия Агдама.
О содержании объяснения я догадался позднее. Он, сволочь, сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Годом позже она заволокла его в ванну, пустила холодную струю, сунула под струю его голову. Из наташиного рта вырывался свист пополам с цитоплазмой:
– А говорил, что вместе пиво пить будем! вместе!..
– Не надо шею, – горестно мычал Сережа Редькин.
Народившемуся младенцу бабушка Марья Васильевна самолично распрямляла гнутые ручки и ножки под песню «Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй». Она знала, о чем поет, ибо в народных песнях – великая мудрость. Коля потом, благодарный бабушке за инвалидность, сидел бы дома послушным мальчиком и действительно не гулял. Но моя маменька, проходя мимо, успела вмешаться и остановить бабушку, о чем потом сильно жалела.
Потому что Коля вырос в молодого человека по кличке Фарш. И несколько раз ограбил мою маменьку. На пару с братом, который тоже не очень удался, потому что созрел в сортире, когда его мама спала там, набираясь сил для отхождения плодово-ягодных вод.
Потом братья привели в квартиру всю окрестную наркомафию, и пришлось уезжать. Раскаиваясь и терзаясь сохранностью ножек. Были, конечно, и другие причины с ними расстаться. Я ведь тоже был не подарок. И простейшие, когда им приходилось оправдываться и огрызаться, указывали моей маменьке на сложнейшее, то есть на меня и на мои художества. Это была недопустимая ситуация. Мне, может быть, тоже следовало выпрямить ручки и ножки. Но у меня бабушка работала педиатром, исключено.
Грибной умыселИстория бесхитростная.
Рассказана пожилым мужичком, который затеял судебно-квартирную тяжбу.
У этого мужичка была родная сестра. И он ее не видел лет двадцать. Не ощущал необходимости. И потребности.
Однажды случилось ему ехать в поезде, и вдруг подходит к нему некая женщина бабьего вида, а с нею – бритый двухметровый амбал.
– Привет! – говорит.
Оказалось, что это и есть сестра, а с ней – племянник. Этого племянника сестра расхвалила на все лады: он ей и инженер, и менеджер, и спонсор, и брокер, и машина есть. Дядя расчувствовался. Жил он один, в квартирке.
Взял, да и написал завещание на племянника. Квартиру отписал. С условием почтового перевода на двести рублей ежемесячно, для закупки хлебушка.
Двести рублей он, конечно, ни разу не получил. Вообще ничего не получил, кроме большой неприятности. Племянник пробрался в квартиру и похитил завещание.
– Отдай! – заругался дядя.
– На хер оно тебе? Ты же помрешь скоро!
– Нет, я еще поживу! Ничего я не помру!
– Ну, я тебе помогу. Жди гостей.
В ожидании гостей дядя метнулся в суд добиваться правды. Занедужил, слег, попал в больницу. Там его навестила сестра, снова с тем же племянником. Принесли гостинец: пакет сырой картошки и пакет грибов прямо с землей.
И угрожали потом.
– Я, – признавался после больницы мужичок, – не хочу ему квартиру отдавать. Я ее думаю на соседку переписать. Пусть она за мной поухаживает.
– Давай, давай, – сказали ему. – Она тебя покормит, грибками-то.
ВеерУ дочки есть два веера: настоящий китайский, резной, и какая-то петушиная фигня. Пристала ко мне:
– Ты когда пойдешь по делам, какой с собой возьмешь?
Я уж и так, и этак – не отстает. Пришлось выбрать тот, что поскромнее. С ним, говорю, поеду. По делам. Возьму маршрутку ноль-третьего номера и поеду. А потом я задумался: почему же мужчины не пользуются веером? И не пользовались, насколько я знаю? То есть, может быть, и было где-то и когда-то, но не вошло в систему. Женщины – с ними понятно. Им веер нужен. Икоту прикрыть, например. Да и обмахнуться приходится, потому что мужчины вокруг ходят. Носки, подмышки, одеколон. Выхлоп после вчерашней дуэли, завершившейся примирением.
А мужчине – ему веер будто и ни к чему. Хотя в Китае-Японии… Ладно, бог с ними. Не буду я ничего говорить. Я, вообще-то, придумал вдруг, что пожелать женщинам ввиду надвигающегося праздника 8 марта. Я желаю женщинам веер. Заранее пожелал, потому что через неделю тут не продохнуть будет.
ОревуарЕще неизвестно, что лучше: не знать языка или знать его самую капельку.
Был у меня закадычный приятель. И вот мы с моей половиной его прихватили и отвезли в Париж. Половина моя очень хорошо знает французский язык. А приятель – так себе. Совершенно не знает. Но считает иначе. И вот они поцапались.
Моей жене надоело слушать, как он бубнит: «Же по Невскому марше, Же пердю перчатка. Же шурше, шурше, шурше, а потом опять марше». Но терпение лопнуло, когда он, отвергнув ее услуги, стал дозваниваться из уличного автомата одной известной в русскоязычных кругах деятельнице, Татьяне Горичевой. Дело в том, что он рассчитывал на халяву. Не важно, на какую. Потом разберемся. Мы все на нее рассчитывали, но он особенно. Мы только что вырвались из-за ржавого занавеса и ждали, что нас встретят с распростертыми объятиями. Кроме того, приятель привез контрабандой какие-то юбилейные рубли и хотел их продать с максимальной выгодой.
Короче говоря, он стал звонить самостоятельно. На другом конце провода исправно брали трубку и что-то квакали на местном диалекте. А он, вытаращив от натуги глаза, столь же исправно выговаривал: «Алё! Же шурше а Татьяна Горичева». Ему, не меняя наречия, говорили подождать. Он кивал, подобострастно соглашался: «Уи». И вешал трубку.
Так повторилось раза четыре. Они с моей Ириной поругались, и он сказал, что сам разберется. Она же мстительно следила, как мы выбираем пиво. Я-то французского языка вообще не знаю и не стремлюсь. А ему приглянулись бутылочки с надписью «алкоголь», привлекательность которой увеличивало непонятное слово «sans». Мы натрескались безалкогольного пива, к великой радости моей половины, и он сдался.
Но не успокоился.
И продолжал свои коммуникативные выпады.
Однажды мы поднимались в лифте: ехали в гости к знакомым. Вдруг двери разошлись, и вошла коренная жительница: длинная мулатка с огромной сукой под названием дог. Заняла пол-лифта. Мой друг стал маленьким и расплылся в заискивающей улыбке. Он всегда улыбался местным жителям в надежде, что что-то вдруг обломится. Хотя ему никто не давал повода. Но он все равно продолжал.
Он стоял в лифте, весь микроскопический, на полусогнутых ножках, и снизу вверх улыбался мулатке. Та ответила ему холодным и недоумевающим взглядом.
Доехали до ее этажа. Хозяйка стала выводить собаку. Приятель не выдержал. Он оскалился и развязно сказал собаке прямо в жопу:
– Оревуар.
И хихикнул.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































