Текст книги "Броуновское движение"
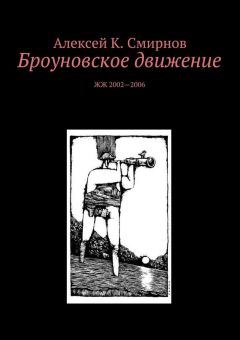
Автор книги: Алексей Смирнов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 44 страниц)
У меня непростые отношения с одеколоном.
Я смутно подозреваю, что в нем есть нечто разумное, облагораживающее.
С другой стороны, в моем окружении не было человека, способного воспитать во мне правильный выбор. Мой отчим, например, систематически пользовался одеколоном «Русский Лес».
А тесть, проснувшись после моего бракосочетания и ощутивший себя в похмельной ловушке, выпил одеколон «Леопард».
К тому же мне не хотелось уподобляться майорам и капитанам, которых я ежедневно нюхал в метро.
Не сложилось и употребление внутрь. Супруга моя, в медовом году, рассказывала, что вкус одеколона можно отбить, если разболтать его в стакане раскаленной вилкой. Однажды к нам в гости пришла моя бывшая одноклассница, и мы решили выполнить этот эксперимент. Наверное, мы плохо нагрели вилку: вкус остался. Я не сумел сделать больше одного глотка – в отличие от гостьи, которая, закаменев лицом, чинно и медленно, мелкими принципиальными глотками опустошила стакан.
Сейчас продают много дорогих одеколонов– очень, видимо, вкусных, но мне они не по средствам, да нет желания их покупать. Вдобавок сказывается мнение моей учительницы литературы, которая сказала на уроке, что от мужчины должно пахнуть вином и табаком.
В последний раз я соприкоснулся с одеколоном лет двадцать назад. Я выпил немного пива, и вдруг мне пришлось поехать на одну очень важную встречу, где запах этого пива не допускался.
Пришлось, подобно молодому побегу, опрыскаться ядохимикатами. Для верности я даже почистил одеколоном зубы.
Сел в такси, поехал.
Прибыв на место, я, неуверенный в себе и встревоженный, обратился к таксисту с просьбой:
– Послушай, друг, я дыхну, а ты скажи – чем пахнет?
Шофер нахмурился:
– А ну!
Он потянул носом и серьезно сказал:
– Говном каким-то – духами, что ли?
Так что одеколон для меня умер.
Фаст-фудЗа шесть рублей доставил удовольствие всей семье.
Купил дочке пирожок. Попробуй, не купи.
Я уже давно косился на эти пирожки с неодобрением, но все как-то обходилось. Ребенок ел и был счастлив.
Вчера меня кольнуло особенно острое предчувствие, но я не внял. А пирожки были похожи на красные лапы женщины, которая их продавала. Возможно, она сбрасывала их, свои лапы, на рептильный манер, чтобы быстренько изрубить в сосиски, тестом укутанные, а после у нее отрастали новые лапы, и получалась замечательная торговля.
Пирожок был с повидлом, так как последнее показалось мне безобидным наполнителем. Рептильных аналогов я не нашел.
Теперь пожинаем плоды. Весь вечер пожинали и всю ночь. И утро. Трудовые планы перечеркнуты.
Сунуть в тележку взрывпакет, посадить женщину с лапами верхом, отойти за угол, вызвать дезактиваторов в противочумных костюмах, сплясать на отпевании телесных фрагментов.
ОзорнойНа улице – осеннее столпотворение тракторов, и у каждого – своя нехитрая миссия.
Дети любят, когда трактор.
Моя так очень любит. И я любил.
У меня был пластмассовый, ярко расцвеченный, трактор; я почему-то звал его Озорным. Озорной продавался только в Москве, в Питере не было, и дед привез мне его из командировки. Этот Озорной воплощал в себе идеал трактора, но – игрушечного, а не настоящего. Я не хотел полного правдоподобия. Идеал был впитан в ходе знакомства с книжками да журналами, где из картинок явствовало, что именно так должен выглядеть настоящий игрушечный трактор. Совпадение реальности с идеалом вселяло в меня душевный покой. Идеальный предмет обладания сообщал идеальность самому обладателю.
Однажды мы пошли гулять, я тащил Озорного за веревочку. Оглянулся и увидел, что у него нет заднего колеса, большого.
Мы помчались назад, но было поздно. Какие-то школьники уже нашли колесо и с интересом плавили его над костром.
Я отреагировал неописуемо. Даже сейчас мне, наверное, не удастся передать всю гамму тогдашних чувств. Если бы мне позволили посадить изуверов на кол или сварить в кипятке, я сварил бы и посадил, и не только их, а вообще все человечество.
Дед, конечно, привез мне нового Озорного. Но я остался к нему равнодушен. Изгнание из рая состоялось, я знал теперь, что Озорной не вечен.
Завершение яблочных днейМоя дорогая жена возбудила разнорабочего из продуктового магазина.
Всякий раз, когда она приходит за яблоками, а яблок нет, он приближается, значительно кивает и говорит: «Жди. Щас будут».
Еще говорит: «Пошли в подсобку, пошли. Яблок насыплю. Пошли».
И, наконец, приносит ей самых-пресамых яблочков, больших-наливных-молодильных.
«А яблочки есть?» – вякает, видя это, какая-то неаппетитная бабонька с клюшкой. Разнорабочий надменен. Он презрительно косится на нее, что-то цедит сквозь зубы. В подсобку не зовет.
И вот, пропустив несколько дней и вынуждая разнорабочего сходить с ума, моя жена пришла-таки в магазин.
На лице разнорабочего расцвело торжество. Он сразу направился к ней.
«Почему ко мне не приходишь? – зашептал он. – Яблоки брать будешь?»
«Да», – прошептала жена, обмякая и блаженствуя.
«Виноград брать будешь?»
«Да», – (меня там не было! подозреваю, что такое «да» я слышал только однажды, через пару дней после скороспелого предложения).
Казанова принес ящик и приготовился пересыпать в авоську.
Тут загремело:
«Ах ты кобель, паскуда! Ах ты, зараза, ах ты сволочь, сука!»
Гремела жена разнорабочего, женщина в теле и вообще в плечах, повыше ростом, чем супруг. Он сразу стал маленький.
«Ну, клади сама, сама», – сказал он сердито моей супруге. Своей он сказал: – «Кисюля, иди, иди домой! Иди домой! Я в десять буду, я же сказал».
«Я здесь постою!»
Своей:
«Кисюля, иди домой! Что ты, что ты? Иди домой!»
Моей:
«Ну насыпайте, насыпайте, девушка, чего вы стоите?»
Своей:
«Кисюля, у меня работы много!»
Отцы и детиДочка развивается правильно, соблюдает законы эволюции.
Задыхаясь от восторга, прочитала стихотворение о школе:
По камушку, по камушку, мы школу разберем,
Завуча повесим, учителя убьем.
И дальше там еще о преподавателе английского языка – про то, как его утопили в сортире, про мир его раскаявшимися глазами, и так далее.
Все вполне безобидно, да к тому же обозначена гражданская позиция.
У меня было чуть хуже. Старшие ребята научили меня стишку и велели рассказать папе. Мне было лет шесть, но я уже сумел сообразить, что папе, пожалуй, не стоит, лучше бабушке и дедушке.
Те, разумеется, размякли, просияли. Внучек хочет рассказать стих! Умилились. Поставили табуреточку, помогли взобраться.
Внучек сказал:
Ах ты, сука, ах ты, блядь,
Ты кому дала …?
Мама моя потом изложила этот случай в переписке с дядей. А дядя прислал ей в ответ письмо, где не было ни строчки комментариев – только поэма, фрагмент из которой я прочитал, вся целиком, на трех листах.
Рожденная сексуальной РеволюциейПохоже, у нас на лестнице завелся влюбленный милиционер. Он уже несколько часов околачивается на площадке между вторым и третьим этажами. Я как раз выходил из квартиры, когда он явился: один, без оружия, без рации, и выражение лица у него было совсем не милицейское: в нем прочитывалась неловкость. Милиционер был смущен. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке, он не привык к такому. Сейчас расхаживает с серьезным и мечтательным видом. Я даже догадываюсь, кого он ждет. Этажом выше живет одна, постесняюсь назвать. По ней не только милиция плачет, но и вендиспансер.
Почему-то милиционер пришел без цветов, зато в бронежилете. Ну, с цветами ладно, а бронежилет непонятен.
Вообще, у нас в округе очень любвеобильная милиция.
Помню, иду я как-то с пивом и вижу: скамейка, а на скамейке обнимаются и целуются две девицы лет восемнадцати-двадцати. И одна из них, особенно активная, – в форме сержанта милиции.
Я даже сел рядом, сижу и думаю, что сказать, а сказать и нечего.
Сержант отклеивается от искательных уст и с торжеством, задорно, говорит мне:
– Вот так!
Тихий …донОт нечего делать занялся подсчетами.
Мы платим 20 рублей в месяц за охрану школы. В классе – человек 20. Классов – тоже 20, А и Б. В общем, охранник получает около 8000. Как я, стало быть, за многочасовой перевод разной хрени.
Здорово! Ведь он стоит себе и стоит. Не делает ничего. Допустим, меня он запомнил, но вот я иду мимо так, что он не успевает заметить лица, видит спину – идет какой-то, в куртке кожаной, пригнувшись слегка, с кульком под мышкой. Кто? Что? Ноль внимания.
Хоть бы приоделся посолиднее, а то перетаптывается в штопаном пиджачке.
Даже у нас в больнице охранником была не какая-нибудь шушера, а казак.
Так и разгуливал по приемнику: в фуражке, в галифе с сапогами. Усы носил. То есть ему казалось, что он казак. Он почему-то решил считать себя казаком, слиться с казачьей идентичностью. И детям своим объяснял, наверное: «Знаешь, сынку – есть такая профессия: больницу охранять».
Ну, под градусом легким – так ведь он же казак. Это доктору с гнилыми и запутанными корнями нельзя выпить, а казаку – отчего бы не выпить? Все основания налицо..
Не помню, была ли у него нагайка. По-моему, что-то торчало, из сапога.
Баба ВаляЭта пожилая женщина будила такие страсти, что я не вправе обойти ее молчанием. Она преподавала в нашей школе химию. Она стояла особняком, непредставимая в человеческой ипостаси; она внушала священный трепет. Ни один другой педагог не подвергался столь неуемному, испуганному осмеянию; известно, что болезненный юмор такого сорта говорит о величии мишени.
Мясная гора, стопудовые слоновьи ноги, лицо викинга, темные почечные кольца вокруг глаз, химическая завивка. Невозмутимость скалы, беспощадность акулы, скуповатый юмор удава, натягивающегося на кролика. Ее звали Бабой Валей, ее боялись все, от первоклассника до директора.
Она восседала за кафедрой колоссальных – под стать ей – размеров. Однажды под ней хрустнул стул. Глаза в естественной темнокожей оправе округлились, но больше не дрогнул ни единый мускул. С достоинством императрицы, перешагнувшей на балу через сползшее исподнее, она вышла и вернулась с креслом.
Страх, который она вызывала, был иррационален.
Раздавала тетради, осталась одна, не подписанная, желтая.
– Чья это тетрадка?
Молчание.
– Чья это тетрадка?
Хозяйка, уткнувшись в парту и не видя тетради, но зная, что это ее тетрадь, издает писк:
– Какого она цвета?
Негодование, юмор:
– Фиолетовая!
Хозяйка, не поднимая лица:
– Ой, нет, это не моя, моя была желтая.
…О предстоящем опросе говорилось так:
– Завтра я вас трону.
Предположительная, но уже неизбежная, оценка:
– Я тебе поставлю лебедя!
Рассказывала нам о ёнах.
Меткость и доходчивость оборотов при редкой немногословности. Ходили слухи о ее антисемитизме, но чего не знаю, того не знаю. Помню только, что некий Дайн, учившийся классом старше, пострадал. У него, восьмиклассника, была привычка при разговоре брать собеседника за талию. И вот он, забывшись, взял.
На педсовете Баба Валя искренне возмущалась:
– Такой молодой, а уже руки кладет!
Я посвятил ей бессчетное множество рисунков и стихов. Рисунки начинались просто: я рисовал черные концентрические круги, и все уже в предвкушении гоготали, зная, что это – Глаза. Иногда ими одними дело и ограничивалось. Стихи ходили по рукам; к окончанию школы я даже разродился Венком Сонетов, и все-то мне было мало; я даже в институте, по старой памяти, не мог остановиться и все сочинял.
В мужьях у нее был физрук, коренастый живчик, наглый, охочий до старшеклассниц. На перемене он заходил к супруге в лабораторию и выходил порозовевший, довольный. Ему наливали химический реактив.
А на экзамене Баба Валя просто прошла по рядам и всем сказала, где и что написать. Четверок не было.
Она уж умерла.
Несколько лет назад она вдруг приснилась мне: почему-то печальная, без ног, на дощечке с колесиками, в руках – утюжки. Порывалась на что-то пожаловаться, но я растворился.
Normal. dotВ нашем лесу, что за речкой Грузинкой, в часе неспешной ходьбы от станции, есть собственный Дот. Обычное и совершенно нормальное загородное строение; такому Доту полагается быть в любом порядочном лесу, а наш лес небольшой, полуигрушечный, но и он не отстает, старается. Неизвестно только, чей это Дот – наш или вражий.
Дот давным-давно порос мхом и диким волосом; он служит нам ориентиром: едва до него дойдешь, как надо сворачивать в горку и настраиваться на грибную волну. Из Дота давным-давно повынесли пулеметы и прочую утварь, но это не означает, что он превратился в безопасное место. Попадись он на глаза Кингу, тот непременно наворотил бы на эту тему пропасть жутких отроческих псевдореминисценций.
Мальчишками мы, конечно, пробирались внутрь и все изучали. Сговаривались заманить туда девиц, чтобы зажимать, и даже немного заманивали, но зажимать не знали, как, и все расходились по домам. Незавершенность гештальта не смущала – скорее, мы испытывали смутное недоумение.
Опасность же Дота заключалась в огромном черном проеме, зиявшем в полу первого отсека. Проем захватывал почти всю квадратуру пола; можно сказать, что пола почти и не было. Глубина ямы составляла несколько метров; угроза сломать себе все, что можно, была абсолютно реальной, ибо внутри царила кромешная тьма. Туда не проникало ни лучика света, и наше счастье, что в самый первый раз мы пошли туда с фонарями.
Не знаю уж, кого там собрался зажать мой дядя, приехавший как-то в отпуск на очередной алкогольный марафон длиною в месяц. Кого-то, наверно, рассчитывал. Но вместо этого сверзился в предательскую дыру.
И не было ему больше ничего: ни гипотетических овечек, заблудившихся среди берез, ни портвешка, ни «строгого напитка». Взамен всего этого дядя лежал на диване с раздутым коленом и криво улыбался. А я колол ему в ногу димедрол с анальгином.
«Прощай, волшебный город, – стонал дядя надрывным эхом войны. – Волшебный, волшебный город, с его волшебными магазинами».
Дело было в 1988 году. Или в 1987. До нас еще не вполне добралась столичная перестройка, звероподобная в ее трезвом оскале.
Упущенные возможностиЧитаю очень хорошую книжку, «Избранник», вышедшую из под пера Павла Мейлахса. И там у него про военкомат написано. Я и вспомнил давно забытое дело: как меня приписывали. Слово такое поганое, что так и тянет каламбурить, особенно в заголовке, но не стану.
В 10-м классе отправили меня, как сейчас помню, на Невский проспект – да только не лорнет наводить на барышень в муфточках, и даже не цилиндр трогать по случаю действительного статского, а посетить медкомиссию, разоблачиться там до трусов и обозначиться, наконец, в качестве убойного материала. Приступить к выполнению самой важной для государства миссии.
Рожа у меня на тот момент была самая пэтэушная, сущий гопник, с усами, с хайрами. Как раз на развод.
И много там было таких, но уже настоящих уличных, которых с трудом отловили и загнали, куда положено. Оказалось, что я попал туда в самый последний день приписки, поэтому общество выдалось донельзя развязное – отбросы, дезертиры, родиноненавистники. Сплошные ракальи с канальями.
Всех, как были, в трусах загнали в обшарпанную комнатку, где висела мутно-зеленая карта с красными и черными стрелами. Перед картой прогуливался ветеран и еле слышно рассказывал о боях. Тихо, но в то же время как-то агрессивно, с надрывом. В несчастного деда летели бутылки и яблочные огрызки. Отбросы развлекались, ожидая вызова к майору. Дед делал замечания. Наконец, сорвался, затопал ногами, завизжал, брызжа слюной под одобрительное улюлюканье.
Тут меня позвали к майору.
Майор записывал анкетные данные. Никогда не знаешь, где ждать подвоха. Почему-то майор хотел знать, где родился мой отчим. Я сказал ему правду: в Северном Китае. Это действительно было так.
– Го, го, – сказал довольный майор. – Наверное, предок Маодзедуна?
И записал меня в артиллерию.
Суетный мытарьАвтобус номер 66 водит жадный и суетливый мудак.
В этом автобусе нет кондуктора, и деньги собирает водитель. Не знаю, почему – наверное, сам водитель и придумал сэкономить на кондукторе. Потому что во всех других автобусах тот есть. Не может быть, чтобы не было соискателей, уж одного-то нетрудно найти.
Останавливает, значит, автобус и открывает переднюю дверь. Народ ругается, толпится, ползет мимо него, а он наблюдает, как зверь из клетки. И мелочь сгребает. А снаружи непривычная к такому обращению публика скачет, напрыгивает на двери.
Потом все двери распахиваются, выскакивают матерые зайцы, терпевшие до последнего. Народ загружается.
Эконономность, похоже, сидит у водителя в генетическом наборе.
Он все-таки переживает за стоящих на улице. Ему хочется интенсифицировать и оптимизировать процесс. Если выпадает замереть у светофора, в десяти шагах от остановки, то он нарушает правила и открывает любимую переднюю дверь. Чтобы быстренько отстреляться, собрать мзду и подкатить к будущим пассажирам уже облегченным. То есть обремененным денежно. А не мариновать их на улице. Совесть, короче говоря, перед светофором просыпается, приоткрывает один глаз.
Сидит, слюнит сдачу с полтинника, алчно придерживает его свободной лапой. Билетов не выдает. Уже не видит других, что проходят мимо, тесня застрявшего клиента. Можно ссыпать ему горсточку мелочи достонством в рупь. Я, бывает, показываю календарик. Его устраивает.
Уч-КудукУ нас в дому – все мелкие какие-то события, никчемные! – короче говоря, радость: дали отопление. А я уже писал об уродцах, установленных на лестницы под влиянием испуга. Лицо, близкое к губернатору, пугало всех, грозилось взорвать дом вместе с собой, и уродцев припаяли.
Представьте себе площадку, а друг против друга застыли, припавши к полу, два злобных змеевика в два же изгиба. Вызывают суеверный страх.
Но вот испытание вод и паров состоялось, и шагнул прямо в Темзу. Темза, сэр – так мне объявили. Возможно, это была Нева, но мне-то что, я ведь не бедный Евгений какой, чтобы на высотки вкарабкиваться, у меня их и нет, отступил.
Змеевеки, как угадывалось, лопнули от злости.
Ну, подсохло все, улеглось.
И вот со вчерашнего вечера в моем дому стоит непрерывный, монотонный гул. Весь вечер стоял, всю ночь и сейчас стоит. Доносится как будто из труб, но где-то в стенке спрятанных, Не газовых ли, гадаю?
Вышел на лестницу. Уродцы сидят друг против друга, пружатся, тужатся, изнемогают от ненависти. Готовы на все. Как-то мне не по себе.
Так и гуляю по комнатам, слушаю стены – может быть, воду найду, какой-нибудь уч-кудук. Мне бы лозу, с лозой походить, но нет лозы. А то если не воду, так хоть носок нашел бы какой или рубль.
Опыт утреннего коммуникативного актаТрамвай. Поднабит.
Мне выходить. Я ближусь к двери.
Вокруг – вздохи:
– Аххх! Эхх. – Выкрики.
Рядом:
Хрррррррррррр, кха-кха. Кххххха!!!!.. (увлажненно).
– А ты что?
– А я к Васе.
– А-а, ну как он? Я думал, ты к Владе.
– Да я от Влади.
– Ну и че, где он?
– Да у шайбы.
– Ну, да… хе-хе. Дает, да?
– Ну так.
Моя нога медленно, медленно, для меня незаметно, соскальзывает, срывается на ступеньку.
– Уй! Урр… ты держись, да.
– Да ничего.
– Да ептыть.
ЧасыЯ очень не люблю терять часы. Я вообще почти ничего не теряю, но вот к часам отношусь особенно трепетно. Их у меня было не так и много, и они именно терялись. Не то, чтобы я их где-нибудь забывал – забыть можно предмет туалета, но только не часы. Самые первые были отцовские, подаренные еще в седьмом классе – ну, память, и все такое. Я ими сильно дорожил и представления не имею, где и почему обронил. Сокрушался ужасно.
Зато вторые часы я потерял нарочно, с чувством некоторого злорадства. Это был уникальный хронометр. Дело в том, что его циферблат был рассчитан не на двенадцать часов, а на все двадцать четыре, плюс там значились еще какие-то часовые пояса. И стоили в силу своей исключительности неописуемо дорого, рублей пять. А человеку, берущему часы за пять рублей, часовые пояса – как зайцу триппер. Был в них, однако, и плюс: я очень любил, становясь в вагоне метро, задирать руку и краешком глаза следить за желающими узнать на халяву, который час. Их головы, да и целые плечевые пояса изгибались совершенно немыслимо, но даже это не спасло моих часов. Я один понимал, сколько времени. Это как-то, знаете ли, надмевало. Я их выкинул, потому что у меня уже были новые. Тестевские, эпохи народных дружин, не в счет, я и не надел, по-моему.
А эти третьи часы, с хитрым электропупочком, мне подарила одна паскудная фирма – за преданную работу. Не буду рекламировать ее название. Пластмассовый ремешок у них вскоре сломался, и я таскал их в кармане, вместе с носовым платком носочной выделки, пока они не сгинули где-то. Жалко не было. Потом, уже работая в больнице и остро нуждаясь в неопоздании на поезд домой, я обзавелся новыми, четвертыми, которые сейчас и живут. Тоже, конечно, дешевыми, они спешат минут на десять, но я им прощаю.
А недавно пропали. Как я сокрушался! Где, где? – заламывал руки. И вдруг вижу: лежат, свернулись колечком и спят. Я не мог нарадоваться, спрятал, убрал подальше. Все равно они мне большей частью на фиг не нужны.
Одна закавыка: меня не покидает ощущение, что у меня были еще одни, неизвестные мне, ПЯТЫЕ часы!
Не могу их себе представить – ни времени, ни места, на котором носил. Но знаю почти наверняка, что они были.
Мне кажется, что стоит мне вспомнить, что это были за пятые часы – и мигом разрешатся многие, многие беды и вопросы, и сделается великолепие.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































