Текст книги "Броуновское движение"
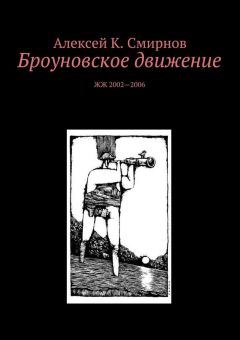
Автор книги: Алексей Смирнов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 44 страниц)
Странной цифрой 200300, которая начертана на щите, дело не ограничивается.
К сожалению, есть и картинка.
На этой картинке Петропавловская крепость и прилегающие строения представлены в виде электрокардиограммы. И, если кто не понимает, написано: Пульс города. Или «Пульс твоего города», не важно.
Я, как врач, предупреждаю, что от подобной кардиограммы даже такому водопроводчику, как губернатор Яковлев, должно стать не по себе. Это очень плохая кардиограмма.
Лучше бы им сделать энцефалограмму, а контурами взять Смольный, Мариинский дворец или Морскую Резиденцию. То, что получится патология, никто все равно не поймет. Во-первых, на энцефалограмме черт-те что бывает. Во-вторых, патологию еще отразить надо, своими мозгами. А как ее отразишь, когда все болеют.
Нормально будет, дело говорю.
Убийца КироваВ 90-м году мне впервые случилось пообщаться с зарубежными русскими. Не с какими-нибудь свеженькими, а с махровыми, так сказать, нашего славного Отечества ни разу не нюхавшими.
С первым я начал общаться прямо в поезде, на пути в Берлин. Этот уже понюхал и спешил обратно. Мы с приятелем, задыхаясь от невысказанного диссидентства, смотрели тому господину в рот и ловили каждое слово. Господин, самого заурядного вида, беседовал с нами снисходительно и добродушно. Он называл себя потомком какого-то есаула. И ехал, как и мы, в Париж.
Мы, правда, с приятелем сильно выпили, пока общались.
Я не помню, но приятель утром рассказывал, что в тамбуре всякое подобострастие с меня постепенно сползло, как шкурка со звериного детородного органа, и миру явилась оголенная Истина. Я, мол, когда потомок есаула мне надоел, отбросил его руку и буркнул: «Ну ладно, мужик, хорош».
Короче говоря, грядущий хам проявился.
А в самом Париже нашу компанию затормозила какая-то пыльная старушка с навсегда озабоченным и скорбным лицом.
– Русские, – пропела она без интонации, – откуда вы…
То есть даже вопроса не было слышно.
Мы сказали, и услышали, что Горбачев – еврей. Вообще, мы чувствовали себя, как чувствуют, наверное, новички в камере, куда попали, не зная понятий, но Люди-то вокруг понятия знают и видят насквозь, чего человек стоит.
То, что мы из Союза, мгновенно угадал Убийца Кирова.
Он так представился. Он объяснил, что все его так зовут из-за фамилии «Николаев».
– Чего такие смурные, пошли пиво пить, – бросил он нам весело, едва увидел на каком-то парижском углу. Мы не были знакомы, но сообразили, что так здесь, наверное, принято.
– Сразу видно, что советские, – улыбнулся Убийца Кирова при переходе улицы. – Стоите и ждете, пока машина проедет. Это у вас в Союзе машина важнее человека!
Мы пришли в кафе. Убийца Кирова развалился на стуле.
– Вот здесь умирал Алданов, – сказал он загадочно, показывая на чистенькую новенькую банкеточку в углу. Я вежливо кивнул. Банкеточка внушала подозрения, Алданов умер, если мне не изменяет память, в 1957 году.
Мы ощущали скованность и глупо улыбались. Убийца Кирова решился и вытащил из-за пазухи разноцветный и грязный денежный ком.
– Челаэк!! – вдруг запрокинулся и страшно заорал Николаев.
– Тут с ними только так, – пояснил он.
– Это дьявольский город, – признался он через минуту.
– Ну что, поехали или разбежались? – спросил он чуть позже.
Мне очень хотелось поехать. Я чувствовал, что вот-вот познакомлюсь с дьявольской стороной города. Но мы жили в очень приличной католической семье. И мы побоялись, что общение с дьяволом оставит на лицах безошибочный отпечаток.
Поэтому мы расстались, пусть Киров еще поживет.
Он и так стоит загаженный голубями невдалеке от моего дома. Беспомощно простирает руку, чего-то просит, а всем плевать.
Проходной дворЯ был знаком с гитаристом Юрой Наумовым, который соорудил группу «Проходной двор».
Да и я, если разобраться, явился в жизни Юры одним из многих проходных дворов, по которым он скитался в поисках лучшей доли.
В 1984 году Юру выудил откуда-то мой покойный приятель, который вечно откапывал на помойках всякую сволочь, но тут ему повезло найти настоящую жемчужину.
Юру только что выгнали из новосибирского университета за нахальную песню про свиней и непочтительное рисование негров. Он забросил за спину двенадцатиструнную гитару и явился в Питер. Играл он так, что мы забывали про все на свете.
Кроме гитары, Юру ничто не интересовался. Знакомясь с женщинами, он сразу назывался импотентом; не пил, не курил и не ширялся. Гитара была ему сразу и куревом, и харевом, и бухаловым.
Юра появлялся в компании барабанщика, которого не помню, как звали, и Кэт – знаменитой питерской бляди и наркоманки. Ей в свое время, я слышал, удалось заразить триппером не только Рим, но и Сайгон. Барабанщик был безнадежно влюблен в Кэт, которая вероломно играла с ним и называла «Маськой». За это Юра сказал ей, что если еще раз услышит, как она называет барабанщика Маськой, то он, Юра, лично свернет ей шею.
Юра пел песни, читал восхитительные колхозные и криминальные поэмы, которые вряд ли где есть – по-моему, он так и не положил их на музыку. Охотно и с готовностью рисовал злополучных негров, от которых и вправду несло зоологией за версту. Еще он рисовал онанистов, заставляя их заниматься простенькой мультипликацией.
А не менее злополучную песню про свиней спел, когда пришел ко мне в гости. Юра забросил на магнитофон катушку с фоновой записью барабана и баса, и начал петь.
Незабываемо.
Настроен был сугубо антисоветски.
В те годы я глючил: разгуливал в шляпе и длинном сером пальто.
– Не знаю, не знаю, Лёха, – приговаривал Юра. – Любовь к таким польтам – она… – и качал головой. – Счастливого Пленума!
Теперь и не узнает, наверное.
СерёняСерёня был у нас в студенческой группе.
Огромный, низколобый, угрюмый и мудрый земляным нутром. И еще звериным. Так что у него, получается, было два нутра.
Идеальной эпохой для Серёни была бы, я думаю, Гражданская война. Ничего лучше лагеря Махно человечество для Серёни не придумало. Пограбить, да запить самогонкой – вот и вся красота.
К четвертому курсу наши доценты не так, чтобы очень его воспринимали. В смысле, воспринимали не всерьез. Спрашивали мало. На ответах не настаивали.
Стряслась у нас однажды терапия. Мы уже доковыляли до четвертого курса и расхаживали в халатах по праву, а не так, для порядку.
Завели нас, помнится, в кабинет, рассадили и стали зачитывать толстую историю болезни. Монотонно. Жалобы при поступлении. Жалобы по жизни. Жизнь, как она есть. Свинка в положенном возрасте, навсегда. Осмотр при поступлении. Осмотр в отделении. Кардиограммы с первой по двадцать первую. Рентген. Анализы.
Молчание было кладбищенское. Даже мухи молчали.
Серёня сидел в оцепенении, уставясь на свои бесполезные руки. Ему было так себе, он еще не пил пива.
Мертвая тишина.
Наставник наш между тем дошел до места:
– В крови больного был обнаружен антистрептолизин…
И тишина нарушилась.
Серёня, которого никто бы не посмел заподозрить в малейшем интересе к предмету рассказа, вдруг хищно и азартно выдохнул себе в пах:
– О.
…Серёня славился простотой подхода к любому делу.
Дочка у него была, двух лет. Мы его спрашивали:
– Серёня, как же ты? Тебе, наверно, тяжело. Ведь с ней гулять надо!
Серёня мутно смотрел и пожимал плечами:
– А чё с ней гулять: в лужу посадил – и домой.
Вообще, он был покладистым и добрым, готовым поддержать здоровую мысль. Как-то раз я засиделся у него до позднего вечера. Наконец, засобирался домой; Серёне захотелось меня проводить. Мы не шибко соображали, вышли довольные. На улице я увидел приближающуюся женскую фигурку и сразу предложил Серёне познакомиться «с этой прошмонденью» (увы и ах, я так и сказал) и пригласить ее в гости.
Мое предложение встретило полное понимание Серёни. Он изготовился очаровывать.
Правда, с этой фигуркой домой пришлось идти ему одному. Через десять шагов оказалось, что это была его жена Верка, возвращавшаяся домой после вечерней смены. Она молча взяла Серёню и увела его от меня.
Славные годыНаше студенчество хорошо излагало:
«Муж здоров, умер».
«Половая щель – по средней линии. Правая губа небрежно заброшена на левую»
«Ампула прямой кишки зияет. Вдалеке виднеется стул».
Срочные кладыПроспект Стачек, место для меня родное и привычное, начал занимать мое воображение года с 93-го.
Тогда его начали ремонтировать: впервые на моей памяти.
Приехали фантастические заграничные машины, и работа закипела.
Об этом событии сообщили в CNN, тем же сообщением зарядили очередной «Вояджер», предполагая поразить инопланетное воображение.
С тех пор проспект ремонтируют постоянно.
Причем не так, чтобы капитально, а роют какие-то ямы.
Сначала мне казалось, что дорожные работники просто доросли до восприятия «Острова сокровищ» и теперь ищут Клад.
Но потом усомнился.
Чтобы найти Клад, вернее было бы разрыть сразу все и спокойно найти.
25 марта 2003 года меня осенило. Я стоял и щурился на новую яму. И вдруг догадался, что они не ищут Клад, а прячут его.
Прятать приходится часто, потому что Клад постоянно пополняется из федерального бюджета.
Благо проспект Стачек – правительственная магистраль. А скоро – юбилей города, и Верховный Главнокомандующий уже пригласил на него притихших и напуганных инопланетян, чтобы сдержанно принять у них подобострастный парад.
Красная Книга МертвыхЯ знал человека, который убил стаканом утку.
Человек с товарищем культурно сидели на берегу пруда. Утка выползла из воды и стала на них крякать.
Серой Шейке велели уйти по-хорошему, но она, видно, галлюцинировала и записалась в народную дружину, так что крякала дальше.
Тогда один из отдыхавших бросил в нее стакан и убил.
Я потом пробовал повторить этот опыт с крысой, но та только рада была.
Мы не один, а три стакана в нее бросили, и все без толку.
Международный МемуарЯ, собственно, вообще ничего такого сказать не хочу.
Просто вспоминаю, как всегда.
В 1981 году я жил напротив общежития прядильно-ниточного комбината. Нас даже водили на этот комбинат, чтобы мы там восторженно и профессионально сориентировались. В нас видели будущих мотальщиков. Но мы не слишком пропитались этим соблазном, и комбинату пришлось прибегнуть к дешевой зарубежной силе.
В одно прекрасное утро я выглянул из окна и увидел шеренгу понурых и тощих гномов, одетых в серое и грязное. Казалось, что это мыши, а то и вши. Ничего личного, как принято выражаться. Какое создалось впечатление, про такое и говорю.
Выяснилось, что это вьетнамки, которые приехали выполнить свой прядильно-ниточный интернациональный долг.
Они смотрелись совершенными зэками.
Ходили строем, глядели в землю.
Потом освоились и стали в неимоверных количествах закупать кастрюли, тазы и холодильники. Почта стонала под грузом чудовищных отправлений.
Принарядились в брючки-блузочки, обнаглели. Держались особняком и русских не подпускали, потому что русские, конечно, очень большие, и дружба народов получится сильно болезненной.
Однажды мы с приятелем попытались завязать лирическое знакомство. И выкрикнули, изображая многообещающее гусарство, единственное, что знали по-вьетнамски: название ихней газеты, «Куан Дой Нян Зан». Кукольного вида красавица оглянулась и на чистейшем русском языке ответила:
– Мы не понимаем по-русски!
С тех пор они, по-моему, изрядно размножились.
Я не против. Но только вот что: во дворе дома, где я живу теперь, восточного вида девочки презрительно удивляются тому, что моя дочка не разговаривает по-азербайджански.
Это уже новая тема, которая, конечно, никакого отношения не имеет к вьетнамцам. И к их приезду. И к размножению. Абсолютно никакого.
Удивляются, смеются, и мальчик Рустамчик ходит такой, маленький, но очень упитанный, как колобок. А точнее, как его дядя, с которым он гуляет, потому что мамы у Рустамчика нет, недавно задушили, после папы, которого я даже слышал, как убивали в 1999 году, я проснулся от выстрела: его застрелили из пистолета на углу проспекта Стачек. Говорят, что он держал все местные магазины и продавал в них наркотики после семи часов. На дерево, возле которого его бизнесу был положен конец, приколотили кладбищенскую дощечку, и она провисела целый год, в цветочном окружении.
А потом пропала.
Горе, короче говоря.
Символы БедностиУ нас во дворе гуляют Символы Бедности.
Во всем мире Символам Бедности положено рыться в помойном баке.
Они и роются. Товарный знак отрабатывают.
Я не хочу сказать, что все это ерунда. Какая-нибудь бабушка, очень возможно, и вправду ищет хлебушек.
Но только сдается мне, что подавляющее большинство роется в баке, потому что нравится.
Я часто вижу, какие сложные вещи они оттуда тащат. Какие-то радиодетали, схемы с болтающимися проводами, дощечки.
Такое с голодухи-то и не придумаешь взять.
Потом конструируют безумные машины для воздействия на соседей космическими лучами.
В доме напротив как раз живет один человек, который давно жалуется. Он ученый, ночами не спит, книжки читает. Во всем доме, бывает, огни погашены, а у него лампочка горит.
Я с ним однажды познакомился, и он сразу сказал, что КГБ обрабатывает его психическими лучами.
Но это, конечно, не КГБ. КГБ обрабатывает целую страну единым чохом, на черта ему этот ученый.
Это помоечный пенсионер-радиолюбитель что-то изобрел, а в патентном бюро его, как и полагается, послали на хер.
Так что все гораздо сложнее, чем кажется. Речь идет о философии, образе жизни, внутренней склонности. Парижские клошары, например – это ж отдельная категория существ, гордых и независимых. Один к моей жене, помнится, подошел на Северном вокзале. Очень галантный, настоящий француз. Ногти черненькие, в глазах чертики. Сеточку держит в руке, а в ней – бутылка красного вина и длинная булка торчит. «Мадам не откажется со мною позавтракать?»
Это не Символы Бедности.
Символ Бедности – это я. Полез сегодня в карман, пересчитал мелочь и ужаснулся.
ХуммаВозможно, что судьба улыбнется, и мне поручат переводить Всемирную Историю.
Это очень хорошо. Я очень люблю Всемирную Историю – в основном, по причине смутной неудовлетворенности, корни которой уходят в отрочество. Мои исторические познания, видимо, неполны. Я могу судить об этом по учебнику для 7 класса, который хорошо помню.
Он начинался с описания жизни первобытных людей. Поскольку история была не всего мира, а только шестой его сухопутной части, то эти славные племена водились, вероятно, где-то на Волге или в Подмосковье.
Основной фигурой в том поразительном повествовании был Хумма.
Дословно я, конечно, не вспомню, но там было написано примерно так: «Горит костер. Его окружили древние люди в звериных шкурах. Они греются и вспоминают удачную охоту. Но чу! Трещат сучья, скрипят деревья! „Хумма идет, Хумма! Идет огромный Хумма!“ – слышатся крики. Люди вскакивают…»
Вскоре выяснялось, что под Хуммой разумеется мамонт.
Меня еще тогда завораживала документальная лихость, с какой пересказывалась эта давняя история. Я никак не мог сообразить, какие мозговые цепи включились в сознании авторов, чтобы произвести умозрительное фонетико-лингвистическое подобие тогдашних речевых оборотов. Я восхищался их уверенностью в звучании и самом существовании Хуммы.
Дальше Хумме, как и следовало ожидать, приходил заслуженный конец, из чего делался дальнобойный исторический вывод: «Кто с мечом (с бивнями, с хоботом) к нам придет, от меча (бивней, хобота) и погибнет». И разворачивалась собственно история государства, которая после такого начала не могла не оказаться победоносной и поучительной.
А преподавала нам эту историю одна молодая учительница. Уже тогда нам было видно, что к умственной деятельности она совершенно не приучена. Сейчас, оглядываясь, я думаю, что это еще снисходительно сказано. У нее было лицо деревенской Барби, скрытое под толстенным слоем белил, румян, помады и туши.
Входя в класс, она застывала на пороге, молча созерцала происходящее и надрывно, с сентиментальным пафосом изрекала:
– Наглые…
Потом она переходила к уроку, который состоял в чтении глав про Хумму и его вочеловечившихся продолжателей, недружественных нашему народу.
Однажды она шла по проходу между партами, и мой сосед, вдруг возбудившись, взял и харкнул ей прямо на юбку. Попал в эрогенный пояснично-крестцовый отдел.
Который, чувствительный к прикосновениям, ощутил передаточную пульсацию плевка и мгновенно сомлел.
Томно и мечтательно улыбаясь, она завела наманикюренную руку за спину, стала медленно поворачиваться.
Я уткнулся в книгу и стал зачем-то подчеркивать Хумму в качестве сразу подлежащего, сказуемого и определения.
КанарисЕсли я правильно понял, в наших школах постепенно возвращаются к самому главному: военно-патриотическому воспитанию.
Это очень хорошо, потому что иначе образование будет неполным, и школьные годы не будут вспоминаться как нечто прекрасное и неповторимое. Я, например, каждый день вспоминаю своего военрука. Это был маленький морской колобок в чине полковника, которого за его подводный образ службы дали прозвище Канарис.
Я уже знаю, что стоит заговорить про военруков, как сразу со всех сторон полетит: «А у меня! … А у нас! … " Потому что тема неисчерпаемая. Но, смею заметить, такого Канариса, какой был у нас, не было ни у кого. Никто же не станет отрицать возможность уникальных явлений – рогатого поросенка, скажем, или беременности в доме престарелых. Вот и Канарис рулил, как принято выражаться.
Во-первых, он плохо разбирался в падежах, родах и прочих мудреных штуках. Например, он говорил: «метание ручного граната», «отравляющие газы особенно опасны в лесной момент оттаивания снега», «главная корабельная старшина» и «марш перед боевой знамя части» (это разновидность поощрения). У меня была целая тетрадочка, куда я все писал, но она потерялась.
Если ему говорили про «скрещивающийся огонь», то он, обладатель двух собак, поправлял нас: «Скрещиваются только животные». А если ему называли «подглядывание» в качестве одного из методов разведки, то он возражал: «Подглядывают только в туалете!»
И строгий был. «Баранов! Сейчас я тебя вызову, сниму штаны¦" А тот ему, неблагодарный, в ответ: «Вы мне не симпатичны!»
Во-вторых, он по собственному почину выпускал стенгазету «Патриот Родины», куда писал белые стихи:
«Получат отпор любые агрессоры,
Откуда бы они не исходили».
«Мы шли сквозь дым и пожарищ».
«Над мирным небом стран социализма
Царят мир и счастье на земле».
Кульминацией военно-патриотического образования была поездка на стрельбище в Дибуны.
Она так и врезалась мне в память: маленький автобус; Колобок-Канарис, затянутый в кожаное пальто, сидит к нам лицом. Толстые ножки расставлены, ширинка расстегнута, в ширинку вложены перчатки.
А мы хором поем: «Наши жены – пушки заряжёны!»
Хорошо!
Пора все это вернуть.
ГлупостиЕсть одно распространенное заблуждение. Оно гласит, что всякие глупые вещи мы совершаем по молодой дури.
Когда я учился во втором классе, я запихнул себе в нос пуговицу.
В пятом классе я сделал из зонтика парашют и прыгнул с крыши помойки.
В седьмом классе я изготовил огнемет из парфюмерного баллончика.
На втором курсе медицинского института я разогрел на водяной бане закупоренную банку голубцов и ударил в нее консервным ножом.
А потом глупости вдруг кончились.
Стало ли их меньше? Не думаю. Они заматерели, напитались солидностью. Называются – Жизнь.
Семейный МемуарМой дядя не кто-нибудь, а двухметрового роста приборостроительный инженер в очках, немного похожий на Шостаковича.
Образ его жизни вынуждает меня подводить некоторые итоги. Что поделаешь, за все приходится платить.
В восьмидесятые годы и в начале девяностых дядя, как только случался август, исправно расставался с ненавистной Москвой и приезжал к нам на дачу, попить в карельских лесах. Отчим мой старательно угадывал дядины нехитрые желания и всячески им потакал.
Угодивши в лес, дядя скучал и томился.
Особенно моя матушка, то бишь егойная сестра, наказывала его за вчерашние подвиги. Подвергала, как он выражался, остракизму. Так, например, они с отчимом не слишком запомнили путч 1991 года и вообще плохо поняли, что произошло. Зато потом, гуляя по лесу, дядя муторно сокрушался:
– Пугу жалко. Жалко Пугу! Нечем Пугу-то помянуть, да. Помянуть бы Пугу! Да нечем.
Потом срывался на хвойно-лиственный промискуитет:
– Погулять так… подрочить на березку…
Вообще, он часто грезил о заблудшей овечке, которую, подобную Аленушке, найдет нечаянно в какой-нибудь в дремучей чаще и примется утешать. При виде женщины дядя неизменно интересовался:
– А когда мне уже можно начинать с ней дружить?
Если его дразнили – спрашивали, к примеру, хороши ли в Москве невесты, – дядя мог и рассердиться. Он отвечал так:
– Рука твоя невеста… она же жена, и радуйся, что все так хорошо.
Однажды мы сжалились и привезли из города нашу подругу, немного полную, но боевую. Дядя, когда мы явились на пляж, как раз выползал из озера и глупо смеялся.
– Мы тебе овечку привезли, – шепнул я ему, когда выдался подходящий момент.
– М-да! Кес-ке-се гарсон руж! … – обрадовался дядя фразой, которую почему-то произносил по любому поводу, не вникая в смысл. – Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины? … Я люблю заблудших овечек! Но я не люблю заблудших коров… к тому же почти что стельных…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































