Текст книги "Броуновское движение"
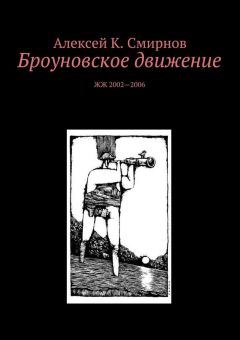
Автор книги: Алексей Смирнов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 44 страниц)
В системе школьного образования – клевое новшество: установили какие-то селекторы, чтобы родители напрямую связывались с учителями. Звонишь и вызываешь математичку, химичку, трудовика, физкультурника. Спрашиваешь, сколько раз подтянуться, как собрать автомат, сколько будет пять плюс восемь, потому что ребенок не понимает. Контролируешь.
Неплохо бы и в больницах такое ввести, с круглосуточной связью. Не обязательно для жалоб, люди могут просто поделиться динамикой своего состояния. Ведь интересно же! Я, например, знаю случай, когда одна женщина жаловалась на ужасную головную боль, продолжавшуюся несколько дней. Потом попила гербалайфу и вытянула из левой ноздри длинную-длинную ленту, вроде глисты, но вроде мертвую. И голова моментально прошла.
Доктор с удовольствием выслушает.
Или священникам такое установить. У прихожан много вопросов. Один батюшка жаловался на старушек: спрашивают на исповеди, на какую сторону писать.
Вообще всем установить.
Невыносимое бремя сновНевыносимо реальный сон: в нем я застрелил одного опасного человека, своего благодетеля. Благодетелем он был потому, что помог мне купить в Центре Фирменной Торговли, что у Нарвских ворот, небольшой револьвер в ящичке. И видно было, что за эту любезность он потребует от меня каких-то ответных услуг. Поэтому, прямо возле указанных ворот, я его и застрелил, в машине. Он там сидел, а я всунулся и стал стрелять. Первая пуля пошла неудачно, попала ему в левую половину живота, это совсем не смертельно было, и я увидел, как его перекосило от возмущения. Но следующие три пули пришлись куда положено. Умеренно потекла кровища, он завалился, а я уже спокойно прицелился и угодил ему в лоб. Выстрелы были почти бесшумные, курок нажимался мягчайшим касанием, и никто мне не сделал замечания, все шли мимо. И меня захлестнул восторг: надо же, до чего просто, я и дальше так буду делать. А когда проснулся, почувствовал, что именно так и стреляют по-настоящему. Как будто и вправду кого-то укокошил. Револьвера очень жаль; остаток сна я провел в поисках места, куда бы его выбросить. И, видимо, нашел, да уже запамятовал. Точно знаю, что не в местный пруд: во-первых, он очень мелкий, а во-вторых, уже замерз. Теперь машинально сую руку в карман, досадую: пусто.
ГоловаУважаемый журналист Константин Крылов написал, что либералы суть «нерусь», а националисты суть «русь», причем сознательная.
Я думаю, это не вполне точно.
В осознанно русской голове, о которой, по-видимому, говорит Крылов, границы либерализма совпадают с границами ее личного жизненного пространства. Зато все, что находится за его пределами, подлежит, конечно, государственному национализму.
Похожие процессы разворачиваются в осознанно германской голове, американской, арабской, японской, негритянской и так далее. С поправкой на ландшафт.
Не все коту масленицаЯ придумал новый роман (повесть, рассказ, постинг – как получится).
Выхожу в коридор, свожу руки, будто несу нечто драгоценное, и говорю жене с елейной торжественностью:
– А я тут кое-что новое придумал.
И, по-моему, бессознательно пританцовываю.
А она мне отвечает:
– Когда ты так делаешь, мне кажется, что у тебя между пальцами перепонки, а сзади хвост. И вообще ты рептилия.
Поэтому «Войны и мира» не будет. Некому переписывать.
«Мы вам тоже написаем в щи» (А. Галич)У нас на дворе юбилей Конституции, которая становится буйным тинейджером и скоро, я думаю, понесет пубертатные изменения. И вообще что-нибудь понесет, в простонародном смысле. С марта будущего года начинаю ждать.
По этому случаю мне лучше написать что-нибудь гражданственное. Вот я и напишу про наш семейный гражданский поступок. Дело было при Советской Власти, в 1990 году. Мы, приглашенные не слишком разборчивой общиной экуменистов, которая плохо въехала в наш внутренний мир, покатили знакомиться с Бургундией. О том, как протекало мое воцерковление, уже написано в цикле «Мемуриалки».
Но я написал не обо всем: там ведь были и другие православные христиане, не только мы. Русская группа была представлена чадами покойного Александра Меня, числом человек в десять. Люди это были глубоко идейные, нервные, настороженные, с напряженными улыбками. И с этими людьми была одна женщина в теле, которого чуть бы побольше – и перебор. Звали ее Людмилой, она всюду лезла и называлась работницей ленинградского радио. Одолжила нам кипятильник. Взяла телефон.
Веры в ней, по ее собственному признанию, не было никакой, но она утверждала, будто чувствует, что уже очень скоро поверит. Ходила на все богослужения, а эти мероприятия у экуменистов были своеобразные: винегрет из молитвенных обращений разных народов мира, плюс самобытная музыка. Иногда устраивались какие-то крупные службы в честь непонятных событий. Так что Людмила не без некоторой озорной веселости рассказывала:
– И все легли на пол и так, знаете, поползли к этому алтарю, что ли. И я со всеми там тоже ползала, тоже молилась…
Эта она мне рассказывала и показывала, потому что я на богослужении не был.
– Грамотно работает, – сказал по поводу этих действий понимающий человек из группы Меня, по фамилии Пастернак.
И рассказал мне, что Людмила – сотрудница КГБ и подослана специально.
– Что ж, примем мученическую смерть, – Пастернак, молвив так, пожал плечами с искренним и печальным восторгом: пустяк!
Ему виделись львы и печи.
Мы приняли его слова близко к сердцу и насупились, с Людмилой уже не дружили.
Вернулись в Ленинград, там – звонок: Людмила.
– Верните, пожалуйста, мой кипятильник.
Мы скорчились от хохота и торжества. И стоически отказались.
– Верните!.. Верните!.. – звонила она потом.
Мы молчали. Мы хотели наказать КГБ и подорвать его мощь. Вот так один не вернет кипятильник, два, сто человек, миллион – и конец тайной полиции. Звонки продолжались, постепенно затухая – как и сама эпоха:
– Верните мне мой кипятильник!.. Верните мне мой кипятильник!.. Верните! Верните!..
Прекраснодушное вольнодумствоОднажды я пострадал в школе за то, что изрыгнул слово «нищие». Дело было так: я побывал на экскурсии в белокаменной с заездом в Загорск, где меня поразили толпы хромых и увечных. Они лежали на раскладушках и просто так, без раскладушек; отлежавшись, впивались губами в застекленные образа.
На уроке английского, при завуче, я честно ответил: видел нищих. А велено было распространиться на какую-нибудь свободную тему.
У завуча лицемерно округлились глаза:
– Как? Наверное, это просто люди, которые не хотят работать!
Но я упорствовал и получил Три.
– Я думала, все расскажут про наш новый Универсам, а тут… – разочарованно сказала завуч.
Она, между прочим, оставаясь несокрушимо идейным лицом, позволила себе раболепие в присутствии Запада. Приехали к нам какие-то юные отморозки не то из Штатов, не то из Канады. Один распоясался, стянул с себя футболку и подарил музею интернациональной дружбы. Эту футболку он, видимо, носил два месяца, потом съел и снова надел по завершении естественного цикла. Кудахча от восторга, завуч лично, взявши дар двумя пальцами и держа его на вытянутых руках, понесла одежду под стекло.
Это, кстати сказать, как раз происходило в год принятия очередной Конституции, которая даровала мне право восхищаться Универсамом.
Дары данайцевНаписал я про юного иностранца, который подарил нашей школе свою одежду, и задумался. Что еще нам дарили иностранцы? Почему они это делали?
Ведь наше государство, хотя и лезло из кожи, чтобы им угодить, встречало гостей не слишком приветливо. Моя жена одно время подрабатывала экскурсоводом, возила французов по разным замечательным местам. И вот привезла не то в Павловск, не то в Петродворец, а одному неистовому гасконцу давно уже хотелось отлучиться по нужде – так сильно, что он забывал любоваться архитектурой. Наконец его желание сбылось, он скрылся в каком-то шибко общественном домике, а когда вышел, весь до колен был почему-то мокрый, и все твердил, что не забудет никогда, что такого он не видел даже в развивающихся странах.
Несмотря на это, иностранцы очень часто считают себя обязанными подарить какую-нибудь мелочь.
Мне, например, в третьем классе американская делегация подарила доллар. Металлический. Не знаю, кто и зачем ее к нам привел, но делегация пожаловала, а меня сразу подняли и велели прочесть длинное стихотворение по мотивам оголтелого марксизма-коммунизма. Совершенно не помню, о чем оно было, но сердце до сих пор так и рвется разделить судьбу какого-нибудь юного барабанщика. И очкастый американец, когда уходил, украдкой сунул мне в руку доллар. Я этот доллар долго хранил, но классе в восьмом обменял его на дрянную английскую книжку, с вооруженной сисястой бабой на обложке.
А еще был случай, когда мой товарищ работал в группе встреч и проводов на Московском вокзале. В начале восьмидесятых было дело. Прихожу я к нему, чтобы увести оттуда, а он покатывается со смеху: приезжает, дескать, мистер Съеблом. Согласно записи в журнале. Это расшифровали одну фамилию: Sheblom. Пошли мы встретить нашего гостя; видим – стоит, в клетчатом пиджаке, полненький, пожилой, в панамообразной шляпе и темных очках. Мой приятель помог ему донести чемодан, сдал дежурному гебисту, а приезжий сунул ему, приятелю, опять-таки доллар. Озираясь по сторонам, застенчиво. Приятель возмутился и отказался с надменным видом – на что ему доллар в те времена; с долларом и сейчас не очень-то разгуляешься. Он совершенно рассвирепел, потому что имел в роду декабристов-дворян.
Может быть, это и был мистер Съеблом. А если нет, то стал им после такого поступка.
Особенности национального влеченияБесконечная дискуссия о правильном женском оргазме свернула на тему детских игрушек. Я почувствовал, что это оскорбляет и обделяет мужчин. У них тоже бывает по-всякому.
Я не помню, рассказывал ли уже об одном похождении, в котором участвовал мой друг-уролог. Если рассказывал, не взыщите. Повторяюсь по-стариковски. Мы решили отметить День Государственного Суверенитета-Авторитета и поехали в гости к нашему коллеге, хотя были в виде, уже не требовавшим никаких новых разъездов. У коллеги жена и дочь ушли в театр, так что мы и его напоили. Потом меня аккуратно положили на топчан поспать, а сами продолжили. Жена коллеги, вернувшись к полуночи, обнаружила взъерошенного уролога, который цаплей метался по лестнице и колотил ногами во все двери: он вышел за сигаретами и забыл номер квартиры. Позднее, уже впущенный в дом, он активно напрашивался в банщики, когда эта жена пошла в душ. Так и не побыв банщиком, заснул.
Утром я почему-то проснулся. Это ужасное дело: просыпаться в неожиданно незнакомом доме. Скосил глаза: нету ли кого под боком. Нету, хорошо. Повернул голову и увидел диван. На диване спал уролог, в одних трусах, да и то не совсем. Трусы были спущены до колен, и сам уролог весь целиком свелся к явлениям хронического возбуждения. Застигнутый перед смертью причудливой фантазией, он обнимал голую детскую куклу.
По прошествии времени, между прочим, ни от чего не отказывался и даже клялся, будто отыскал в ней специальное отверстие. Или проделал.
Дом Творческой ЗадумчивостиТри года назад я предпринял безуспешную попытку вступить в Союз Писателей (сейчас на дворе июль 2004, и уже все в порядке). В Геликоне вышла моя книжка, и я ее снес в качестве верительных грамот. Но меня зарубили – вернее, подвесили, так что я вишу до сих пор. До следующей книжки. Потому что критик Лурье сказал, что вообще не видит предмета для разговора. На то он и критик, я даже в мыслях не держал ему возразить. А Галине Гампер не понравилась рожа на обложке, которую нарисовал Горчев, хотя мне самому эта рожа очень нравится, и причем тут Гампер? Не пастушку же там рисовать. Сказала, что такую книжку неприятно положить на обеденный стол. Ну, так и не клади, нечего ей там делать.
Да бог с этим. Беда только, что книжки мои писатели зажали. И мое хождение в эти самые писатели завершилось юмористическим образом.
Явился я к ним, чтобы книжки-то забрать, пригодятся. А там как раз идет какое-то заседание. Я в щелочку посмотрел: сидят серьезные люди и подавленно молчат. А кто-то один горячится и ругает, как я понял, другого критика, Топорова. Который, насколько я знаю, является давнишним писательским кошмаром. И ругали-то его в смысле, что нечего с него, дескать, взять, потому что он Член и имеет право.
В общем, я понял, что пришел не вовремя, побродил по коридору. Вспомнил вдруг, что нахлебался кофию, и завернул в Писательский сортир. А выйти не смог: дверь защелкнулась, и ручка на ней хитрая, крученая, чуть ли не с шифром. Я и так ее оглаживал, и этак – ни в какую. Тут и заседание кончилось: слышу – писатели повалили в коридор. Сейчас, думаю, ясное дело, побегут выпускать пар, а тут – я, застрявший. И скажут мне: что за наглая пошла молодежь среднего возраста; их, графоманов, гонишь в дверь, а они не то что в окно – через сортир не гнушаются!
Взвыл я беззвучно, рванулся и вырвался, весь в смятении.
Прихожу домой, звоню приятелю, который сам не писатель, но все про писателей знает.
– Вообрази, – говорю, – побывал я у писателей в их Доме. И как ты думаешь, что там произошло?
А он деловито спрашивает:
– В сортире, что ли, застрял?
Оказалось, что эта ручка – тамошняя достопримечательность. Про нее уже всем известно. Но я ж не в системе, не разбираюсь в мелких секретах ремесла.
Прикладная ботаникаЦветы – это самый нелепый, самый бессмысленный и даже вредный дар.
Они, конечно, приятны всяким очаровательным дамам, но только не сами по себе, а как знак признания очаровательности.
В ранней юности у меня был опыт едва ли не ежедневного дарения роз. И самомнение дароприемщицы раздулось от их шипастого аромата настолько, что мне до сих пор, бывает, икается.
Половые цветы, о которых поется, что их, непокупных, нарву букет, ничуть не лучше. Очарованность объектом растительного подношения здесь только усугубляется, подчеркивается будто бы тоньше: не в деньгах, мол, счастье, и вельможные гладиолусы вырастают на почве, удобренной бессердечным расчетом; зато смотри, какой я бесхитростный и природный. Неплохо бы и посоответствовать такой простоте! Чего уж там! Вот и лужок у нас рядом, и пестики, и тычинки. А у тебя как раз ситцевое платье выше колен.
Что до разницы во флоре между свадебными и похоронными торжествами, то она заключается лишь в кратности двум.
И уж совсем безумное, подлое дело – дарить цветы докторам мужского пола. Да еще с наглой улыбкой: жене подарите! Ну да, разумеется, я попрусь из пригорода с очередным букетом. В драных ботинках. Не говоря уже о том, что стыдно к ларьку подойти (тогда, когда мне цветы дарили, еще стояли эпизодические ларьки). Такие цветы я всегда отдавал сестрам, и они там что-то себе думали.
Я это написал потому, что у нас дома появились цветы. Три длиннющие розы, стоят (стояли) в такой же длиннющей вазе, на серванте. Очень вредная вещь. Сволочное животное, наконец, сумело до них допрыгнуть и опрокинуло; важные документы промокли, еле спас паспорт. Это у него боевое крещение.
ИванВ дремучей Новгородчине жил некогда Иван.
Его деревня, где насчитывалось штук пять домов с вялотекущей внутренней жизнью, отстояла от центра первобытной цивилизации верст на пятнадцать.
Каждое утро Иван спозаранку отправлялся в поход, продиктованный шопингом. Он ходил в пиджаке, широкополой шляпе и рубахе со странным стоячим, но мягким воротником, вокруг которого была пущена ленточка. В этом костюме Иван смахивал на пастора, невзирая на болотные сапоги. Он шел за горючим внутреннего сгорания и к вечеру возвращался, прихватывая за сочные бока кокетливые кочки.
Он даже умер прямо на дороге, и его нашли лежащим ничком, при одном сапоге.
Денег у него не бывало, Иван периодически, по старой памяти о съестном, питался корками, местной скотохозяйственной валютой. Он больше не нуждался в пище. Он был действующим целеустремленным механизмом, наведенным на далекие магазины. Его стеклянные глаза смотрели злобно и в то же время доверчиво.
Признав во мне городского жителя, Иван захотел со мной общаться. У него было высшее образование, и он посматривал на односельчан не без простительного презрения.
Он приподнял шляпу и подступил к плетню. Медленно раскрывая рот, Иван простер руки и обратил мое внимание на местный туманный простор. Он начал издалека:
– Ты посмотри, Алеша, – сказал он взволнованно, – ты посмотри, как здесь хорошо! Живи не хочу!..
(Я не хотел.)
Он продолжил, и я решил все это сократить.
– Слушай, Иван, давай ёбнем, – сказал я.
– Давай, – быстро сказал Иван и воровато оглянулся.
Я сунулся под куст смородины, где прятал бутылку с украденным у тещи спиртом.
– Быстро, сука, – процедил я и загородил Ивана.
Долговязый Иван придержал шляпу и запрокинулся круглой скобкой. Глаза его выпучились, пиджак разошелся.
– Вот, Алеша, – сказал он, – я сразу понял, что ты человек. И знаешь, когда я это понял? Когда ты сказал: Иван, давай ёбнем. Вот просто так сказал, без всяких этих, ты сам знаешь.
Через два дня он снова стоял у плетня.
– Вот ты, Алеша, – обратился ко мне Иван, приветственно приподнимая шляпу, – правильный человек. Не то, что все эти, – и он негодующе повел подбородком. – Ты как мне сказал? Иван, давай ёбнем – и всё, как отрезал. Ты молодец.
– Понимаешь, – открылся мне Иван через неделю, – мы с тобой друг друга поймем. Я четко понял, что ты нашей, правильной крови. Когда ты мне сказал вот так, без всяких этих самых: Иван, давай ёбнем – я про тебя сразу все узнал.
– Дерьмо, а не мужик, – строго сплевывал на него мой тесть, а теща поддакивала. – Все на халяву хочет, а потом нагадит. Тьфу!
Иван вскоре признался мне
– Ты, Алёша, настоящий человек, не то что твоя родня. Ты ведь мне как сказал? Я помню! Ты мне по-простому, как родной человек, сказал: Иван, давай ёбнем…
Когда угодил в город, позвонил мне:
– Помнишь, Алёша, как ты мне сказал?…
Путешествуя по городуНичего особенного, разные мелочи.
– Скажите, это нормальный троллейбус? – обратилась ко мне взволнованная и несколько напряженная дама. И села рядом.
– Нормальный, – я покосился на нее, собираясь спросить: а вы?
– Какой странный троллейбус, – продолжала она, глядя прямо перед собой. – И музыка играет! И не едет никуда!
Странным людям – странные средства передвижения.
Еще я заметил, что люди почему-то не носят шапки. Такие естественные шапки, меховые или полумеховые, почти национальные. В чем дело? Изменился метаболизм, а я опоздал?
Спустился в метро – пожалуйста: многие в шапках. Любопытно.
Потом, опять же в метро, любовался скульптурными группами. Измельчание идеалов с их вырождением – налицо. Например, на станции «Нарвская» я постоянно любуюсь людьми, славящими труд. Они стоят над эскалатором несколькими рядами, а сзади, если кому их мало, еще притаился Ленин, и на самой станции тоже всякое: Сталевар со сталью, Рыбак с рыбой, Мотальщица с мотней.
Зато на станции «Проспект Ветеранов» обосновались какие-то убогие изваяния из дешевого металла, мелкие, немногочисленные. Уже не рабочие, прославляющие труд, а спившаяся интеллигенция. Стоит долговязый ученый в халате, обалдело сверкает очками: прогнулся, выпятил живот и держится за край чего-то, чтобы сохранить равновесие, потому что минуту назад выпил спирт для зачистки электродов. А рядом его подчиненные вводят в ЭВМ заведомо неправильную информацию.
Еще там откуда-то взялся культовый и знаковый запах дихлофоса. Непонятно.
Потом я стал свидетелем одной Бани. Это страшное сооружение, стоящее в страшном месте. Мне не хватит изобразительных средств. Там испаряются даже самые прочные сталкерские гайки.
Идиотская привычкаИдиотская привычка, которой не знаю уже, сколько лет: разговаривать во время стряпни с тем или иным животным. Предугадывать желания, сокрушать надежды.
Наша соседка Мария Васильевна разговаривала с котом Кузей так (шипела):
– Мяса хочешь? Все мясо съел! Жопа тебе, а не мясо!
Существо смотрело с пола не без ласкового вожделения. Сдержи Мария Васильевна свое слово, хватило бы двум тиграм.
Повесть о первой любви, или дикая собакаОна была робкая и хрупкая.
Он таким не был – просто не очень опытный. И в придачу – мой закадычный приятель, с которым мы рисовали на лекциях разные картинки, о которых я уже рассказывал.
В женской психологии мой друг разбирался грубо. Рисовал, например, мечтания девушек: сидят они, грушевидные, за стойкой бара, а из голов ползут большие пузыри, символизирующие воображение. И в этих пузырях девушкам видится, как они выкусывают друг у дружки клитора. Вытягивают их, словно жвачку или резинку из трусов.
Вот какие у него были представления.
Робкая и хрупкая, учившаяся в соседней группе, об этих мыслях ничего не знала. Более того: все шесть лет учебы она ничем не обнаруживала застарелого любовного чувства. С этого чувства уже осыпалась пыльца, перемешанная с гадальными лепестками, но оно все еще торчало торчком, поворачивалось на солнце. А когда наступил выпускной вечер, робкая и хрупкая пригласила моего друга на черно-белый танец. И открылась ему. Мой друг, потрясенный до самых своих шкодливых корней, немедленно на ней женился.
Она была абсолютно непьющая, но даже это его не насторожило и не остановило.
Через полгода я навестил их, принес несколько бутылок сухого вина. Робкая и хрупкая с некоторым неудовольствием, но в полном смирении ушла жарить котлеты.
– Давай-давай, – зареготал мой друг, восторженно потирая руки. Он увидел, что я разлил вино на троих. Взял стакан жены, выхлебал содержимое, налил туда разбавленный чай.
Умирая от торжества, напустил на себя чинный вид и стал ждать.
Робкая и хрупкая вошла с котлетами, супруг вручил ей стакан, она принялась отказываться.
– И не думай! – нахмурился он. – Ты что!
Вздохнув, она взяла. Муж не сводил с нее глаз. Мы чокнулись и выпили.
– Это не вино! – недоуменно сказала хрупкая, едва пригубив.
– Ха-ха-ха! – зашелся хохотом мой друг. Он откинулся на спинку стула и схватился за впалый живот. – Ха-ха-ха!
Хрупкая помедлила и с достоинством допила стакан.
Месяца через полтора эта любовная лодка разбилась, и пусть кто посмеет сказать, что не о быт.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































