Текст книги "Броуновское движение"
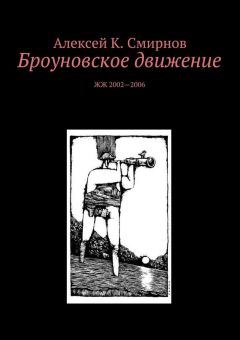
Автор книги: Алексей Смирнов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 44 страниц)
Бывают же суки.
Вот не люблю я так откровенно ругаться. Но все же.
Иду себе, весь посланный на хуй (простите, сорвалось).
Закурить не имею.
Вижу: сидят, Он и Она. В самом расцвете. Чем дальше займутся – ясно. И Он, разумеется хочет девушку развеселить.
– Не будет ли у Вас закурить?
– А как же здоровье?
– А здоровье ни к черту. Но закурить-то будет?
– Да закурить-то будет. Но Вам вот зачем?
– Да так, чтоб курилось. У Вас-то есть?
– У меня-то есть. В кармане.
– Ну, вот. А я хочу, чтобы у меня было во рту.
Дальше свое остроумие перед девушкой Он развивать перестал. Дал мне сигарету Петр Первый.
Явно идентифицируя себя с маркой-производителем.
А у меня еще и спичек не было.
Но тут уж хрен я согнулся. Пошел с нетленным Петром Первым.
ДостоевскийПошли жена с дочкой гулять. Завернули в галерею современного искусства «Борей».
Ну, у ребенка разбежались глаза.
– Это что же: оказывается, из разного хлама можно столько понаделать?
– Ну да!
– И я могу понаделать дома?
Конечно!
Ходят, рассматривают. Вдруг – отдельная игрушечка, крохотный красный топорик. Рядом лежит игрушечная старушка с разбитой башкой. И еще какой-то господин сидит над этим делом – задумчивый, в цилиндре. И все это называется «Достоевский».
– Почему – Достоевский?
Ну, мама кратенько ввела в курс дела. Все равно не до конца ясно, почему Достоевский. Тут Ирина говорит:
– Он первым поставил вопрос: можно ли злом победить зло?
Ребенок фыркает:
– Конечно, нет.
Взяла без спросу топорик, покрутила. Этого, конечно, нельзя было делать, а то иначе вся композиция «Достоевский» отправилась бы прямо к нам, в ссылку, в мертвый Барбин дом – подумать там хорошенько. Потом завалился бы куда-нибудь.
Изыди!Год назад (он был 2003) мне предложили говорить спасибо за то, что у меня земля не горит под ногами. А она, между прочим, рожала мне. Да.
Я сокрушался о небольшом пьяном разгуле. Я ведь человек уже немолодой, у меня алкогольный климакс и менопауза были без малого – год, мне нельзя ни в коем случае. Но вот, под влиянием частично надуманных, а частично реальных причин менопауза прервалась. И выходить из образовавшегося состояния было очень и очень тяжело.
Так вот: выхожу я, значит, из нелепого кризиса, гуляю на природе. Иду себе по проселочной дорожке, слушаю птиц, дышу воздухом, радуюсь предстоящему периоду ясности и здравости суждений. На даче дело было. Прихожу к озеру, а там – что бы вы думали? в траве лежит бутылка пива, полная, запечатанная, с бумажкой даже. И – никого вокруг, пусто, абсолютно. Пустынный пляж.
Многим ли случалось найти на дороге полную бутылку пива?
Попробуй после этого в чертей не поверить.
Я ее взял и зашвырнул далеко в болото, пусть меня осудят. Запустил, как Лютер чернильницей в своего черта. Хотя здесь возникают сомнения: Лютер швырял безобидный предмет в небезобидный объект, тогда как я, можно сказать, самого черта и сграбастал. Но возможно и другое толкование: не была ли для Лютера чертом его собственная чернильница? Тогда мы с ним квиты. Непонятно только, в кого он ее бросил. Но ведь и я не видел, кто там был, в болоте. Чвакнуло, а это информация жиденькая.
Беседы с синоптикомМне отчаянно хочется познакомиться с синоптиком, который пообещал жаркое лето. Я уверен, что мы бы с ним очень мило потолковали. Но только я бы сидел на крылечке, под навесом, а он – снаружи, под дырявым от тучности небом. Беседа была бы долгой и задушевной. Я не курю трубку, но по такому случаю закурил бы, да и ему бы дал – правда клистирную.
Потому что сегодня сидел один и, созерцая грозу, сочинял стихи: «Смотрю на стихию, она хороша. Настолько, что спеть устыдилась душа».
Дача не радовала.
Сосед-милиционер, расширяясь в талии дачным участком, добрался, по-моему, до железнодорожного полотна и хочет срыть кусок. Из куска может получиться отличная лесенка в погреб.
Долго рассматривал баскетбольный щит для детских игр. И все гадал: неужели кидали мяч? Нет, дети применили нечто другое. Гранатомет? Провели поселковый чемпионат по кун-фу?
Все сыро, пасмурно. И вот какая вещь. В прошлом году я, когда бросал пить, нашел, как вы помните, на совершенно пустынном пляже закупоренную бутылку пива. И, отогнав лукавого, метнул ее в болото. Так вот: в том месте, где она – примерно – упала, вырос черный крест. Прямо в болоте. Деревянный или железный – мне не разобрать, это надо в болото лезть, а я туда не хочу, раз там такое.
Про сонДавно я не писал про сон. Вот как было.
После дачного обеда, когда на слух не понять, не то кастрюля на плите булькает, не то снаружи, за окошком, варится свежая зелень в дожде, самое время вздремнуть. Принял я быстренько одних таблеточек от излишне грустного настроения.
И снится мне сон, будто я сунул руку под подушку, а там – мои часы, в совершенно разобранном, разломанном состоянии. Отдельные фрагменты, пружины, костыли и горбыли. Я на жену ругаться: что же ты натворила? А вместо жены – покойная бабушка, и это она не часы разломала, а растеряла инструменты из шкатулки: шпильки, ножницы, булавки. И вообще, мы отдыхаем с ней в другой комнате, у моря.
Ложусь на бочок, гляжу в окошко и вижу залив: изумительно изумрудный, солнечный. Отлично. Поворачиваюсь на другой бочок (а он у меня в реале ушиблен был) и вижу в окошке дюны, но не наши, приморские, а с известной планеты Дюна. Там уже Червь выползает, вокруг суетятся фигурки, думают его обуздать, а фигурки преследуются двумя холодильниками, но те уж завалились и лежат без толку. Червь всех пожрал, захотел скрыться в песок, и вдруг я гляжу – их два, Червя, и оба злобно уставились на меня. Все, думаю, приехали! Как плюну в них! И проснулся.
А еще в той комнате было много старых книжек одной девочки, которая там когда-то жила. Красивая азбука и обойные рулоны, исписанные романом Платонова, который тот гнал с продолжением в газету «Красная Звезда».
ТупикМы очень мало понимаем.
Хайдеггер написал, что человек обречен покорять природу, а потому не умеет выйти за рамки практического мышления. Главное для человека – схватить, да овладеть. И овладеть-то не до конца, впопыхах. Все делается приблизительно, на глазок: никто, например, так и не знает, сколько же это будет – пи, или корень из тринадцати, но десяти знаков после запятой хватает, чтобы построить что-нибудь более или менее удобное – самолет, пароход или ракету. Которые, если подумать, ничем не лучше отломанной ножки, примотанной к табуретке веревочкой.
Альтернативой могло бы явиться аналоговое мышление, если я ничего не путаю в терминах. Оно ближе к первобытному, доверчивому. Но и здесь получается труба. Сегодня мой кот выцарапал из блюдца кусочек мяса и стал его, сволочь, гонять по квартире. Я, чтобы не пачкать руки, начал пинать его обратно, пока не допинал до блюдца. Теперь представим, что иноземный разум холодно наблюдает за этой картиной. Со стороны ему покажется, будто два существа занимаются одним и тем же делом.
Какие последуют выводы о местных повадках?
Безоговорочная КапитуляцияВ августе 1990 года мы сели в поезд «Ленинград-Берлин».
Это случилось впервые. Советская власть еще хорохорилась, и все представления о загранице, особенно о Фашистской Германии, были живы. Во всяком случае, в моей маме, которая нас провожала и для которой одна мысль о том, что единственное чадо едет в самый Берлин, в логово, была невыносима. Наверное, ей подсознательно мерещилось заключительное мгновение весны, когда добрый немец Отто падает на мостовую, сраженный пулей. А супругу мою волокут к Мюллеру, которого, между прочим, еще не нашли.
Но первый же немец, какого мы повстречали, опровергал эти мрачные мысли. Это был молодой, довольно грузный и рыхлый субъект, долговязый, в черных мешковатых штанах и черной жилетке, не достававшей до пупа. Он торчал в коридоре, и я попросил у него прикурить от сигары. Или саму сигару, забыл. Сразу, без предисловий, поезд еще не успел тронуться.
Оказалось, нам ехать вместе. Мой немецкий очень и очень плох, но в живой обстановке я быстро припомнил самое важное, и вот мы уже сидим в купе и весело разговариваем.
Немца звали Олаф. В нашей стране он чему-то учился, и правильно делал, потому что на родине этому все равно не научишься. Теперь он ехал на каникулы во Франкфурт-на-Одере и хвастался только что прочитанным романом. Он сдвигал брови, выкатывал глаза и строил губы так, что казалось, будто он вот-вот произнесет либо Штрумпф, либо Пферд. Нечто подобное он и произносил. Роман, пухлая вещь в мягкой обложке, был запланирован к прочтению давно, и Олаф читал его с немецкой педантичностью, добросовестно. В этом романе, как особо указал Олаф (да больше ему ничего и не запомнилось), автор подробно описывал свой первый оргазм.
Олаф попил нашей наливки. Он просто и без церемоний запускал руку в штаны и чесал себе задницу в присутствии дамы.
Когда открылся вагон-ресторан, Олаф сходил туда и вернулся с курочкой. Мы переглянулись, думая о млеке и яйках. Олаф уселся и съел ее так же старательно, как прочитал роман.
На следующий день он так освоился с нами, что уже позволял себе мелкую критику чужих порядков. В Вильнюсе, на стоянке, мы прослышали, что где-то есть пиво и долго бегали по вокзалу, разыскивая это пиво, но так и не нашли. Олаф, когда мы вернулись, осуждающе качал головой и взмахивал руками.
– «Wo ist Bier!» – фыркал он. – «Где Пиво?»
В переводе выходило, что это никакой не Порядок, если кто-то слышит про Пиво и сразу вскидывается: где Пиво?
– Ordnung? – высокомерно и сердито допытывался Олаф. – Это – порядок?
– Ordnung, – улыбался я.
– Das ist nicht Ordnung, – строго отрезал Олаф.
Мы утешили его, сказав что скоро у нас, может быть, все-таки будет Новый Орднунг, он же Порядок, и Bier будет продаваться беспрепятственно.
Потом выяснилось, что этот любитель Орднунга что-то намухлевал с визой и сильно боялся, что его прижмут, но ему повезло. Пограничные собаки плевать хотели на его визу, их интересовал багаж с мозговой косточкой.
В Польше мы купили арбуз и решили показать Олафу настоящий Орднунг. Достали Русскую Водку и пригласили пить. Олаф с удовольствием согласился. Начинал он вполне по-русски: пил до дна, не морщился, не закусывал, не запивал. Но вскоре не выдержал темпа и стал отказываться, да не тут-то было. К утру он представлял собой жалкое зрелище.
– Арбузику, Олаф! – предложил я, орудуя в арбузе ножом.
Обессиленный Олаф свесился с верхней полки:
– О, Мелоне, Мелоне, – зашептал он с вожделением.
Жена моя презрительно подтолкнула к нему арбуз:
– Мелоне, Мелоне… Опохмелоне!..
Крошка-ЕнотЧеловек, мучающийся тяжелым похмельем, крайне восприимчив к любой, даже самой бессовестной, критике. Этим даже пользуются сообразительные наркологи, они так и советуют родным и близким запойного: брать в оборот, пока он в ужасе, и вить из него веревку, чтобы ею же и удавить.
Вот что было с одним человеком, называть которого не хочу. Он устроил салют по всем правилам, и товарища пригласил, но, очутившись дома, не смог уже ничего – ни с товарищем поиграть, ни жену поцеловать. Напился до свинства, а напоследок еще нассал прямо на пол и завалился баиньки.
И наступило воскресное утро: вся семья в сборе, и друг присутствует, с укоризненным лицом; виновник выходит к завтраку, никто с ним не разговаривает, только цедят сквозь зубы какое-то жуткое порицание. Сел он к столу, кусок в горло не лезет, а по телевизору показывают воскресный мультфильм. Это был дурной сериал про некий пруд с говорящими гадами, из которых лягушонок был хороший, да и прочие, второстепенные, герои тоже казались ему под стать, и все они боролись с главным негодяем, который был в том пруду то ли Сом, то ли Кит. Набезобразивший пьяница совершенно ошеломленно досмотрел этот фильм до самого конца. За приключениями тех, кто живет в пруду, он следил с испугом Крошки-Енота. В конце же Добро восторжествовало, и лягушонок стал преследовать ненавистного Сома-Кита верхом на электрическом скате. В тело Сома так и били сильнейшие разряды, но он только вздрагивал и плыл быстрее, скачками. А дальше фильм кончился.
Отец семейства, оценив подавленный вид пакостника, кивнул на экран, ухмыльнулся и объяснил:
– Вот… так будет с каждым… кто нассыт!!
Зло«Не убоюсь я зла» – что это значит?
Есть такая неприятная болезнь: антропоморфизм. Мы часто приписываем человеческие черты различным явлениям, которые нас пугают.
Тогда как ко злу эти домыслы не имеют никакого отношения.
Я помню два случая, когда меня здорово напугали, до столбняка. В первом случае я гулял в Таврическом саду, мне было лет семь. Будучи образцовым паинькой, я прилежно собирал себе маленький гербарий: обрывал листья со всяких кустов, и только потянулся за сиреневым, как на меня напала какая-то горбатая старуха. До нападения она шла себе, глядя под ноги и что-то бубня под нос, заложив руки за спину; она не была ни сторожем, ни тайным координатором подпольного тогда общества Зеленых, Розовых и Голубых; но она вдруг резко свернула и бросилась на меня, стала орать, да в придачу такое, что я ни слова не понял.
Второй случай произошел в цирке. Меня повели полюбоваться на дрессированных якобы яков. Яковы, якобы дрессированные, бежали трусцой вкруг арены, а я созерцал их, сидя в первом ряду. И неожиданно один, самый резвый, повернулся прямо ко мне, пригнул рога и впрыгнул передними копытами на бордюр, а может быть, на поребрик. Я окаменел и отравился собственным адреналином; потом-то мне стало ясно, что это было нарочно придумано, и як этот ничего ужасного не хотел. Он вообще ничего не хотел: стоял и слюняво жевал какой-то травоядный приз за образцовое послушание; глаза у него были бесконечно равнодушные, все ему казалось по сараю. Прикажут – поставит копыта, прикажут – откинет. И жизнь-то ему обрыдла давным-давно.
Мой испуг в обоих случаях был вызван тем, что я наделил животных человеческими желаниями, пускай и непонятными мне. Я приписал им намерения.
Со всяким злом, если раздеть его догола, та же история.
Ничего оно не хочет, ко всем безразлично.
Можно чуть-чуть продвинуться рогом.
Можно и не двигаться.
Ничего личного, как принято говорить.
Вдогонку праздникуБывает, что война отдается не только печальным, но и странным эхом. Например, когда б не война, у меня никогда бы, наверное, не было собраний Канта, Юма, Платона и Гегеля – не трофейных каких-нибудь, а вполне мирных, выпущенных в 50—60-е годы.
Деды мои воевали как-то загадочно, мне об их фронтовой деятельности ничего не известно.
Дед по отцовской линии служил военным топографом. Я ни разу не видел у него ни одной медали, даже самой простенькой, если такая бывает. Не знаю, почему их не было. По слухам, его контузило, и он после этого сильно повредился характером: стал донельзя упрямым, ригидным, или, как выражаются медики, торпидным, но нисколько не поглупел, а начал вдруг изучать философию, к которой в нем раньше не было никакой склонности. Оставшись в этом деле совершенным дилетантом-любителем, он, тем не менее, накупил и прочитал много – так и вышло, что все это перешло ко мне и, может быть, давнишнее созерцание умных книг подтолкнуло меня самого к тому, чтобы тоже их прочитать.
А не контузило б деда – кто знает, как повернулось бы чтение.
Дед по материнской линии служил в НКВД. Он был хороший человек, и я не думаю, что он особо усердствовал в деятельности, которую принято связывать с этим ведомством. В конце войны он стал начальником лагеря для военнопленных под Сестрорецком. У него, в отличие от первого, медали были, но не боевые. Он мало рассказывал про войну, но День Победы отмечал всегда проникновенно. С тех лет у нас стоит резное бюро ручной работы. Его изготовил пленный немец Бруно, и даже устроил в нем потайное отделение, а также проволочную стойку для пластинок. Не знаю, хорошо ли иметь в доме предмет подневольного труда. Наверное, не так уж это и страшно. Еще неизвестно, что заставили бы изготовить деда, окажись он на месте Бруно. Или что изготовили бы из него самого.
В потайном отделении, когда деда с бабкой не стало, мы нашли карандашный портрет работы Сомова, датированный 1900 годом. Тот, вроде как, был вхож в наш дом, а может быть – наоборот, его навещали. Теперь портрет, на свет извлеченный, висит на стене. Две девчонки на нем, в кружевных платьях, с бантами.
НаганАссоциативная цепочка, возникшая при ночном просмотре фильма «Банды Нью-Йорка» (так и не досмотрел), привела меня к образу револьвера системы «Кольт», а вслед за ним – к нагану Чапаева, который лежит в Артиллерийском музее.
Я вспомнил вдруг, что в детстве болезненно интересовался револьверами. Настолько, что даже специально ходил в этот музей, совершенно меня не интересовавший с познавательно-исторической точки зрения; все, в чем я нуждался, это созерцание револьвера. Потом я купил там книжку с фотографией этого нагана и часто его срисовывал.
Позднее, когда я учился у доктора Щеглова, тот объяснил мне, что такой интерес, сохраняясь в зрелости и плавно выливающийся в милицейскую карьеру, имеет фаллическую подоплеку. Озабоченность протяженностью гениталии порождает желание обзаводиться дубинками и огнестрельным оружием. Он еще много чего любопытного рассказывал – например, про баню, где каждый украдкой смотрит, не короче ли его гениталия, чем у других. А человек, учил Щеглов, устроен так хитро, что угол зрения, под которым он знакомится с обвисшей гениталией, всегда искажает объективную реальность, наполняя ее субъективной неполноценностью. Всегда-то мерещится, будто у соседа длиннее.
Ну, чего не знаю, того не знаю. Но в моем интересе к револьверам, если вернуться к чему попроще, явно было что-то странное. Сейчас я пытаюсь восстановить свои мысли: что я хотел ими делать – грозить? стрелять? целиться? Наверное, да, и это тоже, но я ловлю себя на некой расплывчатой, иррациональной симпатии, которую только и остается объяснять щегловскими версиями.
Но вот что странно: меня совсем не возбуждали пистолеты. Я как-то не доверял им, считал неполноценным оружием. Почему для меня был так важен именно барабан? Нет, я не верю, не смею поверить, что мои ассоциации заходили так далеко и захватывали другие важные анатомические подробности.
К тому же я находил изъяны даже в нагане Чапаева. Чем-то он меня не устраивал – не то формой рукоятки, не то здоровенной мушкой. Набоков бы мне улыбнулся успокоительно; он посоветовал бы выгнать фрейдистов из головы к чертовой матери и продолжать смотреть на дело с эстетической точки зрения.
ФашЫстыОбъевшись за майские праздники военным кино, я вдруг подумал, что на нас, если верить кинематографу, всегда нападали ФашЫсты.
Последнюю крупную войну я не трогаю. С ней все ясно.
Но вот и в 1812 году были ФашЫсты. И даже восстание Пугачева подавили ФашЫсты. И белогвардейцы были ФашЫсты. И татаро-монголы, разумеется. И рыцари на Чудском озере – те вообще были чуть ли не самые первые ФашЫсты.
Ивана Сусанина, как все отлично знают, растерзала ФашЫстская Гадина.
Бывают, конечно, исключения; я не стану так уж уверенно утверждать, что в «Войне и мире» Бондарчука французы – ФашЫсты. Но от общего настроения никуда не денешься. Я почему-то не видел чтобы в штатовских фильмах про войну, скажем, Севера и Юга, или про индейцев, если только это не продукция студии ДЕФА, в каких-то других исторических лентах, или в китайских фильмах, или еще в каких западно-восточных, которые мне попадались («Ран» Куросавы, например), противник оказывался ФашЫстом, хотя его и там не слишком жалуют. На войне, как на войне, дело неприятное, но житейское. Я, понятно, не касаюсь Джеймса Бонда, это другая статья.
Тенденция плавно перетекает в детские сказки, где, наконец, проявляется в полную силу. Здесь и «Илья Муромец», и, конечно, «Финист Ясный Сокол», классический образчик жанра, где про главного ФашЫста залихватские старушки, на которых нападать – смертный грех, распевают песню:
«Картаус, Картаус,
Где ты взял рыжий ус?
И еще есть вопрос:
Где ты взял длинный нос?»
Девятый ВалЯ тут подумал, что многие нынешние никогда не видели очередей за пивом и водкой. Мало того, что не видели – даже в них не стояли.
Вас здесь не стояло, друзья.
А ведь это была школа выживания, национальный экстрим. Я очень хорошо помню один пивной ларек из Сосновой Поляны, у самой городской черты. Каждый день, ровно в 8.30 утра, я проезжал мимо этого ларька в электричке, направляясь на работу в петергофскую поликлинику. И каждый день, зимой в том числе, я видел, что возле ларька, в разбавленных сумерках декабрьского утра, прохаживается один и тот же, как я до сих пор убежден, человек в скромном, недорогом пальто и меховой шапке. Лет шестидесяти, судя по резвости перетаптывания. Ларек открывался, в лучшем случае, в десять-одиннадцать, а часто не открывался вообще. И этот страж там стоял всегда – не каком-нибудь сартровском одиночестве, но следуя великому пивному Дао.
«Большая и маленькая с подогревом и повтором» – такого уже не услышишь. Мой друг, например, пока ему наливали Большую, всегда успевал чинно, но быстро, выпить Маленькую, которую брал первой: затравочка. И разные вещи случались в этих очередях. К одному человеку (этого я не видел, мне пересказывали), пристал какой-то нервный субъект с вопросом «Который час?» Как будто это хоть сколько-нибудь важно. Тот молчал, но заполошный и суетливый надоедала не отставал, пока его не вразумил Стоявший Через Одного: «Ну что ты прилип к человеку? не видишь, что у него фуфырь портвея прививается?»
А был еще случай, мелкий эпизод, который стоил всех сентиментальных многосерийных мелодрам, и это я уже сам видел: дружинники вывели из очереди усатого, пузатого господина, который уже отстоял свое, наполнил пивом четыре трехлитровые банки, и встал опять, и стоя, пил прямо из банки, из каждой по очереди, и продолжал стоять, но его изъяли из обращения и увели.
Водочные очереди горбачевских времен были гораздо живее и суетнее, в них не было пивного олимпийского буддизма. Однажды меня попросили купить две бутылки для дачного счастья, и я долго разыскивал, где бы их взять; наконец, нашел. Войти в магазин было невозможно, желающие слиплись в огромную серную пробку. Так что в итоге многих своих, имеющих протекцию с рекомендательными письмами, стали передавать по воздуху, по головам, и все они плыли, подобные белоснежным бригантинам и корветам, с пиратским нецензурным воем. Я посмел возмутиться этой уличной айвазовщиной; ко мне прикипел огромный красный детина в белой рубашке, расстегнутой до пупа; он отчаянно захрипел мне в лицо: «да я тебя сейчас на хер из очереди выну», и стал, действительно выдергивать, уже просто так, чтобы крупно напакостить, уже не держа на меня зла. Я никогда не забуду безнадежного чувства, которое испытал в те минуты. Каким-то чудом я остался стоять; по-моему, тот недруг в некий миг забыл, чем он занимается, на самом пике выдирания репки. Он просто запамятовал, в чем состоит его действие, отвлекся и затерялся. Я стоял; от меня к прилавку продолжали плыть шумные каравеллы, еще живые; обратно их, уже полуживых, возвращалось меньше, но некоторые все-таки возвращались, обогнувши мыс Горн, навстречу мне, груженные, с полными трюмами. Они, получив пробоины и растеряв по пути обезумевших крыс, ликовали и палили из всех орудий.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































