Текст книги "Броуновское движение"
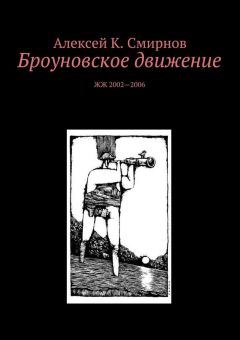
Автор книги: Алексей Смирнов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 44 страниц)
Я, если кто вдруг подумает, не какой-нибудь там недобитый из десяти комнат с десятью штанами, повсюду лежащими. Я долго жил среди простого и бедного люда, сам будучи бедным людом. И многое могу порассказать о моих соседях – уже когда-то начинал даже рассказывать, но что-то помешало. Их у меня в коммуналочке было немного, зато они часто менялись. И я ничего не имею против песни «Вышли Мы Все Из Народа». Вот только откуда вышел Сам Народ?
Попытки понять это были предприняты в повести «Тесная кожа», она у меня и на сайте, и в Сетевой Словесности, первая главка. Но и тогда я что-то упустил.
Ведь было дело, когда я видел, откуда Вышел Народ. И вышел он совершенно неожиданно, когда я маялся знойной тоской поближе к избе, где меньше жалят: караулил ребенка, нас с ним забросило к деду-бабе в самое медвежье новгородское сердце, без связи, пищи, водопровода, магазина, почты, аптеки, милиции и людей.
Было жарко, я осторожно разгуливал по пятачку в 10 на 20 метров, ибо дальше – ни-ни: заедят, сожрут, заклюют и ссильничают зоологическим скопом. Там водятся насекомые, каких я не встречал и во сне. И вот я стою в тенечке с книжкой Юнга, а из лесу – я даже не заметил, как он образовался, этот архетип – выходит Некто, и прямиком ко мне. У меня рука за косой ли потянулась, за топором – не помню. Идет на меня смертным коричневым зверем в шапочке вязаной, во рту кости перемалываются, и весь он – в божественном Облаке из тех самых оводов и шершней. Жара, но идущий – в трех тулупах, да в кирзачах, да в лаптях как будто, и пахнет от него позапрошлогодней опрелостью.
Вот откуда выходит, оказывается, народ. Чего-то он хотел от меня, да я рукой замахал, сгинуть предлагая, он и сгинул – видать, деду-бабу хотел, они таких знают и понимают.
Но я же собирался о соседях сказать. Можно теперь и про соседей. Во вполне городскую нашу коммунальную квартиру иногда приходили письма, соседке. Надписанные: Зятиковой Любы Ивановны. Родственная спаянность адресата и отправителя. И вдруг Отправитель приехал. По-моему, он тоже был из лесов, только Брянских. Отворили ему дверь, а он шагает по-тракторному обычаю, с посохом и сидором, весь в шерсти и обмотках неясных, бурый. Глядит из бровей себе в бороду и что-то быстро-быстро тараторит, с преобладанием «мля да бля». Прибыл проведать племянницу и жить у нас стал, недолго.
Усру Дерзала дни напролет расхаживал по прихожей и по надобности, для меня необъяснимой, регулярно прочищал себе нос. Распахнет дверь в сортир и, пальцем прижавши, – фырррррр! Куда Бог пошлет. И унитаза он, разумеется, не видывал вовек, устраивался прямо в сапогах, сказочной птицей. Откладывал яйца. Так что однажды моя матушка приблизилась к Зятиковой Любы Ивановны с ножом; та вздрогнула, но зря покамест, нож был вручен ей единственно с тем, чтоб ты, Люба, пошла и очистила санузел от каменных наслоений твоего дяди.
Может, кто вышел из другого народа – народа, который кричал: России – быть! или еще куда грудью вставал.
Но это снова вторично, хоть и почетно.
А все-то, все – из какого вышли?
Обыкновенный ФашизмВесь день – в какой-то тоске. И нате: получаю свежайшую историю под самое что ни на есть настроение. Обрадовался ужасно.
Случай этот произошел в походе, устроенном одной школой – нет, подымай выше, Гимназией. Она однажды была даже Гимназией Года. И всякие походы были предметами ее неумеренной гордости, они торжественно обставлялись, задолго планировались, годами вспоминались. Устраивали торжественные линейки постфактум. У нас, помню, тоже бывали какие-то походы. В октябрьскую там рощу какую-нибудь, глубоко лесную, подметать в ней листья. В сорока километрах от городской черты. Или в Петродворец. Это все не то, здесь речь идет о походах с ночевками, с кострами, с подобревшими учителями.
В описываемый раз лагерь разбили на территории воинской части, что на Ладожском Озере. Наверное, ратный дух местных традиций и навеял дальнейшее, хотя место хорошее, охраняемое.
В отряде восьмого класса был ученик с фамилией не то Юггдеев, не то Еггноев – за что купил, за то продаю, никому не хочу плющить национальные яйца. Заполз он как-то в палатку, снял штаны и наклал в обеденную миску своему товарищу. При свидетелях. А тот куда-то, как нарочно, вышел. Все, как увидели такое дело, сперва отпрянули, замахали руками, а потом бросились вон. И этот выполз следом, радостный. Вернулся хозяин миски, увидел содеянное, пришел в неописуемое бешенство. Выскочил из палатки с мискою на-отлет и заехал ею в лицо, да не тому, и пошла потеха с этой миской, благо много в нее входило.
Я, пока слушал, думал: вот едут ребята в поход. О чем они думают? Какие у них грезы, фантазии? Сходить на рыбалку, собрать грибов, посидеть у костра в обнимку, благоговейно полюбоваться закатом. Посетить краеведческий музей.
Дело дошло до директора.
Директор назвала действия участников Обыкновенным Фашизмом.
Ангел вострубилЖена дает в школе какие-то странные уроки. В учебнике французского, например, есть задание: представить, будто ангел Рафаэля прилетел в Санкт-Петербург и написал дневник о своих впечатлениях.
Один – далеко не ангел, но с пятеркой по литературе – написал. Сперва, как и велели, по-французски; потом, когда ему вставили по самые помидоры, переписал те же мысли по-русски и не понимает, к чему претензии.
Ангел прилетел в отель, съел там супчик (sic!), испытал отвращение по поводу отсутствия соли в солонке, но присутствия ее в перечнице, отверстия которой были настолько забиты грязью, что ангел представил сотни рук, хватавших эту перечницу, и так далее. Вообще, в Санкт-Петербурге ангела поразило «смешение стилей и грязи». Но больше всего его потрясла Нева. Ангел ощутил, что в каждом горожанине есть своя маленькая частица Невы.
О братоубийственных временахПолторы недели назад все обсуждали события 93 года. Мне о них, собственно говоря, вспомнить нечего.
Но я тоже не понаслышке знаю, что такое Гражданская Война. У меня есть некоторый опыт и определенное представление.
Правда, она для меня состоялась годом раньше, в 1992, когда из Москвы приехал в гости мой дядя.
Шок, вызванный недавним дефицитом напитков, начинал проходить. Уже разливали вино в полулитровые банки. И в литровые тоже, конечно. А если шок отступает, просыпаются страсти. И дядя стал наливаться яростью, ругая гаврилу, которая уже приватизировала в свой карман пол-Москвы.
Помимо ярости, он наливался тем самым крепленым вином из полубанки, и я участвовал тоже. Мы сидели в полуразрушенной беседке, в садике имени 30-летия ВЛКСМ, ныне – Екатерингофском.
– Дали бы мне автомат, – звонко хрипел дядя, – и я бы их всех… всех… очередью, от пуза…
Я в те времена, ощущая себя взрослеющим Кристофером Робином, симпатизировал Гайдару и прочим обитателям милновского леса.
– Что же, дядя, – спросил я, отхлебывая в положенную очередь. – И меня – меня тоже очередью, от пуза?
– И тебя! – горячо сказал дядя. С каждым глотком он становился все категоричнее.
Потом он бросился на какую-то расколотую строительную плиту и зарыдал. Я не сразу понял, что он почему-то вообразил в ней оскверненное надгробье с могилы генерала Скобелева. И рыдал над утраченными и поруганными ценностями.
А сама Гражданская Война была довольно скоротечной. По пути домой мы немного подрались. Я роста, скажем, среднего, так что не помню, что сделал, а дядя – тот каланча, он заехал мне в ухо.
Пропорции бунтаМне тут пришло в голову, что вечно склоняемое отечественное воровство есть тот же самый русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Только пропорции не всегда сопоставимы. И водопроводный кран роняет каплю, по которой Платон начинает судить о существовании океана.
Вспоминается вот что.
Зима. Скользко. Мне три года. Я в валенках с галошами (между прочим, я всегда предпочитал говорить «галоша», а не «калоша», так как последняя напоминает мне какое-то имя, причем оскорбительное).
Моя бабушка – толстая, неуклюжая, толстошубая, – пихает меня – такого же толстого и толстошубого в переполненный трамвай номер двенадцать. Галоша падает. Немедленно некая бабушка, не моя, бездумно бредущая куда-то мимо остановки, подбирает ее и так же молча, за неимением шеи не поворачивая головы, ковыляет дальше, то есть продолжает путь.
Моя бабушка перестала впихивать меня в трамвай. Трамвай поехал.
– Постойте! – закричала моя бабушка. – Возьмите вторую! Возьмите вторую галошу!
Незнакомая бабушка не обернулась и шла себе, куда хотела, унося галошу в руке.
Снег. Черные деревья, черные птицы, черно-красные галоши. Бессмыслица.
ФилимоновБлиз Обводного канала стоит одноэтажный сортир. Его построили со сталинским размахом, с элементами – от рифмы никуда не деться – ампира. Но строение уже много лет как забросили и заколотили за естественной ненадобностью.
Я давно говорил, проезжая мимо: сделают Бар. И сделали. Да как назвали – «Рим»! Я уже писал о старом Риме и его обитателях. Но теперь, при взгляде на бедненькие среди слоновых колонн, бесполезно веселящиеся гирлянды, от вероятных посетителей становится зябко. Прежняя аура здания не изменилась ничуть. И лепка нависает, как встарь, покрывая и благословляя стыдное дело.
В прежнем же Риме, что на Петроградской, посетители немного напоминали наивных и безобидных героев аверченковской «Шутки мецената». Среди них не было серьезных гадов. Они казались малышами из подготовительной группы.
Их звали по фамилиям, как героев Достоевского. Был такой Филимонов. Не знаю, где он учился и чем занимался – Филимонов, и все, похожий на развеселого филина. Впрочем, эпоха не та. Разве можно сравнивать проходного, достоевским офамиленного героя – какого-нибудь Лямшина, скажем, – с Филимоновым? Вроде бы, да. А на самом деле – нет, совершенно разные люди.
Никаких серьезных дел за ним, по понятиям тогдашней «системы», не было.
Помню, он пытался заинтересовать нас наркотиком: таинственно озираясь, Филимонов развернул газетный обрывок, где хранил нечто, похожее на кофейное зерно.
– Так это ж Зерно, – разочарованно протянул мой приятель, опытный наркошник.
Видимо, в природе действительно существовало такое явление, имевшее определенный, хоть и малый вес в торчащих кругах. Я в этом разбирался плохо и до сих пор не знаю, чье это было Зерно. Филимонов, однако, победоносно вертел башкой.
Приятель мой попытался проделать над этим Зерном какие-то манипуляции – не то пожевал, не то скурил в папиросе, да без толку.
В другой раз Филимонов, норовя нам угодить, предложил по-настоящему серьезное дело. Он пообещал сдать нам десять ампул промедола, для чего ему требовалось прибегнуть к целой армии могущественных посредников. Мы сделали стойку.
Через каждые двадцать минут, на протяжении пяти часов, Филимонов звонил мне с докладом о таинственных перемещениях вымышленных, как я теперь понимаю, наркокурьеров. Наконец, неустановленное слабое звено было обнаружено, арестовано и убито правоохранительным органом. Операция провалилась. Мой товарищ успел настолько разнервничаться и до того переполнился надеждами, что с горя ширнулся галоперидолом.
Однажды Филимонов вставил себе в жопу лилию, нагнулся и так сфотографировался. Фотография ходила по рукам римских дам, которые благосклонно ее рассматривали. Это последнее, что мне о нем известно. После этого акта от Филимонова не осталось даже фамилии. Она превратилась в смутно знакомую абстракцию.
Статус в пальтоПриснится же такое – даже неловко. Я, вообще-то, побаиваюсь снов, они у меня вещие бывают.
Гуляю я по окрестностям и знакомлюсь с двумя особами, с которыми, постепенно заползая в какое-то кафе, начинаю говорить о мистике. И очень выходило для них интересно, а еще – для одного типа за столом, который назвался Главным администратором по Лампе. «И по людям», – добавил. Там готовили оркестр, и виднелась какая-то Лампа. Тип просто проникся ко мне всей душой. Ну, после девицы отправились купаться в прорубь, а я заглянул в другое кафе, но спиртного не брал, хотя мне предлагали. Потом вернулся в первое, где забыл на столе кофе и хотел его выпить. Главный администратор тут как тут, крутится, навязывается в друзья. «Не трогать его кофе!» – приказывает кому-то. И говорит, что самого его зовут Статус. В этом месте я пошел побродить по помещению и наткнулся на вертящиеся стеллажики, типа книжных, сплошь утыканные маленькими кружками колбасы на палочках. Ну, я взял один, другой, жую. Вдруг баба в белом: это, мол, денег стоит, каждый кружок – восемь рублей. Выгребаю деньги, а баба превращается в Главного администратора Статуса и предлагает отрезать кусочек побольше. Я зачем-то соглашаюсь, отдаю последние деньги, беру этот кусок, возвращаюсь к столику с кофе, где тот же Статус меня уже ждет. И, откуда не возьмись, рэкетир: глядит на колбасу, которую я в папку прячу, и спрашивает хмуро, где я ее взял. «У входа, на улице», – отвечаю. Тот молча уходит. Оказалось, что там, на улице, рэкетиры запрещают торговать этой колбасой, и Статус нарушил это правило. «Быстро бежим!» – говорит мне Статус, уже одетый в черное пальто, и вылетает через черный же ход. Я мчусь по другой стороне улицы и вижу, как Статуса крутят какие-то вооруженные молодцы, приговаривая: «Сейчас мы вам устроим – тебе, как главному, достанется побольше». Ну, а я и поменьше не хочу и просыпаюсь.
До того ужаснулся, что побежал перекурить это дело.
Мои удлинителиЯ не раз поминал поразившее меня в свое время фрейдистское воззрение, по которому получается, что всякие дубинки, ножики, пистолеты, копья приобретаются с подсознательной целью удлинить свой фаллос. Особенно в детстве, но и во взрослом возрасте тоже.
Я очень хорошо помню мой первый перочинный ножик. Я выпросил его, когда мне было лет восемь. И совершенно точно помню, что ножик, действительно, не был мне нужен для каких-то инструментальных целей. Я не собирался ни строгать, ни вырезать. Дело было в другом: во всех детских книжках поминались эти чертовы ножики. Обладание ножиком было естественным делом, это был символ не фаллоса, а нормального, правильного детства. Поэтому я его выпросил.
Однако этим ножиком нельзя было ничего удлинить даже подсознательно. Он был очень маленький. В палец величиной, с коричневой ручкой-лодочкой. Лезвие и того меньше, одно название, а стоил сорок копеек.
Были и другие предметы, опровергавшие психоанализ. Если взять пистолет, то мне очень нравился один маленький, с большой рукояткой, но с коротким, почти начисто срезанным стволом.
А сабля была хоть и длинная, зато из алюминия, и гнулась через полчаса эксплуатации. Такая игрушка, поскольку я уже был осведомлен в ее свойствах, могла причинить лишь фрустрацию.
Может быть, сачок? Ну, не знаю. Помню лишь, что век сачка всегда был недолог. Марлевая сетка очень быстро приходила в негодность: ведь муху – а я ловил не бабочек, но мух, ибо что делать с бабочками? не убивать же? а отпускать неинтересно, к чему тогда ловить – итак, муху требовалось прикончить, поэтому камнем ее, ногой, прямо по сачку. И через пару дней сачок выбрасывали.
Короче говоря, сплошные вопросы.
Ножик у меня быстро отобрали. По телевизору тогда показывали какой-то странный многосерийный фильм, чуть ли не иранский, он назывался, по-моему, «Тайник у красных камней». Что-то мусульманско-шпионское. И в этом фильме субъекта по имени не то Гасан, не то Гуссейн, закололи ножом, что меня крайне впечатлило.
Мой ножик-лодочка был изъят, когда я догнал одного мальчика и нанес ему удар ножом в спину. Скорее, не нанес, а сымитировал этот удар, но поколол немного, чуть-чуть, даже следов не осталось. Все равно отобрали.
Потом были другие ножи, но их я абсолютно не помню. Все они как будто были невелики и быстро ломались. Правда – вот забавная штука! когда я прихожу в гости к моему приятелю, я неизменно беру и верчу в руках огромный охотничий нож. Вынимаю его из ножен, прицеливаюсь во что-нибудь. Приятель объяснил, что с таким удлинителем отправляются на слонов и медведей для приятственного общения.
Дружба народовРассказал один человек.
Подозрительно анекдотично, разумеется.
Мой коллега поехал с семьей в Германию, в какие-то гости.
Активно общался с очень приветливой, радушной немецкой семьей.
И сразу обнаружилось, что и язык никакая не преграда, и культуры похожи, и мысли, и чувства, и все мы братья.
– Да что там говорить! – признались в этой семье. – Вот наш дедушка: он даже был в России, и русские слова знает.
Дедушку привели на сеанс. Началась лингвистическая демонстрация: ну-ка, какие ты, дед, знаешь слова?
– Млеко, яйки.
ОднакоЧуть ли не ежедневно я вижу в сетевой ленте реплики в адрес Максима Соколова, журналиста. Как правило, уничтожающие.
Что тут скажешь – я и сам, впервые посмотрев «Однако», пробормотал: «Однако».
Очень печально, что разную пакость пишут и говорят люди, которые в общении чрезвычайно милы. Я немного знал Максима Юрьевича. Его привели к нам в дом году в 90-м, сразу с поезда. Он вошел и одарил нас огромной конфетной коробкой с «бутербродами от Лукьянова», как он выразился: приехал сразу с очередного шабаша народных депутатов. Бутерброды эти, с колбасой, были тогда вещью редкостной, а водка «Горбачев» – вообще невиданной.
Максим Юрьевич очень забавно пил. Выпив рюмку, он прислушивался к себе и объявлял: «Лампочка зажглась». Глядя на его грузную фигуру и впрямь думалось, что где-то внутри у него горит лампочка, свечей в сорок.
А 92-й год мы вообще встречали вместе. Он снова приехал, и мы скатились на санках с маленькой горки в ночном парке.
На следующий день колесили по городу в поисках левой водки. Максиму Юрьевичу пора было уезжать, и он очень волновался, что поедет пустым. Он так и сказал, когда мы ее купили: «Теперь я успокоился».
1 января, ближе к полуночи, мы стояли на Московском вокзале, возле вагона. Шел дождь, играла музыка: «Слушай, Ленинград, я тебе спою. Задушевную песню свою». Максим Юрьевич откупорил бутылку и разлил содержимое по какой-то посуде. К нам метнулся нахмуренный проводник: «А что это вы тут делаете?»
«Прощаемся», – озадаченно пожал плечами Максим Юрьевич.
Мы попрощались и больше не виделись.
Сегодня я, памятуя о тех днях, при виде его бородатого и сытого лика на телеэкране, смотрю не со злобой, но с укоризной. Как же так. Нехорошо ведь.
Университет миллионовБыла такая передача.
Зато сейчас во дворе – картина, достойная Горького.
Грибовидный бомж, живущий картонной макулатурой, бросил вязанки, пал на колено, упершись им прямо в землю, сырую от собачьей осени.
Вытянул из перевязанной пачки книгу, найденную в помойном баке. Раскрыл, листает. Зачитался. Мог бы и с государством управиться, кабы жизнь задалась. Эх!..
Но вот одумался и запил прочитанное, книжку – на место.
Ни детства, видно, ни отрочества, а сразу университеты.
Небо все дальшеЯ совершенно не представляю, как человек может брить себе голову безопасной бритвой. Если опасной – тоже не представляю. Даже топором не представляю.
Тут лицо обрабатывать – и то сплошные ловушки.
Один, помню, юный доктор по имени Владимир Ильич (с праздником, кстати) ходил с бритым черепом, и вечно был весь израненный, шрамами испещренный. К чему такие муки?
Вроде бы не буддист был, хотя черт его знает. Что-то подозрительное в глазах плескалось.
У меня вот была борода, я ее в колхозе отрастил, на втором курсе. И я себя, ее сбриваючи, буквально нашинковал. Правда, я не помню обстоятельств приезда из колхоза. Длительные лишения, испытанные Остапом, требовали немедленной компенсации. Бриться – это был перебор.
А если бы голову стал брить, то страшно подумать. К тому же, говорят, от этого теряется связь с космосом. Я ее, правда, давно потерял естественным образом и ничего не заметил, но все равно страдаю. Чувствую, как космическое сознание так и тянется ко мне, чтобы таскать за чупрун, да все напрасно. И от бесплодности своих усилий оно понемногу свирепеет. Мстительно дожидается встречи.
«Волчок»Иногда мне отчаянно не хватает песни группы «Круиз»: «Волчок».
Конечно, найти ее можно, но не нужно, ибо выйдет непостоянная речка, в которую пытаешься ступить дважды.
Я любил эту песню за ее агрессивный идиотизм, который диалектически переходил в нечто привлекательное. У меня была пластинка, и я ее заводил с утра пораньше. Соседи по «Волчку» понимали, что Леша проснулся и празднует возобновление действительности.
Я даже ходил на концерт – пожалуй, из чувства не вполне понятного долга. Прилично обсадившись, мы с товарищем презрительно и надменно взирали на радостные пьяные рыла зрителей.
К финалу возбуждение достигло предела; зал скандировал: «Волчка! Волчка!»
Поломавшись, музыканты сыграли «Волчка», ради которого, собственно, все и затевалось.
Сегодня рынок перенасыщен, уже неинтересно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































