Текст книги "Крик журавлей в тумане"
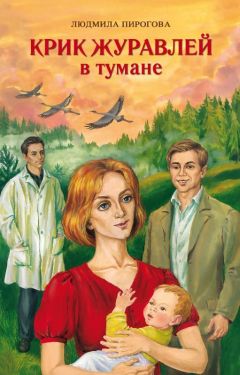
Автор книги: Людмила Пирогова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц)
– Часто кашляешь? Температура бывает? В больнице лечилась раньше?
– Кашляю часто, нигде не лечилась, про температуру не знаю. Я устала, отстаньте от меня, – безразлично отвечала Надя.
– У, какие мы сердитые, – улыбнулась врач, записывая что-то в свой журнал. – Тогда одевайся. Придется тебе полежать у нас, подлечиться надо.
В графе «диагноз» она написала: «пневмония». Потом, немного подумав, добавила: «хроническая», поставив рядом знак вопроса. Тем временем, сидевшая напротив нее Надя вдруг увидела, как врачиха начала расплываться, корчить рожи, кривляться, а потом и вовсе закружилась и полетела в длинную, узкую яму. Надя заглянула в эту яму и увидела, что глубоко, на самом ее дне, стоит красивая улыбающаяся мама. Мама улыбнулась ей и поманила дочь к себе, в глубь ямы. Надя закрыла глаза и полетела навстречу к маме.
Глава 7
Очнувшись, Надя увидела над собой белый потолок. Испуганно сжавшись под одеялом, она осмотрелась. Рядом стояло несколько кроватей, на которых лежали незнакомые женщины.
– Слава Богу, ожила, – заметила Надин взгляд соседка справа. – Сестра, девчонка наша с того света вернулась, – крикнула она громко и, обращаясь к Наде, сказала: – Теперь долго жить будешь!
Через две недели Надю из больницы выписали. В гардеробе нянечка выдала ей незнакомое кургузое пальтишко, потрепанный клетчатый платок и валенки.
– А где моя одежда? – робко спросила Надя.
– А кто ж ее знает? – пожала плечами нянечка. – Доставили тебя в палату, считай, в исподнем, окромя нижнего ничего на тебе и не было. Главный приказал одеть тебя, я и одела. Чем богаты, тем и рады. Бери, не отказывайся, одежка, хотя и не видная собой, зато чистая.
Надя молча начала одеваться.
– Вот и умница, – подбодрила ее нянечка и, порывшись в бездонном кармане своего фартука, вытащила оттуда чулки. – На вот тебе еще от меня, – протянула она их Наде, – веревочками подвяжешь. Эх, горемычные вы мои.
Выйдя из больницы, Надя сразу же побежала в свой барак. Чем ближе она подходила к нему, тем сильнее билось ее сердечко. А вдруг мама не умерла, вдруг она жива, здорова и ждет ее дома?
У дверей своей комнаты она на минутку замерла и прислушалась. До нее донесся знакомый скрип маминой кровати и чьи-то голоса.
– Мама! – радостно влетела в комнату Надя и замерла.
На маминой кровати лежал незнакомый седой старик, возле него суетилась пожилая женщина.
– Тебе чего? – недовольно спросила она, глядя на Надю.
– Извините, – прошептала Надя, – я думала…
– Ты никак жиличка бывшая, – догадалась женщина.
В ответ Надя молча кивнула головой.
– На вот тебе твои вещички, – женщина полезла в сундук, которого раньше в этой комнате не было, – и иди в управу, пусть они тебя теперь расселяют. Ты уж не серчай на нас, деточка, некогда нам, иди.
Отдав Наде тряпичный узел, она подтолкнула ее к выходу.
«Крестик! – вспомнила Надя, выйдя в коридор. – Неужели украли?»
Она развернула узел. В нем были мамины шпильки, дамская сумочка, где обнаружилась Надина метрика, несколько металлических ложек, одежда и то самое платье. В подоле Надя без труда нащупала контуры дорогой для нее вещицы. Крестик в целости и сохранности был там, куда его спрятала Надя. На душе ее сразу стало светлее.
Выйдя из чужого теперь барака, Надя столкнулась с бывшей соседкой. Увидев Надю, она бросилась ей на шею и разрыдалась, сочувствуя ее горю. Захлебываясь слезами, охая и причитая, женщина рассказала, что за матерью приезжала «катафалка», которая увезла ее на старое кладбище. Похоронили ее в дальнем углу, где отводились места для бездомных бродяг.
Надя пошла на кладбище и, бродя среди безликих бугорков, на каждый из них положила по колючему сухому сучку, в надежде не обойти безымянную мамину могилу. Заканчивался 1947 год.
Надя шла по улицам ненавистной Воркуты, совершенно не зная, что делать дальше. Вечерело. Начиналась метель. Ее никто нигде не ждал. Она остановилась около красивого трехэтажного дома. Прямо напротив нее в освещенных окнах первого этажа отражалась другая жизнь. В ней взрослые пили чай, сидя за круглыми столами под розовыми абажурами, дети писали в тетрадках красивые буквы, бабушки вязали носки, сноровисто перекидывая петли. Достопочтенные горожане, отгородившиеся от всего происходящего стенами своих квартир, ничего не знали и не хотели знать о той стране, в которой потихоньку замерзала забытая и покинутая всеми Надя. Редкие прохожие торопились домой, не замечая крохотной фигурки, прислонившейся к дереву.
В тот вечер она поняла, что такое ненависть. Ей было так плохо и одиноко, что она возненавидела мир, превративший ее в жертву. Возненавидела людей, зверей, дома, небо, убогую карликовую растительность, и даже ягоду морошку. Выбрав окно, за которым толстый вихрастый мальчишка уплетал пирог, Надя запустила в него снежком, вложив в этот бросок всю силу своей ненависти. Но силы было слишком мало, и мальчишка, не обратив внимания на легкий удар в окно, доел пирог, облизывая сладкие губы.
Зато Надин жест отчаянья заметил милиционер, охраняющий дом. Он сгреб девчонку в охапку и потащил в отделение. Оттуда Надю отправили в детский приемник-распределитель, где выяснилось, что террористка, внешне выглядевшая как ребенок, на самом деле уже вполне взрослая пятнадцатилетняя девушка, к тому же еще и образованная – семилетку почти закончила. Под конвоем ее вернули в милицию.
Начальник отделения Зотов долго листал Надины документы, думая о своем. Его отец погиб на лесосплаве, когда сыну было всего два года. Через три года на его глазах повесилась мать, заразившаяся сифилисом. В царской России он обречен был повторить нищую жизнь своих родителей, но случилась революция и советская власть вывела его в люди. Она обеспечила ему сытную жизнь в детском доме, обучила, как сына пролетария, дала путевку в НКВД.
У него была безупречная анкета и страстное желание служить верой и правдой стране рабочих и крестьян. Его усердие поощрялось, тем более что в этой стране друзья слишком часто становились врагами, которых нужно было ловить, сажать и давить, чем он с радостью и занимался. Но однажды Зотов перешел дорогу кому-то из высокого начальства и сам оказался в затруднительном положении. Выручил тесть. Старый революционер, закаленный в битвах за родимую власть, напомнил о своих заслугах нужным людям, позаботившись о том, чтобы его дочь не осталась без мужа, а внук без отца. Зотова понизили в должности и от греха подальше вместе с женой и сыном отправили из цивилизованной Тулы на край света, в убогую Воркуту.
Зотову было без разницы, где ловить врагов, но его жена, Дуня, сразу невзлюбила Север. Сначала она ждала, что их позовут обратно, и надеялась на помощь отца, но тот некстати скончался, оставив молодых без поддержки. Время шло, надежды на возвращение в Тулу оставалось все меньше. Ситуацию усугубляло то, что Зотов с перепуга утратил свою мужскую силу. Жена, обозленная этим и всеми другими обстоятельствами, каждый день устраивала скандалы, обещая заменить его на соседа.
Зотов был бы рад, если бы она и впрямь позвала соседа, но среди соседей охотников до его жены не находилось, и спасался он только тем, что усердно выполнял любые желания благоверной. В данный момент Дуня заказала ему домработницу, чтобы не отстать от жены начальника шахты, которая таковой уже обзавелась.
– Ну и что с тобой прикажешь делать? – оторвавшись от бумаг, Зотов сурово посмотрел на Надю. – Взрослая уже, пятнадцать лет. Я в твои годы на завод пошел, а ты? Какая от тебя польза нашему народу? Об этом надо думать, а не снежки по окнам кидать. Почему не работаешь?
– Не знаю, – угрюмо сказала Надя.
Зотов присмотрелся к задержанной. Щуплая, на вид не больше тринадцати лет.
«А ведь для домработницы и такая сойдет, – осенило Зотова, – платить ей не обязательно, пусть за кусок хлеба работает, вражья дочь».
– Значится, так, – суровей прежнего глянул на Надю Зотов, – идти тебе некуда, да и не имею я права отпускать тебя, не прореагировав на сигнал. За твой поступок я должон тебя по этапу отправить. Но я нынче добрый. Пойдешь ко мне в домработницы. Работа не тяжелая. Буду тебя кормить и угол для тебя отведу. Платить деньгами не буду: и так тебе повезло. Вместо того, чтобы вшей в бараке кормить, по-человечески жить будешь. И скажи спасибо за доброту мою.
– Мне бы школу закончить. Полгода осталось.
– Вона как. А больше ты ниче не хошь? – наливаясь краской, Зотов сжал кулаки.
– Хочу. Хочу паспорт получить и уехать, – набравшись смелости, выпалила Надя.
– Паспорт, – ударил кулаком об стол Зотов, – а ты, контра недобитая, выкормыш интлигенский, достойна его, паспорта нашего? Советская власть тебя учила, кормила, для чего? Для того, чтоб ты работать отказывалась, барыню из себя строила? Я уговаривать не буду. Щас быстро вместо паспорта другой документ оформлю и провожу под конвоем. На зону как преступный элемент пойдешь. Рядом с костями отца своего, врага нашего, сгниешь.
Надя вспомнила потрошителя, ворвавшегося в их московский дом в ту проклятую ночь, и заметила вдруг, что они с Зотовым очень похожи. У обоих одинаково штампованные, квадратные лица, бесцветные глаза-буравчики и огромные волосатые кулаки. Потрошитель уже прошелся бульдозером по жизни ее семьи, теперь до нее добрался Зотов. Глядя на него, Надя отчетливо поняла, что в случае отказа он действительно отправит ее в тюрьму и тогда…
– Хорошо, я согласна, – прошептала она, подумав о том, что сначала потерпит, а потом что-нибудь придумает.
Но терпеть оказалось не так-то просто. Надя раздражала хозяйку, прежде всего своей образованностью. По глубокому убеждению Дуни, прислуга не имела права быть умнее хозяев. Она поручала девушке самую грязную работу и при этом постоянно твердила, что, научившись читать и писать, Надя не перестала быть грязнулей и замухрышкой, которую она, благородная Дуня, осчастливила крышей над головой в приличном доме. Десятилетний сын Зотовых не отставал от родителей, издеваясь над Надей по-своему. Зная о том, что кормят Надю объедками с хозяйского стола, он, садясь пить чай, требовал, чтобы Надя стояла напротив него. Обсосав карамельку-ледяшку, он, протягивая ей остатки и противно улыбаясь, спрашивал:
– Хочешь?
Надя всегда отказывалась.
– Ну как знаешь, – хихикал мальчишка, – тогда иди задачи за меня решай.
Сынок у Зотовых был туповат, уроки за него делала Надя. Однажды, разозлившись на очередную выходку юнца, она отказалась ему помогать. Мальчишка назло ей выбросил на пол мусор из ведра, Надя ударила его веником. В ответ он завизжал так, будто его убивают. Влетевшая в комнату Дуня надавала Наде пощечин. Зотов устроил ей «проработку мозгов». Он кричал, топал ногами и грозил тюрьмой, но на первый раз простил, предупредив, что в другой раз выпорет ее «как сидорову козу».
Каждую ночь, лежа в своем углу на жестком топчане, Надя разрабатывала план бегства из Воркуты. И каждое утро она отодвигала эти планы на завтра, понимая, что без документов она далеко не убежит. Так прошла зима, потом весна. Наступило лето, а вместе с ним – время получать паспорт.
– Успеешь еще, – ответил на ее просьбу Зотов, – нет в тебе политической грамотности для того, чтоб мог я тебе с чистой совестью паспорт советский дать.
– Где мне взять эту грамотность, если вы меня в школу не пускаете?
– Ты меня школой не тычь, читай лучше газеты. Усваивай линию партии. Если хорошо усвоишь, пройдешь проверку на соответствие званию советского человека, получишь паспорт.
Надя старалась, читала. Однажды, оставшись в доме одна, она обложилась газетами, решив выучить линию партии наизусть. Так, чтобы Зотов понял – больше нет причины держать ее в черном теле. Она разложила на столе газеты, и увидела вдруг, что со всех страниц ей одинаково улыбается товарищ Сталин.
«Сейчас мы поразнообразим тебя», – подумала Надя, взяв в руки карандаш.
Она пририсовала одному Сталину уши, другому – трубку, третьему – бантик на шее. Увлекшись, она не заметила, как сзади к ней подошел вернувшийся домой Зотов.
– Ты… да как ты посмела… гнида болотная… На самого товарища Сталина, отца родного, руку поднять! – его затрясло от бешенства. – Я тебя предупреждал! Я слов на ветер не бросаю! Щас узнаешь, почем мое слово! – он начал расстегивать на своем животе широкий солдатский ремень. – Мало того, что ты всей моей семье нервы портишь, меня своим паспортом изводишь, ты еще и над товарищем Сталиным издеваешься.
Надя, с ужасом глядя на ремень в руках Зотова, вспомнила Гошу с его женой и закричала:
– Вы не имеете права. Я уже взрослая. Ничего я вашему Сталину не сделала, это он мне всю жизнь испортил, он моих родителей убил.
– «Моему Сталину»! Убил! Ах ты, вошь дворянская! Пригрел гадюку! Права у нее, вишь ли! Слишком много прав, как я погляжу, – озверевший Зотов, не обращая внимания на слабые Надины попытки защититься от побоев, намотал ее длинную косу на кулак и дернул вниз, перекинув через голову. Надя вздрогнула от боли и согнулась.
Зотов остановился только тогда, когда Надя почти перестала дышать. Он и сам не понял, как это произошло. Он просто выполнял свой гражданский долг – преподавал политический урок дочери врага народа. Но, видимо, настолько увлекся, что ощутил свою мужскую силу. Ощутил остро, жадно, до учащенного сердцебиения, до чертиков в глазах. И тогда ему стало все равно, кто перед ним.
Надя лежала на полу лицом вниз. Глаза ее были закрыты, и она не видела растекшейся лужи крови. Ей было больно, стыдно, обидно. Ей было так плохо, что она почти умерла. Оставалось только остановить дыхание, и она сдерживала каждый вдох, впечатывая свое тощее тельце в жесткие половицы. Однако воздух проникал в нее каким-то неподконтрольным ей образом, заставляя ее жить.
Придя в себя, Зотов растерялся: он был усердным служакой, но не насильником, и при виде растерзанной девчонки испытал нечто вроде жалости.
– Ты вот что, девка, за науку не серчай. За надсмехательство над товарищем Сталиным срок положен, а я с тобой по-отечески обошелся, – попытался оправдаться он. – Ты это. Давай, отдыхай, сколько надо. Я жене скажу, чтоб она, значит, тебя не трогала. Мол, заболела ты.
Вспомнив про жену, Зотов испугался. Если Дуня узнает, что он тут натворил, она его самого по этапу отправит. Он поднял не способную сопротивляться Надю, усадил на стул.
– Ты давай, приходи в себя, – потряс он ее за плечо, – не ровен час, жена вернется, а ты тут тетерей развалилась… Замой кровь. На полу и на юбке.
Надя сидела без движения. Зотов разозлился. С минуты на минуту могла прийти жена, все учует, и тогда ему несдобровать.
– Слышь, ты, тетеря, – заорал он в лицо Наде, – нече тут тоску изображать. Бери тряпку и прибирайся быстро. А то все по-новой…
Надя вздрогнула.
– Ожила! То-то же. Давай, вставай, убирайся. И помни – никому ни слова. На носу заруби. Ни-ко-му! Ремень вот он, всегда при мне, запорю, и никто с меня не спросит. А если спросит, найду че ответить, рисования твои представлю…
Добравшись до своего угла, Надя легла. Она не чувствовала телесной боли, потому что душевная боль терзала ее сильнее. Раньше Надя мечтала о том времени, когда она уедет из Воркуты. Там, в другом мире, она надеялась встретиться с высоким темноволосым юношей, похожим на ее отца. Он стал бы для нее защитником, она ему – верной женой. Но теперь все изгажено. Девичью надежду, веру, любовь Зотов растоптал, распяв Надю на газетах с портретами друга счастливого детства – Сталина.
Ночью, когда вся семья Зотовых дружно храпела, она ушла из их постылого дома. Унижению она предпочла смерть. Пустынные улицы Воркуты, укрытые черным бархатом ночи, встретили ее тишиной. Полярная осень, короткая, как последний вздох перед уходом в белое безмолвие, вступала в свои права. Надя шла наугад, не разбирая дороги. Из потаенного карманчика она достала крестик. Его разноцветные камни, преломляя лунный свет, мерцали загадочными бликами. На мгновение Наде показалось, что в них отражаются лица тех, кто покинул этот мир, безмерно любя ее. Воспоминания закружили ее, отдаваясь щемящей болью в груди. Далекая Москва… уютный дом… запах бабушкиных пирогов… картины на стенах… смеющийся отец у своих пейзажей… пианино… игра в четыре руки «Утро туманное, утро седое»…
Впереди предрассветными тусклыми огнями маячил вокзал. Подойдя к дверям, возле которых мама просила милостыню, Надя остановилась и посмотрела в серое небо.
«Прости меня, мама, за то, что я тоже не смогла здесь жить. Пусть нас не будет на земле, если им так уж сильно этого хочется. Обо мне никто здесь не заплачет. Зато там, на небе, я буду рядом с вами, и мы будем снова любить друг друга, и нам снова будет хорошо».
Надя зажала в кулаке крестик и решительно пошла в сторону железнодорожных путей.
«Это не страшно, не бойся, – мысленно уговаривала она себя, – всего минутку потерпеть, и все.
Мама с папой уже, наверное, ждут меня на небесах. Осталось сделать навстречу им всего только один шаг, и все мы будем вместе, навсегда. Рядом с ними я буду в безопасности, и никто никогда надо мной не надругается и не обидит».
Она остановилась на самом краю платформы и огляделась. Поезда перекликались короткими паровозными гудками. Белесый туман поглощал горьковатый вокзальный воздух, придавая запаху мазута утреннюю свежесть. Вдалеке послышалось лязганье вагонов. Надя приготовилась. В памяти вдруг всплыла бабушкина молитва.
– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, – зашептала Надя, услышав вдруг бешеное биение собственного сердца.
Поезд-товарняк затормозил у соседней платформы. Судьба играла против нее, затягивая время прощания с жизнью.
– Девушка! – какой-то человек, вынырнув из тумана, подбежал к ней. – Постерегите мои вещи, я мигом, – он бросил ей под ноги сумку и снова скрылся в тумане.
Едва он исчез, как утренняя тишина взорвалась сиреной милицейских свистков. Затем с криком: «Стой, кому говорят», – из тумана выскочили три милиционера.
Взяв сумку, они отвел Надю в привокзальное отделение милиции. Сумка оказалась краденой, и Надю задержали как воровку… К тому же не было паспорта… От такого поворота событий Надя потеряла всякий интерес к происходящему и, впав в состояние полной невменяемости, перестала разговаривать. В ее пустых глазах лишь однажды промелькнул испуг. Это произошло в тот момент, когда она увидела Зотова. Он передал следователю Надины документы, объяснив, что Воросинская уже около года находится в розыске по подозрению в покушении на жизнь большого начальника. О том, где она провела этот год, он не сказал ни слова. Следователь сложил имеющиеся у него факты Надиных преступлений, и в итоге ей, как социально-опасному элементу, «вырисовался» приговор – десять лет лагерей. Надя молча подписала все протоколы, и ее отправили в пересыльную тюрьму ждать отправки по этапу.
Глава 8
Когда охранник захлопнул за ее спиной дверь камеры, к Наде подошла толстая рыжая тетка. Взглядом навскидку оценив новоселку, она смачно выругалась, и подвела к крайнему лежаку. Наде было дурно. Ее не просто тошнило, ее буквально выворачивало наизнанку. Она прилегла. Через несколько минут в камеру ворвался охранник.
– Встать! – с порога гаркнул он. – Предупреждаю, днем лежать на кровати запрещено. В следующий раз получишь карцер.
Надя встала и прислонилась к стене. Тошнота не проходила.
– На, сглотни. – Толстая тетка сунула ей ржавый ковш с водой. – За че тя?
– Говорят, что я воровка, – прошептала Надя.
– А ты сама не знашь, кто ты?
– Не знаю. Я ничего не знаю. Ни кто я… ни зачем… ни почему.
– Дожили! Никто ничего не знат. Ни те, кого сажают, ни те, кто сажает. Сглотнула? Теперь давай ковшик-то, тоже пить хотся.
Она допила воду и, вытерев ладонью губы, сказала:
– Не хошь говорить, не говори. Я Матрена-Мотя. Из раскулаченных мы. Папаню в энти края отправили, потому как больно ретиво пахал у себя на Брянщине. Пахал-сеял, хлебов навеял. Богатеть начал, скотиной обзавелся. Коммуна не стерпела, суд устроила: не копи, сучий сын, добро, не сей, не паши, лозунги ори. Папаша не послушался, вот его товарищи и определили на отдых для подкорма комаров. Помер он, стосковался. Маманя еще раньше преставилась, Царство им Небесное. А я вот как «дочь подкулачная» мотаю срок по жизни. А ты хошь молчать, молчи. Уж больно ты мала, в чем только душа держится. Если кто обидит, мне жалься, я выручу, я малых всегда защищаю. Сердечная я така.
Матрена-Мотя пошла на свое место.
– Постойте, – окликнула ее Надя, – поговорите со мной еще, – попросила она, – а то мне страшно.
– Энто ниче, энто быват по первости, не боись, выдюжим, – подбодрила ее Мотря.
Матрена-Мотя добровольно взяла на себя роль Надиной защитницы, благодаря чему тюремный уклад стал казаться ей не очень страшным, и дни в камере пошли веселее, чем на той воле, которая была у Нади в зотовском доме.
Здесь было относительно тепло, кормили и существовало некое братство людей, баб, от которого Надя, преданная всеми, уже успела отвыкнуть.
Со временем она узнала, что у Матрены это пятая ходка. Вообще-то, выйдя в последний раз на свободу, она зареклась воровать. Ради детей. Их у нее было пятеро. Четыре сына и одна дочь. Так как на свободе времени ей не хватало, размножалась она исключительно в неволе. Там же и беременела, потому как любила настоящих мужиков, а такие, по ее глубокому убеждению, на воле, среди «краснопузых», не водились. Были, конечно, трудности и на этапе: иногда приходилось уступать всякой швали, вроде охранников, но Матрена тщательно заботилась о том, чтобы в ее чреве не оставалось их подлых последышей. А своих детей она обожала. Они воспитывались в разных детских домах Советского Союза и присылали ей оттуда письма. За тех, кто писать еще не умел, писали воспитатели, они же вкладывали в конверты фотографии симпатичных детских мордашек.
– Вот ентот, – рассказывала она товаркам по камере, показывая очередное фото, – от Гоши Питерского народился. Мы с ним на пересылке съякшались. А я особливо и не противилась. Сами понимаете, та-коой мужик! Здоровый, кудрявый, глаза веселые. Три судимости у него тогда было, и все по мокрому делу. Разве перед этаким орлом устоит кто? – смачно вопрошала она своих тюремных товарок и, не дождавшись от них ответа, удовлетворенно итожила их молчание: – Нет, конечно. И я уступила, вишь какой у нас справный малец-молодец получился, – зардевшись, Матрена кокетливо поправляла три волосины, прилепившиеся к ее узкому лбу, и продолжала дальше, вытаскивая еще один портрет: – А ентот от Санька-родимчика. Меченый он был, с пятном возле уха. Вот знатный ворюга был! Раз у важняка во время допроса конверт с казенной деньгой спер. Тот потом вешаться хотел. А Санюга ему и говорит: давай, мол, начальник облегченье мне в сроке, спасу тебя от погибели, найду кошелек. Тот пообещал, Санька, святая душа, ему кошель вернул. Ну, легавый, конечно, допер до сути и вкатил Саньке летов на всю катушку. Застрелили его, бедолагу, при попытке к бегству.
В этом месте Матрена всегда надолго умолкала, жалея дружка. Но наступал новый день и байки продолжались. По ним выходило, что вся уголовная элита оставила государству в наследство свою поросль в лице Матрениных «породистых» детей.
Иногда, в зависимости от настроения, одному и тому же ребенку она приписывала разных отцов. Особенно много претендентов на роль отца было у единственной среди Мотиных пацанов белокурой девочки с бантом, обнимавшей на фотографии большого медведя.
В данном случае в отцовстве подозревались двое: могучий авторитет Медик, заработавший свою кличку на матерых убийствах с расчлененкой, совершенных им особо изощренными способами, и обыкновенный зек Федя. Медик пленил воображение Матрены описанием своих преступлений, в которых он подробно разъяснил ей, как надо пощекотать ханурика ножичком, чтоб замочить его и после с толком для дела расчленить на составные части организм.
Федя ничего героического не совершал, но уж больно хорошо умел любиться. До того хорошо, что при воспоминании о нем у Матрены жеманно закатывались глазки и краснели щечки, висевшие на ее лице толстыми, дряблыми мешками. Матрена жалела обоих и потому хотела их наградить одной дочкой на двоих. По ее рассуждениям выходило, что она якшалась с ними в одно и то же время, так почему бы им обоим не прицепиться вместе, так сказать, единым фронтом к Матрениной половине? Бабы с ее доводами бесспорно соглашались. Действительно, почему?
Выходя в последний раз на свободу, Матрена-Мотя намеревалась поинтересоваться у знающих людей на предмет совместного отцовства, но не успела. Бес попутал. Причем два раза. Первый раз обошлось. Дядька хороший попался, хоть и соблазнительный. Потому как выставил кошелек из заднего кармана брюк, а мордой в витрину уткнулся. Разве ж уважающий себя вор пройдет мимо такой наживы? Нет, конечно. Ну, Мотя и цапнула кошелечек. Да за годы отсидки, видать, руки у нее от ювелирной работы отвыкли, а может, мужик слишком чувствительный на заднее место попался. Только че зря гадать. Раскусил он Матрену. Мертвой хваткой ей руки повязал, но в милицию не повел. Цельный час беседу ей говорил о пользе честной жизни. Матрене-Моте беседа понравилась. Она мужику в свою очередь про детей-сирот поплакалась, которые без матери маются. Мужик разжалобился, карамелек для них купил. Матрена тоже растаяла. Поклялась ему никогда больше не воровать и жить той самой честной жизнью, про которую он «ей беседовал».
На энтом они с мужиком и расстались. Он пошел к себе в честную жизнь, а она на вокзал, где барышня с кудряшками своим радикюлем порушила ее клятву. Причем Матрена была совсем не виноватая. Просто у бабы той, дуры круглой, радикюль дюже красивый был. Из крокодильей блестючей кожи, с желтенькими замочками. Потом оказалось, что в энтом радикюле только и навару, что фасон, а боле ничего. Ни цацок, ни капусты. Кудряшка та чертова своим пустым радикюлем прям в душу Матрене плюнула. На понюх и то не хватило, зато срок ей тогда богатый вкатали, по старой памяти. Менты поганые. Опять детей сиротами оставили, пусть вот теперя сами их своим государством кормят.
Надя слушала бесконечную Матренину болтовню и постепенно выходила из депрессии. В ней начал появляться интерес к той новой жизни, в которую она попала. Она привыкла к нарам и к запаху параши, научилась различать по номерам содержание статей Уголовного кодекса. Матрена-Мотя, приняв Надю под свое покровительство, посвятила ее в тайны тюремных дел, но девчонка к блатной жизни оказалась настолько негодная, что язык матерный и тот не смогла освоить. Матрена сначала злилась на бестолковость ученицы, а потом махнула рукой:
– Каждому свое. Случайный ты, Надежда, в камере человек. Не наш, не тюремный. Если уцелеешь, с воли сюда не вернешься, а потому наука наша тебе не в надобность.
Однажды, немного для виду поделикатничав, она спросила:
– Ты, девка, по возрасту уж взрослая, а что же, женских дел не имешь еще?
– Раньше было, – пролепетала покрасневшая Надя.
– Было, че ли, дело с кем?
Надя вспомнила Зотова и содрогнулась.
– Нет! – твердо ответила она, будто надеялась, что от одного только этого слова ненавистный образ Зотова исчезнет навсегда, а у нее все нормализуется.
– Э-э, нет, врешь, девка! – не поверила опытная Матрена. – Я давно к тебе приглядываюсь. Врешь. То у тебя тошноты, то бледности. Аппетиту нету, а вес вроде как животом набираешь. Не могет энто случаем быть. Сознавайся.
– Это у меня от кашля. У меня воспаление хроническое в легких. Вы же сами слышите, как я подкашливаю, – пустилась в объяснения Надя, сама не веря своим словам.
Она уже давно чувствовала, что с ней происходит неладное, но не могла понять почему.
– Меня не проведешь, мне такие дела ешшо как знакомые. Можешь и не сознаваться, я и так давно уж догадалась – носишь. Никак, снасильничал кто над тобой, и потому говорить не хочешь? – не отставала от нее Матрена.
Надя хотела в ответ возразить, но голос предательски задрожал и она заревела.
– Из энтих, из лампасников галифейных, наверняка, – догадалась Матрена. – Так?
Не в силах что-либо сказать, Надя кивнула.
– У, гады ползучие. Мало им коммунизма с партией родимой, они еще и девчонок-малолеток иметь хотят. Празднуют свои удовольствия, без стыда всякого, – выругалась Матрена. – Ты вот че, девка, не реви. Москва слезам не верит, и мы тоже. В Ужог тебе надо, нельзя тебе по этапу. Силы в тебе нету. А в Ужоге – там больница и дом младенца. Там все наши рожают. Я там тоже три раза отмечалась. Врач там душевный, Сергей Михалыч, из заключенных, политический. Сдается мне, ты того же корня, он нежных оберегает. Сам из антиллигельных.
– Интеллигентных, – улыбаясь сквозь слезы, поправила ее Надя.
– Ну, оно мне не больно надо, – отмахнулась Матрена, – счас мы тебе медосмотр организуем. Ложись, помирай.
– Чего? – удивилась Надя.
– В обморок, говорю, падай, а мы уж тут за тебя все объясним, – Матрена застучала в двери камеры.
Провожая Надю в Ужог, матерая уголовница прослезилась. Эта худенькая, слабенькая девчушка растревожила в ней материнские чувства, притупленные пожизненной разлукой с собственными детьми.
– Ну, ты, давай там, не робей, рожай как положено, – обняв припавшую к ней Надю, она неловко гладила ее по худеньким плечам. – Меня не забывай, может, даст Бог, свидимся. А по тюрьмам ты того, не приучайся, гиблое энто дело. Береги себя, – всхлипнула Матрена и, испугавшись собственной сентиментальности, отстранила Надю, нарочито грубо добавив: – Давай, будя. Михалычу привет передавай от заслуженной роженицы Советского Союза. Энто он меня так зовет. Скажи, скоро буду. Говорят, Витю Грека взяли. Вроде тут он, в наших краях кантуется. Глядишь, и сладим мы с ним еще одного гражданина для любимой нашей эСеСеСеРы.
Когда за Надей захлопнулась дверь, Матрена в бессильной злобе долбанула по железу кулаками и головным платком вытерла обильные слезы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































