Текст книги "История"
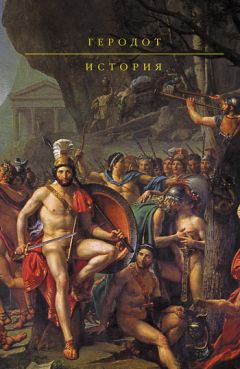
Автор книги: Геродот
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 49 (всего у книги 55 страниц)
Приложение
Не в меру строгий суд над Геродотом
Геродот не был человеком науки в обыкновенном смысле слова, но он был знаком с общими результатами, добытыми в его время исследователями природы, и умел рационально применять свои знания. Если бы он жил в наше время, то соответствующее образование наверное дало бы ему возможность справиться с теми простыми фактами, которые я представил вам, а в приложении к ним своих способов толкования он был бы столь же способен, как и мы.
Томас Гексли
Ни один древнеэллинский писатель не близок нам по содержанию своих произведений в такой степени, как Геродот. Исследователи русской старины относятся к нему как к первому по времени свидетелю о нашем юге и его обитателях, притом свидетелю вполне добросовестному и почти столь же достоверному. Извлечение исторических данных из «Истории» Геродота производится обыкновенно не каким‑либо иным путем, как возможно более точным и последовательным толкованием его текста. Если тот или другой вывод согласуется по мнению исследователя с соответствующим местом сочинения эллинского историка и не находится в противоречии с другими относящимися к тому же предмету местами «Истории», вывод признается правильным и удовлетворяющим требованию научной достоверности. Ввиду этого для русской исторической науки первостепенную важность получает вопрос, снова поднятый в новом издании «отца истории», о степени достоверности его известий, равно как и его добросовестности. Новая попытка решения старого вопроса имеет большое значение благодаря тому, что к делу привлекается английским ориенталистом Сэйсом огромный запас научных сведений о тех самых странах и народах, которые были посещены и описаны Геродотом.
Однако вопрос этот имеет значение не для одних историков России; в несравненно еще большей степени касается он историков Эллады, а также Египта, Вавилонии, Ассирии, Лидии, Финикии, Персии и др. Труд Геродота во многих отношениях представляет энциклопедию знаний древнего эллина половины V века до Р. X. и содержит в себе множество самых разнородных сведений об известном тогда мире: географических, топографических, исторических, этнографических, естественно – исторических. Поэтому к вопросу о достоверности Геродота не могут оставаться безучастными и лица, занимающиеся вопросами антропологии или первобытной этнографии. «Отец истории» доставляет не только сведения об исторических деятелях и событиях, допускающие в некоторых случаях точную или, по крайней мере, приблизительную поверку с помощью свидетельств документальных, каковы вещественные памятники и надписи, или с помощью свидетельств других историков, но в такой же мере известия другого рода: о материальном быте, о нравах и верованиях отошедших в историю народов. Раз доказана недостоверность известий историка вообще, обнаружена его тенденциозность или даже недобросовестность в подборе материала, для каждого исследователя становятся крайне обязательными осторожность в обращении с каждым отдельным его известием и строгое воздержание от выводов во всех тех случаях, когда не имеется налицо других более надежных источников, – а известий подобного рода в «Истории» Геродота множество.
Господствующий в настоящее время взгляд на сочинение древнеэллинского историка решает поставленный вопрос, говоря вообще, в его пользу; особенно взгляд этот присущ специалистам – филологам и историкам Эллады. Достаточно указать, например, на то, что в посмертном труде профессора Аландского* «История Греции» 1885 года, издание Бэра («Сочинения Геродота») признается совмещающим в себе все, что сделано для объяснения древнего историка. Между тем именно Бэр представляет наиболее характеристический пример безусловного доверия к «отцу истории» и неутомимых усилий защищать своего автора по возможности на всех пунктах. Вот как выражается Бэр в статье о Геродоте по занимающему нас вопросу: «Новейшие исследования о странах и сооружениях, описанных Геродотом и частью наблюдаемых еще в наше время, поразительным образом подтверждают достоверность и точность всех его известий, изображений и описаний, как сделанных на основании собственного осмотра. Так, например, кое‑что рассказанное и описанное Геродотом из Востока, внутренней Азии, Египта, оказывается и теперь еще точно таким же, каким видел его «отец истории». В этом отношении путешествия образованных европейцев на восток, предпринятые с начала нынешнего столетия, и вызванные ими изыскания местностей и сооружений, описанных уже Геродотом, много помогли лучшему толкованию и пониманию отдельных частей его труда и тем самым все больше и больше содействовали признанию совершенно ошибочным и несправедливым прежнего сильно распространенного воззрения на историка как писателя легковерного, часто суеверного, детски наивного, поддававшегося всякого рода обманам со стороны жрецов. И чем больше открывается для нас Восток, чем многочисленнее становятся сношения наши с ним и привлекают все большее число образованных и ученых путешественников в эту колыбель европейской культуры, тем с большим правом мы можем рассчитывать на дальнейший приговор в том же смысле. Действительно, нет ни одного почти сочинения, ни одного известия путешественника, которые не доставляли бы подтверждения какого‑нибудь показания Геродота или не помогали бы лучшему уразумению его сочинения».
Утвердившийся в науке взгляд на Геродота находится в резком противоречии с мнением, господствовавшим о нем в древности. Не успел еще «отец истории» выпустить в свет труд свой целиком, как ему пришлось отвечать на сомнения его слушателей и во второй части труда настаивать на верности своих известий (VI, 43; III, 80). Ближайший преемник его в историографии, Фукидид, зачисляет его в разряд прозаиков, преследующих не историческую истину, а минутное развлечение слушателя или читателя; вместе с тем, не называя Геродота по имени, полемизирует с ним в некоторых отдельных пунктах древней истории эллинов.
Современник Ксенофонта, придворный врач Артаксеркса Мнемона, Ктесий из Книда составляет свою ассирийско – персидскую историю, между прочим, с целью изобличить лживость Геродота в соответствующих частях его труда. В «Библиотеке» Фотия* читаем: «Ктесий рассказывает историю Кира, Камбиса, мага Дария и Ксеркса, причем везде почти расходится с Геродотом, во многом изобличает его лживость и называет сочинителем». Манефон, Гарпократион, Феопомп, Страбон, Цицерон, Лукиан, Иосиф дают мало веры показаниям «отца истории», а Псевдо – Плутарх, живший вероятно в I веке по Р. X., пишет особое рассуждение «о злопамятстве Геродота», в котором старается доказать, что ошибки его были сознательным извращением фактов. К числу «баснописцев» относил его и Аристотель. Такое мнение древности держалось и в новой Европе, особенно под влиянием рационалистического настроения XVIII века, которому ненавистны были наивность и подчас действительно грубое суеверие древнего историка. Один из выдающихся германских филологов второй половины прошлого века Рейске* говорит, что никогда не было историка, который превосходил бы Геродота в ловкости и умении обманывать читателя.
С началом археологических разысканий на Востоке происходит решительный поворот в воззрениях на Геродота. Легковерный болтун и сознательный лжец превратился в добросовестнейшего и надежнейшего свидетеля, которого следовало только верно понимать для того, чтобы с его помощью обогащать науку вполне достоверными данными. Мнение это нашло себе многообразное подтверждение и окончательную санкцию в классическом труде Дж. Роулинсона «The History of Herodotus»: «A new English version edited with copious notes and appendices, illustrating the history and geography of Herodotus, from the most recent sources of information embodying the chief results historical and ethnographical which have been obtained in the progress of cuneiform and hieroglyphical discovery»[218]218
«Новое английское издание снабжено подробными примечаниями и указателями, уточняющими исторические и географические сведения Геродота по самым современным источникам и благодаря археологическим и этнографическим данным, полученым вследствие расшифровки клинописи и иероглифического письма» (англ.).
[Закрыть]. Английский переводчик приобщил к своему переводу «отца истории» массу научных сведений, добытых к тому времени исследованием вещественных памятников, клинообразных и иероглифических надписей, каковые сведения, что видно по самому названию труда, должны были служить главным образом иллюстрацией или оправдательными документами к тексту переводимого историка.
Но историческое и археологическое изучение делало новые успехи, которые не замедлили обнаружить некоторые неточности и пробелы в первоначально добытых результатах, а вместе с сим стала умаляться и достоверность известий Геродота, не только относительно Египта или Ассирии, но в значительной мере и Эллады. Самое изучение Геродота становилось все более детальным и критическим. В результате получалось такое определение роли Геродота в истории наших знаний вообще и умственного движения древних эллинов в частности, которое больше прежнего согласовалось с общим понятием об умственном состоянии общества в эпоху древнего историка и с его личными качествами, наложившими оригинальную печать на весь его труд. Не только специальные монографии, но и общие курсы по истории Востока Дункера, Ленормана*, Масперо отмечали немалое количество неточностей и ошибок в изложении древнеэллинского историка. Даже в тех частях «Истории», которые имеют своим предметом судьбы эллинских городов, обнаружились в некоторых случаях односторонность изображения, пристрастие к отдельным личностям и государствам. Вложенные в уста действующих лиц речи оказались почти без всякого исключения сочиненными автором или заимствованными от других и рассчитанными единственно на то, чтобы высказывать и доказывать собственные теолого – моралистические воззрения на мир и человека, на его счастье и т. п. предметы, лично интересовавшие историка; или же составленными с художественной целью оживить рассказ драматическими сценами. Оказалось, что некоторые предания занесены были Геродотом в свою историю, невзирая на содержащиеся в них хронологические несообразности, только ради поучения читателя о божеском мироправлении или о превратности человеческой судьбы, другие для возвеличения подвигов эллинов за счет врагов их, персов, третьи, как например рассказ о походе Дария в Скифию, несмотря на топографическую и хронологическую невозможность, принимались историком только благодаря слабости его к грандиозному и необыкновенному и его вере в то, что «божество карает всякое уклонение от умеренности» (ср.: прекрасный мемуар Веклейна «Ьeber die Tradition der Perserkriege», 1876). В истории Египта оказались грубые ошибки в наименованиях и порядке царей. Так, например: вероятно потому только, что пирамиды Гизеха осмотрены были после сооружений Мемфиса, строители пирамид Хеопс, Хефрен и Микерин поставлены в историческом обозрении фараонов после Рамсеса III, Рампсинита по Геродоту, тогда как на самом деле первые предшествовали последнему чуть не за 3000 лет. Нарицательное имя фараона превращено в собственное, Ферон*; финикийская Астарта в Египте принята за супругу Менелая Елену; священное изображение символической коровы сочтено за гробницу дочери Микерина; неточно измерены упоминаемые пирамиды, рядом с островом Элефантиной не назван город того же имени; размеры некоторых морей, будто бы измеренных самим автором, сильно увеличены и т. д. В отделе Ассирии и Вавилонии также допущены существенные неверности и несообразности, подчас трудно согласуемые с личным посещением территории этих государств.
Все эти и некоторые другие подобного рода ошибки и неточности Геродота, отмеченные в специальных исследованиях ориенталистов и эллинистов, не могли долго оставаться неизвестными и филологам, комментаторам нашего автора; но пока только один из них, Штейн, приложил к тексту Геродота от первой до последней книги критический способ объяснения, и то далеко не вполне и не везде с одинаковой последовательностью, что объясняется, впрочем, назначением его издания преимущественно для средних учебных заведений. Штейну принадлежит важная заслуга строго критического установления текста на основании нового самостоятельного тщательного сличения и оценки относительного достоинства всех рукописей сочинения Геродота и привлечения к реальному объяснению его значительной доли добытых ориенталистами результатов. В обоих отношениях издание Штейна составляет эпоху в истории восстановления «отца истории» в настоящем свете. В подстрочных немецких примечаниях к тексту читатель находит в этом издании немало существенных поправок к известиям историка, указаний на противоречия и хронологические несообразности. Особенно выдается в этом отношении II книга Геродота, для комментариев к которой издатель воспользовался главным образом трудами египтологов Бругша и Видемана*. Общее мнение Штейна об историке выражено в следующем месте его «введения»: «Геродот столь же мало удовлетворяет требованиям строгой и достоверной истории, как и любой из его предшественников и современников, в смысле осмотрительного собирания и оценки наличного исторического материала, выбора предметов и событий на основании одинаковых, соответствующих задаче принципов, отделения в предании существенного и главного от второстепенного и случайного, точного установления времени и хронологической последовательности и даже в смысле достаточно глубокого понимания предметов и личностей, внутренней связи и побудительных причин».
Дальше и решительнее Штейна в том же направлении идет английский издатель и комментатор Геродота. Сэйс известен как хороший знаток многих восточных языков, долго путешествовавший по разным странам Востока, посещенным и описанным «отцом истории»; к тому же он знаком с новыми иностранными языками и с литературой занимающего его предмета; наконец, он – профессор сравнительного языковедения, и нам известен один из этюдов его в области древнеэллинского языка, именно гомеровского, правда, ничем особенно не выдающийся. Сэйс располагал для своего издания обильным научным материалом, собранным ориенталистами и в значительном количестве им самим проверенным на месте. Кроме общих трудов Масперо, Ленормана, Бругша, Видемана, он воспользовался и новейшими специальными исследованиями того же Масперо («Fragment d’un Commentaire sur le second livre d’Hérodote»), Ревелье («Premier extrait de la Chronique démotique de Paris: le Roi Amasis et les Mercenaires»), Брюля («Herodots Babylonische Nachrichten»), Овелака («d’Hérodote concernant certaines institutions perses»); для предметов зоологии и ботаники издатель пользовался статьями Бенеке «Die Säugethiere in Herodots Geschichte», «Die botanischen Bemerkungen» и «Die mineralogischen Bemerkungen»; комментарий Штейна также был важным пособием для Сэйса. В основу Сэйсова текста принята штейновская редакция с некоторыми, впрочем, разночтениями, впервые попадающими в текст из открытых в недавнее время ионийских надписей; эта последняя часть труда исполнена по монографиям Эрмана, Мерцдорфа* и Пелея. Однако ни критика текста, ни грамматическое исследование языка не входят в задачи издания.
Сам Сэйс так определяет мотивы, приведшие его к изданию первых трех книг «отца истории». Во – первых, настала пора собрать для публики результаты изысканий, достигнутые по настоящее время в области изучения вещественных памятников древнего цивилизованного мира. Бо́льшая часть относящегося сюда нового материала разбросана в специальных периодических изданиях, иные из которых известны едва по имени за пределами самого тесного кружка подписчиков. Во – вторых, значительная часть содержащегося в этих книгах материала извлечена автором из источников первой руки; в подстрочных примечаниях читатель Сэйса находит как материал, так и объяснения его, принадлежащие частью самому автору, частью, гораздо большей, заимствованные из специальных монографий. В пяти приложениях, следующих за текстом, помещены сжатые историко – этнографические очерки Египта, Вавилонии и Ассирии, Финикии, Лидии и Персии. Общие воззрения автора на Геродота и его сочинение изложены главным образом во введении, с которым мы и считаем нужным поближе познакомить читателя.
Упрекнуть автора в том, что, возбуждая старый вопрос, он только стряхивает пыль с дела, сданного в архив, и напрасно тревожит память «отца истории», решительно невозможно. Сэйс приступил к своей задаче во всеоружии современных знаний о странах Востока, прошлые судьбы которых до сих пор восстановляются не без участия Геродота и которые, за исключением Вавилонии и Персии, посещены самим автором. «Вопрос о достоверности Геродота, – замечает Сэйс, – может быть, разрешаем теперь на основаниях более солидных, нежели внутренняя очевидность или свидетельства классических писателей. Для решения задачи, насколько верны известия его о событиях предшествовавших и совершившихся в чужих посещенных им странах, мы располагаем достаточными средствами. К сожалению, решение этого вопроса оказывается совершенно не в пользу нашего автора». Английский издатель идет еще дальше, подвергая сомнению самую добросовестность древнего историка, уличая его в намеренном умалении заслуг предшественников и в сознательном утаивании источников. Ввиду важности свидетельских показаний Геродота для древней истории, попытка Сэйса ни в коем случае не может быть названа праздной тратой времени и эрудиции. Автор занят вопросами: 1) каким образом и с какой целью Геродот писал свою историю, 2) насколько можно признать добросовестность Геродота и 3) в какой мере известия его можно принимать за достоверные исторические свидетельства.
Поставив себе целью закрепить в памяти потомства славные деяния прошлого, больше всего борьбу между эллинами и варварами, «отец истории» не стеснялся вводить в свое изложение длинные эпизоды о странах и народах, имевших отношение к возникновению и перипетиям эллино – персидской борьбы; автор находит только странным, что историк не отвел места в своем труде такому же очерку Финикии, какие имеются у него о Египте, Лидии, Скифии и других странах. Не без влияния на изложение событий оставалось философское или, точнее, теологическое воззрение автора, состоявшее, по выражению Сэйса, в сочетании веры древнего эллина в наследственность вины и наказания с художественным эллинским чувством «золотой середины»: каково бы ни было и откуда бы ни происходило нарушение меры, за ним неизбежно следовали зависть и немесида богов. Вот почему необычайное могущество и высокомерие Ксеркса навлекли на него роковое бедствие, равно как крушение Креза случилось в тот самый момент, когда он почитал себя наиболее защищенным от всякой случайности; вот почему историк вопреки хронологическим свидетельствам приводит к лидийскому двору афинского законодателя и поэта – моралиста Солона для того, чтобы тот высказал могущественному владыке правило морали об умеренности, каковое и оправдалось вскоре на деле. Наконец, по той же причине насильственной смерти Поликрата или выступлению в поход Ксеркса предшествуют знаменательные сновидения.
Сэйс принимает господствующее мнение, что труд Геродота остался недоконченным. Да иначе и трудно думать о сочинении, в самом начале предназначенном к изложению достопамятнейших событий, преимущественно эллино – персидской распри, и в то же время обрывающимся на второстепенном событии, взятии города Сеста (478 до Р. X.), не доведенном до битвы на Эвримедонте и до Кимонова мира, заключившего собой столкновение между Азией и Европой (466 до Р. X.). Однако выводов Кирхгофа о разновременном составлении двух частей истории в связи с двукратным пребыванием автора в Афинах Сэйс не принимает. Более правдоподобное объяснение эпизодичности и других особенностей Геродотовой истории он находит в гипотезе Бауэра, согласно которой древний историк в разное время составил отдельные повествования о Лидии, Египте, Скифии, Ливии и Персии, а потом соединил их в одно целое: первую часть от начала до середины пятой книги в Фуриях, вторую в Афинах. Очерк Египта служит для автора, как и для Бауэра, достаточным свидетельством того, что подобным же образом, независимо одна от другой, составлены были Геродотом и другие части труда, равно как и ассирийская история, из которой при окончательной редакции взяты только немногие сведения о Вавилонии и Ассирии. В остальном Сэйс склоняется больше к тому предположению, что труд Геродота имел два издания, что некоторые части его были составлены или пересмотрены в южной Италии, другие написаны в Малой Азии или в Аттике, что во втором издании сделаны были некоторые добавления и возражения критикам.
Материалом для отдельных частей повествования, впоследствии сложенных в одно целое, послужили в значительной мере заметки, собранные Геродотом, на месте во время путешествий. Он обозревал хранившиеся в храмах священные предметы, записывал ответы и объяснения жрецов или проводников своих, а также тех потомков знаменитых личностей, с которыми знакомился, измерял объем сооружений или глыбы камней, привлекавших его внимание. Для подтверждения своих показаний историк ссылается на собственное наблюдение и осмотр пожертвованных и хранившихся в храмах предметов или памятников, воздвигнутых павшим в боях эллинам, на эллинские надписи, подобные псевдокадмейским надписям в Фивах, на предания и оракулы, на беседы с очевидцами событий и местностей, на слова египетских жрецов или, вернее, переводчиков, на персидских и финикийских писателей, наконец, на эллинских поэтов, историков и географов. «Однако пример кадмейских надписей, – замечает Сэйс, – показывает, что Геродот не умел различать между поддельными и подлинными надписями даже в том случае, когда имел дело с надписями эллинскими; поэтому мы должны осмотрительно принимать уверения автора в предполагаемой эпиграфической очевидности, раз нам неизвестно, каковы были самые надписи». Кроме таких памятников, Геродот, по мнению Сэйса, пользовался также официальными записями на подобие спартанского списка царей. Отсюда объясняет он противоречие в показаниях историка о времени жизни Геракла между книгами II (145), с одной стороны, и VII (204), VIII (131) – с другой: в двух последних книгах между Гераклом и Леонидом полагается промежуток времени в 20 поколений, т. е. в 660 лет, а до составления истории 710 лет; между тем во II книге тот же герой отделяется от Геродота 924 годами, потому что в этом последнем случае автор следовал другой генеалогии. Оракулы составляли часть устных преданий, из которых обильно черпал историк; впрочем, некоторые изречения оракулов, например те, что приписывались Мусею и Бакиду, были записаны; Сэйс признает также возможным, что до Геродота составлена была рукописная компиляция изречений дельфийского оракула. Что историк пользовался персидскими и финикийскими писателями, об этом он ясно говорит сам, но столь же несомненно, что как персидского, так и других восточных языков он не знал вовсе. В Малой Азии, Финикии и Египте не могло не находиться людей, которые кроме родного языка знали и язык Геродота; но обыкновенно такие лица принадлежали к низшим классам; они служили для путешественника и проводниками, и переводчиками, при помощи их он знакомился с официальными туземными документами, с персидскими и финикийскими сочинениями. Произведения родных поэтов Геродот в значительной мере знал наизусть, а цитаты из них почитались признаком хорошего воспитания, почему историк охотно и часто называет поэтов по именам.
Совсем в другом свете представляется Сэйсу отношение Геродота к предшественникам – прозаикам. «Это были его соперники, – замечает он, – место которых Геродот желал занять сам. Знакомством с именами прозаиков писатель не мог блеснуть. В этом случае главной целью автора было воспользоваться материалом предшественников, не оставляя следов заимствования. Он старался производить на читателя впечатление собственного превосходства над прежними прозаическими писателями: он хвалится тем, что принимает только слышанное от очевидцев (III, 115; IV, 16), и называет Гекатея разве тогда только, когда рассчитывает опровергнуть его или сделать смешным. Даже больше: несомненно, что Геродот образованием своим был много обязан Гекатею и что с особенным усердием и не стесняясь делал заимствования в описании Египта из сочинений писателя, которого желал затемнить. Геродот писал для общества молодого и развивающегося, а не для расслабленного и дряхлеющего, и если в древнем Египте или в первые века нашей эры вернейшим средством обеспечения успеха книге было приписать ее какому‑нибудь древнему автору, то у читающих эллинов в век Геродота путь к славе прокладывался исканием новизны и пренебрежительной критикой старых писателей. Обращение Геродота с Гекатеем заставляет нас ожидать такого же отношения его и к другим писателям, трудами которых он пользовался без упоминания имен. Ожидание это оправдывается такими местами его книги, как II (15. 17) и IV (36. 42), где осмеиваются другие авторы, писавшие о том же предмете и предполагавшиеся известными слушателям, или как упоминанием (VI, 55) составителей генеалогии, которые не сопоставляются с Геродотом и потому совсем умалчиваются». Сэйс перечисляет предшествовавших «отцу истории» прозаиков и старается уверить нас, что, кроме Гекатея, он делал заимствования из сочинений Дионисия Милетского, которому обязан будто бы самой идеей своего труда, из Евгеона, Харона, лидийца Ксанфа, произведения коих можно было находить в библиотеках различных городов, скорее всего в афинской.
Таковы были, по мнению Сэйса, источники сведений Геродота. Собирание материала должно было закончиться не позже 426 года, так как в труде историка не нашло себе места ни одно из событий, следовавших за этим термином.
Прежде чем перейти к дальнейшей аргументации критика в решении двух других задач, посмотрим, насколько состоятельно решение первого вопроса, об отношении Геродота к источникам.
Рассуждения Сэйса уже в самом начале обличают большую долю произвола и натяжек. Главный пункт обвинения, выставленный против Геродота, состоит в намеренной утайке литературных источников и в превознесении себя на счет предшественников. По поводу этого обвинения читателю необходимо припомнить, что в древней Элладе та манера обращения с источниками и литературными пособиями, за которую английский издатель столь жестоко укоряет Геродота, была обща всем писателям без исключения; отсюда происходит, между прочим, чрезвычайная трудность в точном определении источников того или другого древнего писателя и слишком относительное достоинство результатов, какие получаются новыми филологами в этой области исследования. Сознал это, впрочем, и сам критик в предисловии ко второй из названных выше книг, хотя не без оговорки, будто Геродоту черта эта свойственна была в высшей мере, нежели кому‑либо иному из его соотечественников, – оговорка и излишняя, и неверная: чтимый критиком Фукидид из числа своих предшественников называет по имени единственного писателя Гелланика, всего один только раз для того, чтобы отметить хронологическую неточность в его показаниях (I, 97), а других писателей не упоминает вовсе, хотя и полемизирует с ними. Что же должен бы ввиду этого думать Сэйс о Фукидиде?.. Решительно неправ он и в том, будто Геродот полемически или скептически относится только к прозаикам, но не к поэтам. А Гомер, этот образец для подражания эллинских поэтов? Разве «отец истории» предпочитает гомеровскому варианту легенды о похищении Елены то предание, которое он слышал от жрецов или проводников своих в Египте? Да и к «жрецам» он обратился с расспросами по этому предмету после того, как усомнился в правдоподобности гомеровского повествования. Предпочтение Гомером рассказа менее правдоподобного, даже совсем недостоверного историк объясняет требованиями художественной композиции (II, 116–120). Гомеровское представление об Океане, обтекающем кругом землю, Геродот отвергает безусловно, как не подлежащее даже оценке (II, 23; IV, 8. 36). Далее, разве Геродот принимает гомеровско – гесиодовскую теогонию и не предпочитает эллинскому изображению богов богопочитания и религиозных представлений персов (I, 131; II, 53)? Наконец, у него же мы находим и такое выражение: «если можно утверждать что‑либо на основании поэтов» (ει χρη τι τοισι εποποιοΐσι χρεωμενον λεγειν II, 120), причем в числе поэтов разумеется прежде всех Гомер; выражение Геродота тождественно по существу с мнениями Солона (Πολλά ψεύδονται αοιδοι), Фукидида (I, 10. 21) и Ксенофана о древних певцах – поэтах. Вычеркнуть все это из труда Геродота нет возможности; между тем этого рода данные показывают всю неосновательность уверений критика, желающего видеть в Геродоте только ревнивого и завистливого соперника Гекатея, Харона и прочих прозаиков. Что касается того, будто Геродот заимствовал из прозаических писателей гораздо больше, чем обыкновенно думают, то вопрос этот не может быть разрешен голословным заверением критика, не представляющего ровно никаких оснований для своих уверений.
Положим, Геродот повторяет со слов Гекатея ошибочное описание крокодила, гиппопотама и феникса (II, 68–73), не называя своего источника, но разве не так поступает Аристотель, повторяющий о крокодиле и гиппопотаме те же ошибки и так же умалчивающий об источнике? Что Геродот знал вышедшие к тому времени труды предшественников, так называемых логографов, едва ли подлежит сомнению, тем более что он сам делает ясные намеки на них (VI, 55); но степень зависимости его от литературных источников решительно не поддается определению, а дошедшие до нас отрывки этих ранних историков скорее разрешают вопрос не в пользу предположения Сэйса. Одно бесспорно: уверение критика, будто Дионисию Милетскому «отец истории» обязан самой идеей своего сочинения, лишено всякого основания. Отрывки этого прозаика весьма незначительны и малочисленны; самая подлинность многих из них подлежит сомнению. Откуда же можно добыть данные для того, чтобы установить ту зависимость Геродота от автора сочинения о Персии (taЈ Persikaў), о которой бездоказательно говорит Сэйс? Идеи, проходящие через персидские истории у Геродота, те же самые, какими одинаково проникнуты все части Геродотова труда и какие ярко выражены в трагедии Эсхила «Персы»; об идее же Дионисия Милетского нам не известно ничего.
Не понимаем при этом, каким образом английский ориенталист, столь усердно выискивающий литературные источники Геродотовой истории, пропустил самый важный, «Персы» Эсхила. Действительно, если можно с некоторым основанием говорить о зависимости Геродота от предшественников, то драма «отца трагедии» представляет наиболее ясные свидетельства таковой зависимости: та же самая основная мысль о непременной наказуемости высокомерия, многие общие черты в развитии этой мысли, почти тождество в суждениях Фемистокла у историка, с одной стороны, у вестника и Дария у драматурга (Эсхила) – с другой, общий поэтический колорит изображения исторических событий – все это сближает историка с поэтом неоспоримо и вынуждает рассматривать Геродота как выразителя воззрений той части афинского общества, которая в эпоху Перикла продолжала пребывать в миросозерцании традиционном: трагедия «Персы» поставлена была на афинской сцене, по всей вероятности, не позже 472 года, а издание Геродотовой истории относится, во всяком случае, ко времени после 428 года. По этому вопросу мы высказались в первом предисловии и здесь отмечаем только существенный пробел в аргументации Сэйса.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































