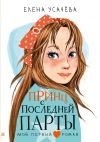Читать книгу "Лунная Ведьма, Король-Паук"

Автор книги: Марлон Джеймс
Жанр: Зарубежное фэнтези, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Восхождение ночью. «Ну вот. Теперь ты точно расстаешься со всякой мудростью», – говорит голос, похожий на ее собственный. Ночью в поисках плоти и крови по земле бродят всевозможные звери, даже в горах. Соголон испытывает и кое-что еще – страх или осторожность, она точно не уверена. Так она забирается сюда, в это место, безо всяких мыслей. Грязь есть грязь, камень есть камень, скала есть скала, ночью все на одно лицо, так что где она пристраивается на ночлег, не имеет никакого значения. Соголон просыпается чуть свет, обнаруживая, что ее плащ, лицо и земля густо припорошены белой пылью, льдистой на ощупь. Она отщипывает ее и кладет на язык. Белая водяная пыль; черпая пригоршню за пригоршней, она жадно ее поглощает. Только с розоватыми лучами рассвета вокруг проступают камни, стоячие и лежачие; они исполнены такой художественной силы, что кажутся не просто камнями. Ночью девочка внутри Соголон подумала, что они похожи на руку павшего великана. Это всё каменная кладка, ее руины по всей обозримой площади, не развалины какого-нибудь замка – их бы она признала, – а столпы колоннады, некоторые в четыре-пять раз выше ее, иные покороче; большинство наклонены, будто опускаясь в землю либо из нее поднимаясь. Все порушены непогодой, некоторые поросли мхом. Три стоят выше остальных, словно тот, кто строил это место, знал, что эта троица устоит как свидетельство тех, кто здесь жил. Три колонны вблизи друг друга, та, что короче – самая широкая, но наклонена вправо, с вершиной, осыпавшейся до неприметного бугорка. Средняя, самая высокая, выше дома в четыре этажа, с обветшалым завитком вокруг; когда-то здесь, по всей видимости, была лестница. Третья тоньше других, но с широким оголовьем, сужающимся кверху. Только к полудню взгляд начинает различать большой круглый глаз и длинную змеиную челюсть. Всюду здесь следы рисунков, линий, похожих на руны или какие-то научные символы; слова и знаки, значение которых витает в голове, но не становится ясным. Смысл, казалось, уже почти открыт, но снова схлопывается. На первой колонне значится «Дом Вельмож», на второй «Дом Королей», на третьей просто «Дом». Соголон водит пальцами по символам, нащупывая смысл, гадая, храм ли это, дворец, крепость или еще какое-то место больших собраний. А еще на этом холме беспечно растут четыре дерева с горькими плодами, которые Соголон тем не менее съедает, и даже листья, которые на вкус, пожалуй, приятней. Здесь она укладывает то немногое, что у нее есть, и отдыхает.
Что делать с ее благословением и проклятием? Носиться с бесноватым смехом, как безумная старуха, и слать свое кудахтанье ветру только затем, чтобы ветер – не ветер – возвращал его обратно? Подбежать к краю обрыва и сигануть вниз, чтобы ветер – не ветер – раздувал волосы до каждой прядки лишь затем, чтобы в пальце от земли пресечь падение, взбив облако пыли? Скакать с одного камня на другой, вскрикивая от боли в избитой заднице, и клясть ту штуковину за то, что спасла ее от смерти? А больше и делать нечего, впрочем, не важно. Соголон порхает по небу, спит в земляной прохладе и гадает, сидя на дне высохшего ручья, не от матери ли ей достался тот ветряной кокон, потому как единственный дар, показанный за всё время отцом, – это в изогнутой позе поссать себе в рот. Безумие, за которое ее винят братья, – тоже не важно; их имена она подзабыла. Сейчас здесь, новой ночью, Соголон пытается вспомнить имя хоть одного из троих, и понимает, что никогда его не знала. Слышится потрескивание огня и звук, похожий на смех, затем другой, похожий на треск ветки или коры дерева. Соголон оглядывается на ту троицу гигантских пальцев, после чего успокаивает ум, чтобы прислушаться. Огонь все потрескивает, а больше ничего.
Просыпается она глубокой ночью оттого, что огонь всё еще потрескивает. Надо бы засыпать его пылью да песком, чтоб не трещал и не будил, но лень шевелиться. Сон быстро овладевает ею, но треск будит снова. Тогда Соголон вылезает из-под плаща и кидает в огонь пару горстей песка, пока не остаются только угли. Зевок выходит большим и шумным, а когда она укладывается, тишину пронзает особенно громкий треск. Но исходит он не от огня, который сзади. Соголон оборачивается на те два дерева: между ними на нее таращатся гнойно-желтые глаза; смотрят и моргают, на мгновение исчезая в темноте. Она вскакивает, чтобы убежать, но с ног ее сбивает какая-то большая черная тварь, лапищей зажимая правую руку, другой сдавливая горло и наваливаясь сверху брюхом. Тварь рычит и мотает башкой, длинные тонкие клыки царапают Соголон грудь. Снова рык. Соголон заходится криком. Тварь разевает пасть, и лицо с грудью орошает слюна; нос обжигает жгучее дыхание. Темнота скрывает слишком многое: видны уши, заостренные как у летучей мыши, шкура и мех. Воняет потом, речным илом, землей, а еще гниющей плотью всякий раз, когда зверь рычит. В темноте какая-то возня. Он не один, их там больше. Желтые глазищи злобно светятся, вызывая содрогание. Свет глазищ высвечивает стреляющий из носа пар и округлую пасть, огромную, как луна. Слева, приближаясь, слышится еще один рев. Тот, кто ее держит, ревет в ответ. Онемевшая свободная рука Соголон лупит зверя почем зря, но он даже не реагирует. У него сейчас насущные дела: отстоять свою добычу перед сородичами. Он широко раскрывает пасть, не сводя глаз с ее шеи. Соголон протискивается к его брюху.
Зверья больше нет – разбежалось, унося с собой рыки и визги. Теперь уж не до сна; попробуй усни, когда вся эта сторона горы усеяна кусками лопнувшего зверя. Его ошметки у нее на груди ощущаются теплом на ногах, чем-то скользким на лице, железистым привкусом во рту. Соголон лежит, провожая взглядом ночь, а наутро готовит самые приемлемые куски звериного мяса, какие может найти.
Два рассвета спустя ее снова будит грохот, теперь уже другой. Соголон припадает ухом к земле: стук копыт. Конница. Она хватает все свои мелкие пожитки, но местность чересчур открыта. Соголон едва успевает юркнуть в тень между тремя колоннами.
Отсюда через укромный зазор она наблюдает и насчитывает десять всадников, а сзади подъезжают еще трое, затем пятеро, затем двое и наконец еще двое. По доспехам видно, кто они: Красное воинство Фасиси. Лучники, копейщики, меченосцы, все в кольчугах и серебристых шлемах, гладко пригнанных и с нащечниками в форме крылышек. Вскоре прибывают три колесницы, а за ними еще две. Из последней выскакивает собака ростом в половину воина, обнюхивает землю и убегает прочь. У Соголон с губ срывается неуместно громкий вздох облегчения. Воины спешиваются среди руин, и Соголон ничего не остается, кроме как успокоиться и слиться с землей в надежде, что ее замызганный плащ и грязная кожа будут приняты за саму грязь. Еще вопрос, что же они ищут? Ведь искать ее у них нет никаких причин, но они из Фасиси, на службе у Короля, а приказ перебить всех божественных мог исходить только от трона. Хотя нет, дело не в этом: приказ был убить Сестру Короля и удостовериться, что вокруг нет свидетелей, которые могли бы проболтаться, даже если их поиск займет несколько дней. С выжившими, если таковые найдутся, поступить так, чтобы их не было. Но воинов здесь хватает даже для осады небольшой крепости, то есть слишком уж много для простого рытья в останках. Один из воинов присаживается и ковыряет грязь своим кинжалом. Несколько человек рассредоточились, но в большинстве стоят неподвижно, озирая небо и горы, словно видят такое впервые.
А у Соголон сзади появляется собака – точнее, спереди, если к ней обернуться лицом. Серая, с белой грудью и носом, и лохматая, как ковер, навернутый вокруг, в самом деле здоровенная, почти как дворцовые львы. Стоит и смотрит, наклонив голову, и будто слышит людские мысли; стоит так тихо, что закрадывается мысль о возможном дружелюбии. Но вот она начинает рычать, низко и злобно; сначала тихо, затем громче, обнажая зубы, как бы уже решив, во что их вгонит в первую очередь. Соголон замирает как вкопанная, боясь, что любое движение заставит пса наброситься. Псина снова рычит, а затем берется лаять и придвигается; в последний момент его оттаскивает солдат.
– Что-то ты на кошку не похожа, – ухмыляется он и хватает Соголон за руку в тот самый момент, как она собирается задать стрекача. Солдат притягивает ее к себе, а она норовит ударить его по щеке, но попадает в закраину шлема и стонет от боли. Солдат на это качает головой и говорит:
– Внутри эти новые шлемы звонки, как колокол. А ты, девчонка, небось вывихнула себе палец.
Он тащит Соголон за собой, но та упирается и с руганью пытается лягнуть ногой.
– Сейчас я могу перерезать тебе горло, либо сломать руку, либо оставить в целости. Что тебе милее? Выбирай скорей.
Соголон, чуть успокоившись, расслабляет руку, которая всё еще в его хватке. Вместе они проходят мимо рассредоточенных солдат, мимо четверых, что разбивают бивак, и наконец подходят туда, где на восход солнца смотрят трое всадников. У этих шлемы фасонистые, золоченые; явно маршалы или начальники, имеющие власть над подчиненными. Двое из них оборачиваются; одного она впервые видит в красных доспехах.
– Ке…
Не успевшее вылететь слово она удерживает в горле, даже непонятно зачем. Может, потому, что даже здесь могут находиться придворные уши, а значит, лучше помалкивать, чтобы не выдать своих знакомств. Между тем Кеме начальственно прочищает горло.
– Солдат, это не лев и не кобра. Кого ты сюда притащил? – спрашивает он.
– Обнаружил за обелиском, господин военачальник. Она там пряталась.
– Обелиски здесь повсюду.
– Вон за теми тремя, господин военачальник.
– Одну?
– Пока вроде да, господин военачальник.
– Маршал, – обращается Кеме к всаднику рядом с собой. – Здесь рядом с Мантой не обитает речных племен?
– Для этого как минимум нужна река.
– Тогда откуда взялась эта девчонка?
– Она могла…
– Там все мертвы, и все в белом. А эта, я вижу, одета во что попало.
Соголон есть что сказать, но даже сейчас он не бросает ей ни слова, а взгляд на ней задерживает не дольше, чем на мухе. Да, их последняя встреча ничем хорошим не увенчалась, но ведь он оставил ей свой подарок. Зачем притворяться, что он ее не знает? Наверное, здесь какая-то игра.
– Маршал, по виду она будто не знает, когда в следующий раз поест, – замечает один из сидящих рядом с Кеме.
– Маршал, мы братья и по званию и по мыслям. У нас и самих еды в обрез. Солдат! Прикончить ее, – бросает Кеме.
– Что? Нет! Кеме!
Солдат снова хватает ее за руку, но Соголон упирается. Кеме уже почти отвернулся, но тут снова оборачивается к ней.
– Что ты сейчас сказала?
– Ничего.
– Разве ты только что не произнесла «Кеме»?
– Нет, я …
– Мне изменяет ухо или тебе изменяет рот?
Он спешивается, подходит к ней и хватает за подбородок.
– Откуда ты знаешь мое имя? – спрашивает он строго.
– Я… я не знаю.
– Ты только что его назвала.
– Я в самом деле…
– Его тебе только что нашептали боги случая?
– Я не…
– Свое «не» оставь при себе. Скоро познакомишься с этим вот клинком.
– Его произнес один из ваших людей.
– У меня нет людей, которые бы так обращались ко мне, даже вот этот, – он указывает на другого маршала.
– Да брось ты, маршал. Отсюда и до Калиндара половину сукиных сынов кличут Кеме. Так что брось выламываться, будто ты особенный, – смеется второй маршал. Из начальственной тройки он один сидит верхом почти голый, если не считать маршальского шлема. Остальные расположились ниже по каменистому склону. – Кроме того, когда Кваш Моки кому-то благоволит, об этом узнаёт всё королевство. Твое имя идет впереди тебя, что ж в этом плохого?
Кеме выпускает ее подбородок, но хмурость не сходит с его лба.
– Дайте ей хлеба. Судя по бедному деревцу вон там, с едой у нее совсем туго, – говорит он под общий хохот.
Имя звучит как проклятие, и хорошо, что оно слетает с ее языка только шепотом:
– Аеси.
Но оно по-прежнему имеет вес, и даже произнесенное вполголоса вызывает слабость в ногах. Соголон падает, и двое солдат кидаются ее поднимать. Она не противится. Один отрывает кусок лепешки, зачерпывает немного чечевицы и протягивает ей. Еда ей от них не нужна, не нужно вообще ничего, но пищу она проглатывает в три жевка, отчего один из солдат кричит, что крокодил свою молодь и то не лопает так быстро. Смех бивака заставляет ее устыдиться, но она сидит на грязи, мысленно выпрашивая еще хоть кусочек. Потрескивание костра возвращает ее ко всем знакомым кухням. Это убаюкивает, и она теряет ход времени; вздрагивает только тогда, когда чувствует на себе взгляд Кеме. Он пристально за ней наблюдает.
– Ты вот это ищешь? – спрашивает он, помахивая ее кинжалом. Тем самым, что выглядит как простая палочка. – Гениальная вещь. А что будет, если я приставлю его к твоему горлу?
Соголон не отвечает. Кеме бросает ей кинжал и отмечает, как она его ловит.
– Даже не глядя, – усмехается он. – Или это игра светотени? Готов поклясться, что нож сам нашел твою руку, а не рука нашла нож.
– У ночи много уловок, – говорит Соголон.
– Метко сказано. Эта поговорка из мест, откуда ты родом?
– Да нет.
– Откуда ты взялась? Что вообще здесь делала?
– Ты спрашиваешь, куда я иду?
– Я спросил не только это.
– Мы с реки Убангта.
– На Убангте никаких племен не живет.
– Я и не говорила, что мы племя. Просто семья.
– Убангта к востоку от этой тропы, но ты-то идешь с запада?
– Разве я сказала, что иду оттуда?
– Ты не сказала вообще ничего.
Соголон втайне лелеет надежду, что это выяснение и перебранка потихоньку пробудят его память.
– Говори, девочка.
– Я… я надеялась, что меня там примут. Монахини Манты.
– «Божественное сестринство», тебя?
– А что я, черт возьми, не годна? – говорит она более запальчиво, чем намеревалась, и его брови вновь сходятся у переносицы.
– Для кого это было, для матери или отца?
– Да.
Кеме смеется:
– В Манту, девочка, просто так не едут и тем более не приглашаются.
– Тогда зачем идешь ты?
– Меня не спрашивай. Я же не монахиня.
Так, решено! Этот Кеме ей тоже ненавистен, хотя улыбка та же самая. Та же проклятущая улыбка, сияющая из той же проклятущей бороды, обнимающей всё тот же твердый подбородок того же распроклятого лица.
– Твой отец, должно быть, тебя лупасил? Или твоя мать?
При дворе Соголон кое-чему научилась. Расскажи о себе немного, но достаточно, и о тебе сложат историю на свой лад. Поэтому на слова Кеме она просто кивает.
– Наверное, ты из тех неугомонных, кому нужна такая жесткая рука.
У Соголон гнев пузырится под кожей, но она успокаивает себя долгим вздохом.
– И вот ты убегаешь в то место, где бабы любят кнуты еще больше, чем твоя мать или отец. Так ты бежишь, чтобы избавиться от него?
– Я бегу избавиться от мужчины, за которого он хочет выдать меня замуж.
– Ты еще отвязнее, чем я думал. Зачем девице бегать от брака? Ты хоть подумала о страданиях, которые ты этим причиняешь своим родителям? Неужели девчонка в рубище не знает, для чего она нужна? Наверное, приданое? Оно было для них неподъемным?
– Что-то многовато вопросов.
– Чтоб лучше знать. Потому что тех, кто мне не открывается, я убиваю.
– Даже девушку-беглянку? – спрашивает она, на что Кеме отвечает улыбкой. – Ты уже приказывал меня убить, – напоминает Соголон.
– Да, именно так. Разведчик увидел в направлении Манты дым, и мы ехали сюда четыре дня, а днем ранее увидели, что могло быть источником дыма. Ты знаешь, о чем я говорю?
– Нет.
– Как тебя звать?
– Чибунду.
– В следующий раз, Чибунду, думай как следует, где говорить правду, а где ложь, ради своей же шеи. От этого каравана не осталось ничего, во всяком случае, что оставили после себя гиены. И вот ты, единственная живая душа, которую мы находим за многие дни, бредешь как раз с того места.
– Ну и что? Я ничего не видела.
– Только одна дорога, девочка. Независимо от того, куда ты от нее сворачивала, судя по твоим синякам. Но и тут каждая тропа ведет обратно к дороге. Так устроено для того, чтобы женщины, подавшиеся в монахини, не заблудились и не околели в пути.
– Не видела я ничего.
– А что это за кровь на твоем плаще? И почему он оборван чуть не вполовину?
– Я ту бучу не вызывала.
– Я не говорю, что ты вызывала, а только сказал, что ее видел. Мне даже не нужно ничего расспрашивать. Расскажи, как всё было на самом деле. Например, почему ты там оказалась и что с тобой случилось?
– Ехала с торговцами. И тут они.
– Были они. А что ты?
– А что я. Я рабыня торговца, а не торговец.
– И почему ты не сказала этого раньше?
– Рабыней я больше не буду.
– Ах вон оно что. Теперь понятно, какое бы лихо на них ни обрушилось, тебе только на руку. Ну и что же там произошло? Мы нашли колеса повозок, но без повозок, конскую и воловью упряжь, но без коней и волов, женские пальцы в перстнях, но без женщины. Разведчик мне сказал, что ездит по этой дороге два раза в год, иной раз и три, но не помнит там ни одного озерного дна без озера, да еще такого идеального, будто кто из богов присел половинкой своего зада. Насчет этого тебе нечего сказать?
– Я… я… Просто отключилась. Что уж там стряслось. Ничего не помню, кроме того, что поднялся крик, а потом я пришла в себя.
– И ты теперь единственная выжившая. Какой благословенный сон! Я знаю, что это такое.
– Правда?
– Какой-то милосердный бог забрал твою память. Чем еще это можно объяснить? И кто хотел бы помнить об этом? Всё, что ты помнишь, – это что ты чья-то рабыня. Но могу тебя успокоить, по законам Фасиси ни один человек не может быть порабощен дважды.
– Сангомины.
– Что?
– Помню, как мой хозяин прокричал: «Сангомины!»
– А зачем сангоминам нападать на каких-то торговцев?
– Как зачем? Потому что они злые и убивают для забавы.
Кеме заливисто смеется, настолько выводя Соголон из себя, что она зажмуривается.
– Сангома дает нам мути[27]27
Мути – целебная практика, сродни традиционной африканской медицине.
[Закрыть], глупая. И по€ля, чтобы связывать нас с духами, и зверя, чтобы давать нам храбрость львов. Именно благодаря учению Сангомы в нас нет изъянов или болезней, и даже целостность рассудка зависит от него. Среди нас каждый воин носит мути на лице, груди или руке. По секрету скажу: некоторые даже натирают им член. То, что ты сейчас говоришь, сродни богохульству, или же тебя околдовали ведьмы.
– Среди нас ведьм не было.
– А всех ли ведьм ты учитываешь? Как насчет тех, что наполовину женщины, наполовину змеи? А те, что омываются кровью мертвых? Или те, что живут под землей? Ведьм вокруг нас столько, сколько камней на берегу.
– Я никаких ведьм не видела.
– Ну так и они не видели тебя, иначе б ты была бренчащим костями трупом. А куда направлялся твой хозяин?
– Ты ведь сам сказал, что эта дорога ведет только в одну сторону.
– В Манту, что ли? С каких это пор монахини занимаются торговлей?
– Спроси об этом торговца. Рабыне не дано знать, что у хозяина на уме.
– Самой тебе ума, я вижу, не занимать. На рабыню ты похожа менее всего. Завтра мы отбываем. Кое-кому из наших не по себе так долго ночевать рядом с мертвыми королями.
– Мертвыми королями?
– Как долго ты уже здесь обретаешься?
– Несколько дней.
– Это кое-что. И ты хочешь сказать, что тебя ничего не затронуло? Так и осталась непорочной?
«Фи, такие вопросы задавать женщине», – думает Соголон укоризненно, но вслух не произносит.
– Да, – отвечает она.
Про ночного зверя она не упоминает.
– Странновато для такого места. Это город мертвых, девочка, некрополь королей. Здесь погребены умершие монархи и принцы, жившие еще задолго до династии Акумов. Короли-великаны, жившие тысячу лет назад, когда у леопардов еще были бивни, а у слонов пятна, когда человек был выше того вон дерева. Оглянись назад, – он указывает на те три столпа, между которых она пряталась. – Средний – Камак Злой, правый – Барка Добрый.
– А третий?
– Это неведомо даже старикам.
– Маршал, перестань искать себе вторую жену, – слышится голос с ленцой.
Голый маршал подошел и стоит. Вероятно, он думает, что поддел Кеме, но на самом деле он осек Соголон, которая сейчас собиралась спросить, что Кеме понимает под словом «раб»; не потому, что ее волнует его ответ – катись в пропасть и он, и все его идолы, – а чтобы отхлестать его за мнение, что рабы-де сплошь глупы или невежественны, а не пленники злого рока, или вражьей победы, или невольничьего ярма деспотов вроде его Короля, а то и самого Кеме, который может раба купить.
– Даже ты годишься лучше, чем кто-то, пахнущий звериной кожей, – говорит он.
Соголон оглядывается в поисках, кому направлены эти слова, но, кроме нее и Кеме, здесь никого нет. А этот ей хоть и знаком, но она не знает его по имени.
– Маршал, на каждом человеке хоть где-то да есть кусок звериной кожи. Взять хотя бы ремешок на твоем шлеме.
– Он не она, – бросает тот, уходя.
– С маршалом надо обходительней, – говорит ей Кеме. – Как бы ты себя чувствовала, если б он носил на себе кожу твоей матери?
Смысл до Соголон не доходит, пока маршал вновь не появляется в поле зрения. Не доходя до костра, он припадает на колени, затем на землю, а встает уже как лев. Ее сердце делает кульбит – ведь это может быть Берему или тот другой лев, с которым она подружилась, но в человечьем обличье она его не признает, а тот другой оборотнем явно не был. Оба вызывают в памяти одну и ту же картину. Львы в Красном воинстве… Значит, Кваш Моки всё же нашел им применение. Но это придворные дела, и Соголон теперь досадует на себя за то, что думает о королевских премудростях, как будто имеет к ним какое-то отношение. «Смена политики» – какой странный речевой оборот; использовать такой она уж и не чаяла. Да его, пожалуй, и произнести-то некому. «Встань пораньше, девочка, постарайся, – звучит в голове голос, похожий на ее собственный. – Проснись и покинь это место до всех. Никто и не хватится, если ты уйдешь. Встань рано».
Холодный всплеск воды в лицо, и Соголон просыпается. Потрясенная и размытая, она не видела, кто плеснул воду. Между тем люди вокруг плещут водой на огонь и торопливо собираются в путь. Впереди Кеме и маршалы уже на лошадях, готовые к отъезду.
– Ты на лошади, привязанной к коню маршала, – сообщает ей Кеме.
– Я иду в Манту.
– Ты едешь в Фасиси.
– Нет, я не собираюсь обра…
– Не собираешься куда? Нас послали для сбора сведений, и ты – то самое, что мы нашли. Начальство требует от нас показаний. Вот ты, как свидетель, их и дашь, – говорит он.
– Никакой я не свидетель.
– Можешь указать и это, если захочешь. А мы уже выезжаем.
– А если я не хочу?
– Чего ты хочешь, мне на самом деле без разницы, всё равно ты едешь с нами. Свободной или в цепях – это уже на твой выбор. Определяйся.