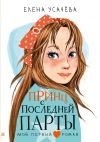Читать книгу "Лунная Ведьма, Король-Паук"

Автор книги: Марлон Джеймс
Жанр: Зарубежное фэнтези, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Йетунде такого не приносила никогда, – говорит мне этот человек. В мою комнату он входит с таким видом, будто вернулся с войны или с какого-то завоевания, о котором мне не подобает знать. Шлем он снимает, но кольчуга и поножи всё так же на нем, показывая, что, откуда бы он ни пришел, ему скоро обратно, так что даже не суетись.
– Ты заходишь в мою комнату, и это первое, что ты говоришь?
– Из тебя вышло это.
– Это ты занес их туда.
Я всё еще на полу, в ярости от того, что этот мужлан несет мне после того, как заставил меня вот так корчиться враскоряку.
– Как…
– Даже не смей этого говорить.
– Я хотел сказать, как так получилось, что моя собственная жена никогда… а ты…
– Что ты мелешь? По-твоему, я наставляла тебе рога с каким-то кошаком?
– Да нет, что ты! Конечно, нет. Это, наверное, так, проскочило, – говорит он, но так, будто говорит не со мной.
Тогда говорю я:
– Ты как будто говоришь самому себе.
– Так и есть.
Он берет на руки одного из детенышей, мех у которого глинисто-белый, с пятнышками почти как у леопарда. Малыш блаженно урчит от прикосновения своего папочки – во всяком случае, его подобия. Длина детеныша, от носа до хвоста, как от локтя Кеме до большого пальца.
– Возможно, у тебя есть какой-то враг, который наслал на меня порчу, – говорю я.
– Вряд ли, – отвечает он, помогая детенышу взобраться себе на плечо и там его поглаживая, а затем роняя себе на руку. Затем он подносит детеныша прямо ко рту и облизывает ему голову и лапки. Я жду, когда Кеме заговорит, потому что внезапно лишаюсь дара речи.
– Ты не… Ты не мог… Как… Что?
– Я сказал, «наверное, проскочило». То есть минуло целое поколение после того, как у Йетунде никогда не было такого приплода. Отец мой никаких признаков не выказывал, а вот дедушка мог меняться. А двоюродный дед так и вовсе был заправским львом.
– Что ты имеешь в виду? Что они могут превращаться в мальчика и девочку?
– Они уже мальчик и девочка, – говорит он мне резко и категорично. – Не смей называть нас зверями.
– Нас?
– А кого ж еще, – говорит он, с улыбкой укладывая детеныша себе на голову, где тот начинает копаться в его волосах. «Он», а не «оно».
– Никогда не видела, чтобы ты обращался в нечто. Ни рева, ни рыка, даже когда ты играл с Берему. Ты даже и мясо не очень-то любишь.
Кеме смеется, явно надеясь, что его смех согреет меня. Это видно по его глазам.
– Ни один лев при дворе никогда не становился генералом. Все они – игрушки Короля, даже Берему. Нам внушают, что, дескать, к нам не испытывают предвзятости, что мы не ниже их достоинством. Но что-то я не видел ни одного оборотня, который бы возглавлял войско, или давал советы Королю, или решал тактику войны.
– Войны сейчас нет.
– Ты знаешь, о чем я. Это повелось с той поры, как стая гиен напала на своих собственных людей, примерно сто лет назад. Однако я не собираюсь становиться ни дворцовой игрушкой, ни армейским берсерком.
– Но тот оборотень, что ездил с тобой все эти годы, был маршалом?
– Разведчиком – и больше для моей потехи, чем для службы. К тому же он с нами больше не ездит. Ты разве не слышала, что я тебе всю дорогу говорю? Туда, куда бы я хотел попасть, будучи собой, мне путь заказан.
– Ну так иди куда-нибудь еще.
– Эх, простая твоя голова с простыми ответами.
Он одаривает меня невинной улыбкой, но задевает за живое и видит, что я это знаю. Во мне вспыхивает такое раздражение, что впервые за день я силюсь встать, но подгибаются колени. Кеме бросается меня схватить, и так резко, что детеныш сваливается у него с головы и попадает ко мне.
– Куда засобиралась? – сердито спрашивает он, обхватив меня за талию. – Ты еще слишком слаба.
Я в самом деле хочу установить между нами дистанцию, только колени не слушаются. Он помогает мне опуститься на ковер, да с такой нежностью, что даже удивительно. Снаружи Йетунде по-прежнему общается с повитухой, которая всё так же не издает ни звука. Судачат наверняка обо мне; как я всё пытаюсь, но так и не могу стать достойной женщиной, выйти на передний план, хотя у меня таких мыслей сроду не бывало. Я знаю, что до появления этих детей Йетунде пеклась о том, как ей не потерять расположение мужа, но теперь, когда двое из них родились зверенышами, она по-прежнему правящая женщина в доме. Не важно, сколько раз я ей говорила, что не думаю быть здесь главной – эта мысль никогда не задерживалась в ее голове; мысль, что женщина может мечтать или стремиться к чему-то другому. Я стараюсь быть заботливой матерью и не думать о донге.
– И ты думаешь, никто не знает?
– Львы знают. Может быть. Не исключено. Я не спрашивал.
– Они знают. Как ты можешь думать, что им это неизвестно сейчас? Лично я узнала бы женщину даже в темноте.
– Прекрасно. Раз ты говоришь, значит, они знают.
– Я говорю не об этом. А о…
– Прекратим этот разговор, Соголон.
– Иначе ты что, зарычишь?
В глазах Кеме мелькает ярость, но затем он разражается хохотом. Забавно, что это в самом деле так.
Он нагибается ко мне:
– Это было давным-давно, еще в те времена, когда Кваш Кагар послал войско подавить восстание в Пурпурном Городе. Генерал распорядился взять озеро Аббар ночью, на лодках, плыть в них на восток и штурмовать город. Взять, стало быть, с тыла. Берему был единственным, кто сказал, что течение озера извечно толкает лодки к западу, и нас там раскроют еще за день, ибо что такое Пурпурный Город, как не один большой маяк? Он даже рассказал генералу о пещерах, что проходят под озером. Знаешь, что он услышал в ответ? «Единственный звук, нужный мне от берсерка, – это рев». И пять сотен солдат оказались убиты еще до того, как достигли суши, потому что никто не захотел прислушаться к советам долбаного котяры. Его даже посадили за непослушание, потому что он не переставал порыкивать по этому поводу. Ты знаешь, каково это, когда к тебе никогда не прислушиваются?
На это у меня есть что сказать. Ох есть! Прямо сейчас.
– Нет, эта участь не для меня, ты слышишь? Я отказываюсь от нее. Я, стоящий в этой форме.
Я смеюсь.
– Что? Что опять?
– Ты называешь это «формой». Форма, неотличимая от любой другой. Кто я такая указывать тебе, кто такой ты?
– А ты знаешь, каково это – быть мной? Никогда не задумываться о своем дыхании, но постоянно думать о том, как одеваться, что говорить? Это я, одетый в человеческую кожу. При этом я должен смирять, успокаивать свою собственную шкуру!
– А с обликом льва такое тоже происходит?
– Нет.
– Постоянно донимает стыд?
– Это не стыд, женщина. Я знаю…
– Знаешь что?
– Еще раз говорю: прекратим этот разговор.
– Не забывай, у тебя их еще три, – говорю я, и он перепрыгивает к другим сверткам, в то время как детеныш снова находит мою грудь. Заглядывая внутрь каждого свертка, Кеме с широкой улыбкой оглядывает своих новых детишек. Я вижу это впервые, но чувство такое, что многие женщины видели это и раньше меня – этот огонек в глазах и красноречивую, владетельную усмешку: «Вот, это от меня».
– Глянь на его волоски. Хоть он даже и не лев.
– Пока не лев, – говорю я себе.
Он сейчас баюкает всех троих, успокаивая первую девочку, когда та начинает плакать, – я уже узнаю ее голос. На лице Кеме я вижу новое выражение, которого прежде никогда не видела и для которого не могу найти слов. Что-то вроде покорности; или нет, того сладкого блаженства, после того как он брызгает семя; хотя нет, и не это – скорее облегчение или удовлетворенность, хотя я не знаю, как она выглядит. Или, может, это взгляд, свойственный только отцам при созерцании предмета их гордости – слово вырывается невольно, как будто я уже приняла всё это. Кеме склабится и ухмыляется, воркует и издает звуки, в которых я не без удивления узнаю мурчание котяры.
«Я не узнаю этого человека. Кто он, этот новый, впервые пришедший домой за три года?» – спрашивает голос, звучащий как мой. Вот она истина. Если вглядеться, то с другими своими детьми он действительно ведет себя как лев. Когда в настроении – может поиграть; говорит им, по каким улицам не ходить, каких людей сторониться; выпрыгивает на защиту, когда во двор заползает змея, но по большей части их даже не видит.
– Покажи мне его, – говорю я.
– Мальчика или девочку?
– Да не ребенка. Себя. Того, которого ты прячешь.
До Кеме доходит не сразу.
– Прямо здесь?
– Ты жмешься как девушка перед парнем.
– Если б ты хоть что-то в этом смыслила!
– Не артачься, а дай своим детям увидеть тебя таким, какой ты есть.
– Чего на меня смотреть: я вот он.
– Таким ты хочешь, чтобы тебя видели люди. Это две разные вещи и сущности.
– Девочка, говорю тебе, я не меняюсь ради…
– Это не армия, а я не твой начальник. Дети должны увидеть своего отца, пусть даже всего один раз.
Он смотрит на меня потерянно, как проигравший в схватке, и опускает детей на землю. Я сижу, ничего особенно не ожидая, но тем не менее начеку. Внезапно Кеме хватается за живот и мучительно скручивается; все происходит так быстро, что я беспокойно вздрагиваю: как бы он не упал, изойдя на рвоту. Прерывисто кашляя, он дергается как в конвульсиях, затем пьяно покачивается, кренится и тяжко припадает на одно колено, ко мне спиной. В этой позе он снова вздрагивает и исторгает утробный стон, медленный и мучительный, как смерть. Я пытаюсь встать, но Кеме сердитым взмахом велит оставаться на месте. Тот странный припадок накатывает на него волнами, примерно как на меня сегодня утром. Слышится тяжелое натужное пыхтение, словно он вытесняет нечто, давящее изнутри. Я уже жалею, что пристала к нему со своей просьбой. За все три года я не замечала на нем ни одной шерстинки – то есть если он когда-нибудь и менял облик, то невесть когда. «Неправда, – говорит мне голос. – Он менялся каждый день, с той самой поры, как вы с ним встретились».
Кеме, каким я его вижу каждый день, – это беспрестанная изменчивость; форма, которая никак не может устояться. Сейчас он сбрасывает кольчугу и стаскивает тунику с такой силой, что та трещит по швам. Сначала я вижу, как в длину и вширь раздаются ягодицы, как будто под его кожей течет вода, заполняя бедра и ноги, накачивая мышцы и сухожилия. Затем книзу от поясницы начинает прорастать шерсть, образуя сзади хвост; все это под вой и утробное рычание. Голова разбухает копной волос, светлее и прямее, чем его собственные, – дикое запущенное поле, становящееся все более густым и косматым. Уже не волосы, а грива; струясь по спине, она сращивается с шерстью на бедрах, в то время как кожа становится темно-золотистой, а спина расширяется будто капюшон кобры. Кеме оборачивается ко мне: его шея сделалась мощной как таран, а уши округлыми, с меховой опушкой. Чернота зрачков расплывается во весь глаз, лоб устремляется к лицу, нос ширится книзу, и Кеме сердито фыркает ноздрями. Над ртом пробиваются жесткие усы, а снизу курчавится золотистая бородка. Мелкий животик, образовавшийся после трех лет опеки двоих женщин, вновь стиральная доска. Он пробует встать, хотя изменение еще не довершено; при вставании шерсть на груди отливает золотистым огнем, переходит на живот и топорщится над членом. Вдвое крупнее, чем раньше, красотой он превосходит всех, кого я когда-либо видела; с таким не сравнятся ни женщины, ни мужчины, ни сами звери. Своим видом он распаляет меня как раньше – еще до того, как впервые меня позабыл.
– Какой ты большой, – отмечаю я, глядя ему при этом между ног. Мне кажется, что передо мной стоит Берему, только без голоса.
– Это обман за счет волос, – отвечает он густым голосом.
– Женщину таким обманом не проведешь, – говорю я.
Он высится передо мной, грозный и вместе с тем застенчивый. Дважды он оглядывается, но в этой комнате окон нет. Кеме чешет грудь, но рука там и остается; похоже, он не уверен, куда ее девать и что делать с самим собой.
– Но в полноценного льва ты так и не превратился.
– Я и есть такой. Настоящий лев.
– Ты знаешь, о чем я.
– Есть люди, которые ни день ни ночь, а некоторые…
– А некоторые – отправная или конечная точка пути. Но есть люди-странствия, и они между ними.
– Ишь ты. Мне бы такое и в голову не пришло. То, на что ты смотришь, – для меня единственный способ быть себе не в тягость. Я и так всё время держу себя в узде.
Что ж, это можно понять. Многие не могут придерживаться или позволять себе середины, потому что это слишком накладно, но вслух я этого не говорю. Корень невзгод человека-зверя в этом самом «или», но сейчас я Кеме откровенно любуюсь. Волосы и хвост превращают его ягодицы в игривую приманку. Вот бы сблизиться с Йетунде и вызнать у нее все эти женские штучки; например, как так получается, что я лежу здесь, растерзанная этим мужчиной, но при этом жажду одного: чтобы он прямо сейчас на меня набросился и сделал всё это снова. Чтобы навалился, тиснул, обнюхал меня всю, как добычу, и вылизал от пят до самой макушки. Кажется, я вот-вот прошепчу, что природная дырочка у женщины не одна, а значит и ей может найтись применение для такого царственного жезла.
Эта мысль вызывает у меня безудержный смех, а затем я болезненно морщусь от того, что дала волю своей дурости. Ведь прекрасно известно: с этим телом ничего не будет происходить по крайней мере еще шесть лун, если не больше. Ничего, кроме как спать, плакать, оставаться живой и выдаивать молоко четверым сосункам, не ведающим ничего, кроме голода. В первую луну эти существа причиняют мне такую боль, что я чуть не кричу о козьем молоке. Это правда: роды вымотали меня донельзя. Хвала богам, что мои сосунки по недомыслию не знают: иногда я устаю настолько, что всерьез подумываю, кормить мне их или отложить. А боль от тела, теряющегося, в какой форме ему существовать дальше, дает чувствовать: о соитиях глупо даже думать. Золотой лев, стоящий в дверном проеме, заставляет меня почти забыть, что день-то был великий; но никто не удивлен моему выживанию в нем так, как я сама.
– Я как-то позабыл, что эта ночь принадлежит целиком тебе, – говорит он.
– Впереди их еще много. Могу этим добром и поделиться.
– В таком виде на меня не налезает никакая одежда.
– Бычья шкура сидела бы неплохо. А кроме того, где ты видел льва в одежде? Позови сюда детей.
– Чтобы они увидели меня таким?
– Они мелкие, но шустрые. Судя по тому, как они цапаются, огрызаются и резвятся, их ты, вероятно, наследием тоже не обделил.
Он поворачивается к двери, всё еще неуверенно. И ноги его не вполне слушаются. Он всё еще подросток, однажды решивший, что единственный способ показать себя – это спрятаться.
– Кеме.
– Клянусь богами, женщина, подожди, – буркает он. Даже в его несдержанности есть что-то львиное. – Дети! – кричит Кеме.
– Нет, не так. Позови как следует.
Он снова оборачивается ко мне, а я улыбаюсь в надежде, что это сотрет с его лица сомнение. И тогда он, подняв голову, издает победный рык.
Четырнадцать
Я вижу Аеси. Уже во второй раз.
Первый был в День Наноси, старейшего из старейшин самого коренного народа Севера, который до сих пор обитает на сухих равнинах между Фасиси и Луала-Луалой. Кваш Кагар распорядился, чтобы те, кто первым колол камни для строительства Севера, имели один день, когда они выходят на улицы и снова завоевывают город – само собой, ритуально, в танцах и под барабаны. Даже если б они заточили свои затупленные копья, поменяли церемониальные мечи на настоящие, а струны с кор поставили обратно на луки, королевству от них всё равно не было бы никакой пользы. На каком-то изломе эпохи, за три или четыре династии до Акумов, наноси покинули город, который построили, и вернулись на сухие равнины, чтобы там охотиться, заниматься собирательством и бегать с ориксами[30]30
Орикс – вид саблерогих антилоп, обитающий в Восточной и Южной Африке.
[Закрыть].
– По сей день никто не знает почему, – говорит Кеме со вздохом. В его голосе слышно удивление, а во вздохе зависть.
Вместе с толпой мы ждем выхода Наноси. С нами Кеме выглядит собой, но всё равно принимает облик солдата, когда направляется в королевскую ограду или за ним приходят его люди. С того первого дня в моем присутствии я запрещаю ему быть кем-то, помимо себя самого; то же самое и наши с ним детишки – в последний раз, когда он объявился в человечьем обличье, они подняли крик. Даже старшие дети хватают его за любую шерстинку, какая только попадется, и визжат, когда он рычит и притворяется, что сейчас загрызет. Иногда он с ними даже здоровается по-львиному, потираясь шеей о шею. У моего лохматенького сына, звать которого Лурум, волосы теперь цвета пшеницы, а один из детенышей, названный Эхеде, говорит всего по слову, реже по два; оба за два года не изменились никак, зато очень выросли, а уж льва-двухлетку малышом назвать сложно. Глаза у Лурума из темно-карих становятся коричнево-желтыми, и он перестает скрывать, что вместо ногтей у него растут когти. У детей друг к другу есть та милая слепота, когда им всё равно, кто из них как выглядит, даже если грубоватые игры со львами приводят к царапинам на всех местах или обиженному реву, если кого-то бесцеремонно дергают за хвост, или к плачу и жалобам, что любимец одного ребенка покусился на еду другого. Я начинаю задумываться, получится ли кого-нибудь из них отдать в учение, ведь кто возьмется учить ребенка, который может убить тебя вприкуску? Дом продолжает жить как жил, за одним, впрочем, исключением.
– Это с твоей руки он разгуливает в таком виде? – спрашивает меня однажды Йетунде, спустя почти год после рождения детей. Меня это озадачивает: кроме как помолоть зерно или забить на ужин курицу, она больше ни с чем ко мне не обращается. Что ей ответить, я не знаю.
– Молчание знак согласия, или как там говорят, – едко замечает она.
Вообще так говорят только мужчины, способные вбивать свои слова в женщин, но она здесь как-никак первая жена, а я непонятно кто. Однажды она делает взбучку Луруму, а когда я ей говорю: «Не кричи на моего мальчика», она идет и жалуется Кеме, что я, мол, обозвала ее «кислятиной». Два раза она кричит на детенышей, чтобы они убирали свои поганые шкуры прочь с кухни: «Нечего здесь гадить по всему полу! И кто только из родителей в вас эту пакость вселил?» С той самой ночи Кеме начинает ходить таким, какой он есть, и даже докладывается на службу, где, по его словам, с ним после этого кое-кто перестает здороваться, зато начинают другие; третьи же спрашивают, можно ли ему по-прежнему пить масуку[31]31
Масуку – сорт пива.
[Закрыть].
Жалоб и слухов о нем никто не распускает.
– Мои глаза, нос и уши стали лишь острее, – шутит он.
Однако прогулки по городу в львином обличье становятся еще одним барьером, который приходится преодолеть. Я ему говорю, что по Тахе, например, свободно разгуливают леопарды, хотя все знают, как они безнравственны и своенравны.
– Я не могу отвлечься от мысли, что я голый, – признается Кеме.
– А ты будь как лев, – наставляю я.
– В смысле, перестать об этом думать?
– Именно.
Он смотрит на меня с легким осуждением – дескать, «только тебе по нраву такой разврат». Но я вижу, как он приосанивается, ловя свое отражение внизу щита.
– Львы одежду не носят. Значит, ты и не раздеваешься, – шепчу я Кеме, и это действует на него ободряюще. В голову приходит столько вопросов, что я не решаюсь их задать – например, как ему быть с яйцами; от этого безумно тянет рассмеяться. «Теперь они пушистей, чем были», – скабрезничает голос в голове, и Кеме слегка настораживается, когда я хихикаю.
– Ну, чьего соизволения ты ждешь? – желчно спрашиваю я.
– Соизволения? Оно мне не нужно. Я же лев.
– Вот и будь им.
Когда он наконец выходит на улицу в качестве самого себя, где-то там к нему удивленно подскакивает Берему. Полулев и лев влюбленно бросаются друг на друга, трутся головами, шеями и боками, после чего дружно убегают, переполошив всю улицу. И дом продолжает жить как жил, с одной, впрочем, оговоркой.
– Вот и ищи себе девку, готовую пороться со зверьем, – слышу я однажды ночью, негромко, но с явной целью дослать эти слова по назначению. В ту ночь Кеме со мной не возлежит, но приходит после – и хочется сказать, что да, я теперь пускаю его к себе только в этом виде. Бедняжка Йетунде, должно быть, думает, что в облике льва он ее растерзает. А он, наоборот, становится только нежнее, облизывает каждую твою штучку. Однажды ночью он, сам того не заметив, вошел ко мне языком и сделал так, что я всю подушку оросила слезами. Это действительно правда, я никак не могу насытиться им таким: его короной волос, мягко сияющих в свете лампы, усами на моей шее, жарким дыханием, будящим мою кожу в прохладную ночь, диким полем на его груди, двумя пригорками на заднице и пучком хвоста между ними, который я ласково тереблю, подглядывая снизу и видя в полутьме, как его жезл входит и выходит, поднимается и погружается. Пожалуй, он нежен даже слишком: мне хочется, чтобы, извергая в меня жар своего семени, он неистово рычал, а он этого никогда не делает.
А Йетунде всё находит причины пылить из-за чего угодно.
– Хотите сырого мяса? Идите жрите у своей матери! – кричит она моим котятам, когда они отодвигают от себя вареную баранину, хотя, по правде говоря, никто из детей, даже ее собственных, вареное мясо недолюбливает, и не потому, что Йетунде плохо готовит. Она из тех женщин, которые никогда не скажут слова в лицо взрослой сопернице, и вместо этого она отыгрывается на детях в расчете, что посыл дойдет до меня. Как-то раз Лурум, который теперь уже разговаривает, спрашивает меня, как его зовут. Я отвечаю:
– Конечно же, Лурум, дурашка!
– А Лурум – это от кого?
Я спрашиваю, что он имеет в виду.
– Госпожа Йетунде говорит, что нам нельзя носить фамилию нашего отца. Тогда куда нам ее девать, а, мам?
– Пускай сама куда хочет, туда и девает, – отвечаю я с улыбкой. – Впредь, если кто-нибудь тебя спросит, отвечай, что ты Лурум из рода Аду, как и твой отец, и слушай меня. Всё, что хочешь знать о себе, спрашивай у своей мамы.
Он, кивнув, убегает, и вопрос им уже позабыт. Меня же охватывает такая ярость, что в чувство я прихожу только у порога комнаты Йетунде, где вспоминаю, что она как-никак первая жена, а я нет. И я оставляю ее на милость ее собственным каверзам, зато уж ночью, жахаясь с Кеме, ору так, что Матиша, моя младшенькая, начинает плакать и кричать, что у мамы в комнате плохая собачка.
А это значит, что наверняка настанет день, когда эта женщина начнет так вонять злобой, что весь дом решит держаться от нее подальше, включая ее собственных детей. Сначала мне кажется: «Какая удача, что именно сегодня на всех улицах праздник и зрелища!» Но уже перед выходом понимаю, что рано радовалась: Йетунде, чувствуя повсюду радость и веселье, решает всё обгадить и испортить, и сейчас злорадно выслеживает улыбки как добычу, чтобы их обгадить.
– Ну что, дети, идем смотреть огромную птицу-носорога? – спрашивает Кеме, и все вокруг кричат и подпрыгивают, чуть не сбивая друг друга с ног.
Итак, Наноси. Этот самый день, когда они отвоевывают себе Фасиси, является еще и днем Доро – обрядом посвящения, проводимым раз в семь лет для их мальчиков и мужчин. Едва я это слышу, улыбка сходит с моего лица – как меня за все годы утомили эти церемонии только для мальчиков! Но когда я говорю это Кеме, мои слова уходят словно в песок. На него снова находит тот вид, уловимый даже в его гордой львиной морде, зеве и медвяных глазах. Что-то в этих наноси будит в нем тоску то ли по их обычаям, то ли по образу жизни.
Тем временем толпа раздается до сотен и сотен, всё нарастая мужчинами и женщинами, зверями и оборотнями, предками в форме дыма и призраками в виде пыли, не считая сущностей, коих иначе, чем чудищами, и не назовешь. Людское скопище тянется по обе стороны этой улицы Углико; здесь кто не на улице, тот на деревьях, на террасах или на крышах; большинство с детьми и стариками, еще пытающимися глядеть выцветшими глазами, что там в мире. Но царствует над всем этим одно место, устланное коврами, под балдахином красного, белого и золотого цветов, где посредине большое кресло, ожидающее Короля. «С таким Королем не знаешь, чего и ожидать», – сказал как-то Кеме. Улица вокруг так и вибрирует от болтовни, но вдруг как по мановению смолкает.
– Теперь это уже не улица, – шепотом поясняет Кеме. – Это священный лес, когда-то самое святое место в королевстве, прежде чем оно им стало.
Лурум сидит у него на плечах, а двое львят держатся между ним и мной. Матиша прикорнула у меня на плече, а дети Йетунде смирно стоят впереди нас после того, как я их предупредила: отойдут – получат. От священного леса в виде улицы нас отделяет всего один ряд. Кеме вполголоса рассказывает:
– Идя по священному лесу, ты скоро увидишь детей, которые станут отроками, отроков, которые станут юношами, и юношей, которые станут мужчинами. Так через них возрождается путь Вселенной. Сначала ты увидишь ньяру – мальчиков от семи лет. После них идут нигого – от двунадесяти до десяти с восьмью; ты их узнаешь по виду. Затем будут коморо – последние перед теми, кто наконец становится йолого.
– Йолого?
– Мужская стадия. Каждый мальчик проходит через три обряда. Йолого – заключительный.
Неплохо, если б и для меня это значило столько же, сколько для него, но меня раздражает то, что в каждом королевстве предусмотрены церемонии для одних только мальчиков. Они для этого не отличились ни на войне, ни на охоте, так что выглядит всё это не более чем бахвальство своим хером. Однако Кеме взирает на ритуал не менее восторженно, чем, наверное, военачальник Олу взирал бы на звездный дождь. Грохочущая музыка заглушает, и Кеме перестает шептать, а на улице появляются музыканты, бьющие в мелкие барабаны для ритма и в большие для объема. Сразу за ними шагают мальчики, некоторые младше, чем малец у Йетунде, а большинство старше и выше, но всем до мужчин еще далеко. Все идут голышом, за исключением бело-красных пятен на груди и позвякивающих браслетов на правой щиколотке. У каждого за спиной шагают еще шестеро, и только когда они все проходят, я замечаю, что они двигались слаженно и смотрели в одном направлении, несмотря на быстрый темп. Тут до меня доходит, как же их много и что прямо за пределами Фасиси живет народ, который от Фасиси в сущности откололся, и не только местом обитания, но и своим образом жизни.
– Ты смотришь? – спрашивает Кеме, и мне хочется навесить ему пинка.
Следующую часть процессии снова предваряет гром барабанов, и появляются они – отроки постарше; в том возрасте, когда мои братья почитали себя за мужчин. Я непроизвольно вспыхиваю гневом, но быстро спохватываюсь, что вымещаю свои чувства на мальчиках, которых никогда даже не видела. Кеме настолько взволнован, что трижды постукивает меня по плечу. На отроках струистые желтые туники с черными полосками, а на головах причудливые уборы в виде птицы-носорога, только в три раза крупнее и сделанные из каури, бисера и золоченого дерева, хотя клювы спереди от настоящих птиц. Каждый из уборов украшен хвостом, спускающимся ниже колена. Кеме что-то нашептывает о том, как великая птица была первым помощником у человека, но мое внимание привлекает нечто – то ли проблеск, то ли отсвет, который исчезает прежде, чем я успеваю что-либо разглядеть.
Следующими проходят юноши, которым вот-вот предстоит стать мужчинами, но теперь меня привлекает движение в толпе, а не на улице, потому что, несмотря на скандирование, все остаются на своих местах. А толпа – это то, за кого я принимаю людей по другую сторону улицы, потому что они там продолжают движение, несмотря на то что ряды ликующего люда стоят на месте. Я следую за ними взглядом, и, прежде чем успеваю это осознать, мои ноги тоже сдвигаются с места. Мы все движемся под один и тот же ритм, который задают отроки с птицами на головах. Я скольжу сквозь толпу, а с другой стороны движется королевская свита, которую я узнаю по цветам. Вся придворная знать в текучих белых одеяниях, а по бокам от нее солдаты Зеленой гвардии, готовые в любую секунду обнажить мечи. Все вельможи в цветах двора, кроме одного, который в черно-красном. Он держится в середине, остановившись с кем-то перемолвиться, и продолжает говорить, пока остальные не замедляют шаг, чтобы он оставался впереди. Взрыв ликования означает, что с крыши народу машет Король; значит, понизу продвигается не он.
Аеси.
Я уверена, что вижу его впервые, но голос, звучащий, как мой собственный, вспоминает ночную Таху три или два года назад; Баганду три, а может, две четверти луны назад; волнистые движения мантии, похожие на взмахи крыльев, из времени, которое я не могу уяснить. Это продолжается, он возникает чуть ли не в моем поле зрения. Мое сердце тревожно замирает, но тут гомонящая толпа заслоняет его от меня. Я спотыкаюсь о чью-то ногу и чуть не падаю, но не оборачиваюсь, даже когда мне вслед чертыхается мужской голос. Мы продвинулись уже далеко за королевскую крышу.
– Куда это он? – слетает с моих губ словно шепот, на который он притормаживает так чутко, будто меня слышит. Я останавливаюсь, опускаю голову и шаркаю за мужчиной, беспечно охватившим лапищей плечо своей спутницы. Аеси не дает понять, зачем он приостановился, и не смотрит на меня, но я удивлена самим тем, что он так поступил. Это, в свою очередь, не дает излишне углубиться в то, зачем я за ним следую. То есть я знаю, но как бы вскользь, без уверенности. Я ищу в своем сердце ярость, а нахожу лишь припоминание о ней – то же самое и насчет мести, желания пустить кровь. Я не могу вызвать в себе этой жажды, а лишь припоминание о том, что она у меня когда-то была. Это ушло, но не так, как при вычищении Аеси памяти некоторых людей. Внутри себя я нагнетаю поиск ярости, но обнаруживаю, что мои потуги напрасны. Между тем Аеси вновь трогается с места, вместе с ним и свита, а с ней и вся толпа, в которой затесалась я. Я иду и слышу слово «стыд», хотя его никто не произносит. Если во мне больше нет ярости, то есть стыд из-за того, что у меня ее нет, что пробуждает ярость из-за того, что он у меня есть.
Он смотрит на меня сквозь людскую толщу, прямиком на меня. Хотя нет – всего лишь в мою сторону, но уже от одного этого меня сковывает страх. Голову я держу опущенной, но бросаю взгляд на него, по-прежнему высматривающего меня. Люд впереди тесно сгрудился, крича хвалу за здравие Королю, который сейчас говорит или делает что-то, чего я не вижу и не слышу. Но Аеси смотрит сюда; смотрит с напряженной пристальностью, зная, что должен что-то узреть, но не видит. Понятно, что именно подстегивает его к этому действию: он способен считывать умы людей; видеть то, что они утаивают, и уже проникся ощущением своего всемогущества. И вдруг на улице, где все окна привычно распахнуты, он вдруг замечает, что одно из них заперто. Голос во мне шепчет: «Одумайся, девочка! При тебе нет даже ножа! А если бы и был, ты уже на много лет вперед привязана к детям, и все твои движения неуклюжи». Пригнув плечи, я наблюдаю за ним сквозь просветы в толпе. Свита Аеси пришипилась, выжидая, когда он нащупает точку своего внимания. Тут по толпе прокатывается рокот, в котором я улавливаю лишь концовку: «Слон-бык, слон-бык».