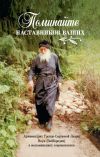Текст книги "Вацлав Нижинский. Новатор и любовник"
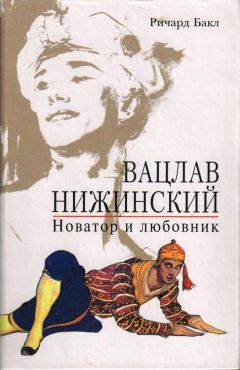
Автор книги: Ричард Бакл
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 40 страниц)
Костюмы Головина отличались такой же роскошью, и их блеск сливался с декорацией.
«От придворной челяди Кощея получилось впечатление чего-то роскошного и нарядного, но вовсе не страшного и не «мерзкого»… И вот, пока хореографические затеи Фокина исполнялись артистами на репетициях, они представлялись фантастическими и жуткими, на сцене же все как-то заволокла неуместная, слишком элегантная пышность: кикиморы выглядели средневековыми пажами, белибошки – турецкими янычарами. Да и сам Кощей, несмотря на пугающий грим и жесты исполнителя, не казался страшным… Такому Кощею Иван-царевич не плюнул бы в лицо из одного отвращения, как это полагалось в сказке».
Дягилев счел костюмы, созданные Головиным для Жар-птицы, Царевича и Царевны, неудовлетворительными, Бакст сделал для них новые эскизы.
У Стравинского, взволнованного тем, что он оказался в Париже, были некоторые сомнения по поводу своей партитуры и того, как Фокин интерпретирует ее на сцене. Дирижировал Габриель Пьерне, а композитор присутствовал в темном зале Оперы во время восьми оркестровых репетиций. Однажды Пьерне пригласил его на свое место перед музыкантами. Композитор написал в одном месте партитуры «без крещендо», и Пьерне заметил: «Молодой человек, если вы не хотите крещендо, тогда не пишите ничего».
Наконец настал знаменательный день 25 июня, когда в театре в первый раз был показан балет Стравинского и Западная Европа впервые услышала его музыку. Композитор навсегда запомнит соперничающий друг с другом яркий блеск сцены и публики зрительного зала.
Увертюра, исполняемая перед поднятием занавеса, готовит зрителей к восприятию сцены. Это древний ужас ночного леса, жилище злых сил. Это болото Гренделя в «Беовульфе»:
И где их жилище —
люди не знают;
по волчьим скалам,
по обветренным кручам,
в тумане болотном
их путь неведом,
и там, где стремнина
гремит в утесах,
поток подземный,
и там, где, излившись,
он топь образует
на низких землях;
сплетает корни
заиндевелая
темная чаща
над теми трясинами,
где по ночам
объявляется чудо —
огни болотные;
и даже мудрому
тот путь заказан[156]156
Перевод В. Тихомирова.
[Закрыть].
Погруженный в это ужасное одиночество, спит дворец зла, но мы слышим поступь отвратительных стражей Кощея. Когда поднимается занавес, слышится огненная тема Жар-птицы, и мы видим, как светящаяся птица проносится по затемненной сцене. На Карсавиной не балетная пачка, а прозрачные восточные шаровары голубовато-зеленого цвета, струящиеся драпировки, в волосы вплетены золотистые ленты, головной убор украшен драгоценными камнями и яркими страусовыми и фазаньими перьями. Фрагмент народной мелодии, представляющей Ивана, звучит словно мимоходом, когда мы видим, как его голова появляется над забором, и понимаем, что он пытается подкрасться к ней. На Фокине средневековый костюм русского царевича, расшитый золотом и драгоценными камнями, и шапка с загнутыми полями. Жар-птица резвится в саду, подлетает к дереву с золотыми яблоками и начинает их клевать. Ее музыка – нечеловеческая, напоминающая фейерверк. Иван опускает лук, решив поймать ее живьем. И ловит. Большие темные глаза Карсавиной с ужасом смотрят на него через плечо. Она трепещет, бьется в его руках. Ее танец-мольба выражается па-д’аксьон. Он держит ее за талию, а она то испуганно прижимает руки к груди, то раскидывает их, словно бьющиеся крылья, то обхватывает ими голову. Хотя она танцует на пальцах и все ее движения чрезвычайно сложны с точки зрения техники – со множеством жете, здесь нет традиционных па классического балета, таких, как антраша, батман, препарасьон. Ее мольбы напоминают мольбу Шехеразады. Иван чувствует жалость (он же христианский принц), и это в конце концов станет его спасением, так как Жар-птица подарит ему волшебное перо. Он отпускает ее, и она, ликуя, стремительно улетает.
Иван остается один и смотрит вверх, по-видимому на сверкающий след птицы, оставленный ею над верхушкой дерева у него над головой. Тема царевича, тема простого честного человека, контрастирует со скрытой угрозой, звучащей в зловещей хроматической теме Кощея, исполняемой на трех фаготах. Вниз по склону из замка Кощея спускаются царевны, босые, в белых вышитых ночных сорочках, лунный свет падает на их длинные волосы. Тринадцатая царевна, Ненаглядная Краса, партию которой исполняет Вера Фокина, одета в самую роскошную сорочку. Под музыку искрящегося скерцо они танцуют и перебрасываются золотыми яблоками. Иван приветствует их и с поклоном представляется. Царевна с достоинством отвечает на его приветствие. Все объединяются в медленном величественном хороводе. Короткий диалог двух флейт в каноне приводит к старой народной новгородской песне «Во саду», исполняемой кантабиле[157]157
Певуче (ит.).
[Закрыть] на гобое, затем кларнет и фагот, потом звучит еще одна народная мелодия, более быстрая, исполняемая на струнных, в конце танца Царевич с Царевной оказываются лицом к лицу и мы видим, что они полюбили друг друга. За сценой трубы возвещают зарю. Царевны испуганно убегают. Ненаглядная Краса с тоской оглядывается назад. Иван-царевич, охваченный безрассудной храбростью, решает без посторонней помощи атаковать замок.
Когда он наносит удары в его ворота, раздается неземной перезвон, который начинают арфы и челесты на фоне хроматического звучания скрипок суль понтичелло[158]158
Игра у подставки на смычковых музыкальных инструментах (ит.).
[Закрыть]. Деревянные и медные духовые инструменты и фортепиано присоединяются в той музыкальной части, которая ведет к кульминации, исполняемой фортиссимо, а тромбоны ведут главную тему дьявольского танца в каноне. Никогда прежде в стенах Оперы не раздавались столь невероятные звуки. На сцену карабкаются кикиморы и белибошки чудовищного Кощеева двора. Иван сражается, но его берут в плен. Шесть зловещих тактов исполняются на всех басовых инструментах оркестра (фаготах, контрафаготах, рожках, тромбонах, тубе, контрабасах) и ведут к пронзительным аккордам стаккато, сопровождающим появление усатого, бледного как смерть, скрюченного Кощея, кости которого проступают сквозь желтоватую кожу, плечи подняты, словно горбы; с длинными когтями на тощих, как у скелета, руках. Следует музыкальный диалог между героем и злодеем. Кощей свирепствует, принцессы тщетно умоляют его о милости; с громкими хроматическими гаммами в обоих направлениях, чередующимся с пьяниссимо тремоландо[159]159
Очень тихо, тремолируя (ит.).
[Закрыть] на струнных, злодей начинает заклинание, которое должно превратить Ивана в камень. Звенящие глиссандо на арфе и рожке сочетаются с дикими высокими звуками деревянных духовых инструментов, заканчиваясь сильным грохотом. Прежде чем заклинание повторится в третий раз, Иван взмахнул волшебным пером и с шумом крыльев появляется Жар-птица. Она заставляет чудищ танцевать без перерыва. Английские рожки и скрипки тихо начинают беспокойную кружащуюся мелодию. К ним присоединяются духовые инструменты и звучат до тех пор, пока обезумевшая свита Кощея не пускается в свой дьявольский пляс. Тихий dies irae [160]160
День гнева (лат.).
[Закрыть] чередуется с неровными фразами духовых. Обрывки восточной мелодии слышны у скрипок. В танце смерти присоединяются ксилофон и деревянные духовые. Тихо играет флейта, но передышка коротка. Безжалостно возвращается dies irae. Медные фанфары подводят к дьявольскому финалу в исполнении всего оркестра, в то время как струнные исполняют в унисон тему Царевны. Танец достигает наивысшей степени неистовства. Тихое стаккато струнных ведет к полному оркестровому фортиссимо. Духовые звучат то громко и пронзительно, то тихо, а с финальным резким аккордом обессилевшие приспешники Кощея падают на землю.
Теперь начинается колыбельная Жар-птицы, мелодия печально-прекрасная, исполняемая на фаготе, сопровождаемая время от времени вздохами гобоя. Приглушенные струнные тихо поддерживают, затем исполняют высокую контрмелодию. Когда снова начинают играть фаготы, скрипки исполняют мотив Жар-птицы на нисходящих аккордах. Постепенно затихая, звучит гобой. По мере того как Карсавина кружит по сцене в па-де-бурре с раскинутыми руками, толпа на сцене погружается в сон. Кощей просыпается, но Иван нашел ларец с его душой, которая хранится в огромном яйце. Злодей в ужасе раскачивается из стороны в сторону, пока Иван перебрасывает с руки в руку яйцо и наконец швыряет его на землю. Сцена погружается во тьму.
Музыка финала представляет собой еще одну народную песню, превращенную в благодарственный гимн, сопровождающий свадебную процессию царевича Ивана и Царевны. Каменные витязи оживают и медленно выстраиваются в ряд с царевнами. Ряд за рядом сцену постепенно заполняют бояре. Иван и его невеста, коронованные, со скипетрами поворачиваются кругом, демонстрируя свои длинные расшитые шлейфы, и торжественно выступают вперед, чтобы занять почетное место в центре толпы. Сверкающая Жар-птица пролетает мимо и благословляет их. Под торжественную мелодию, напоминающую звон колоколов, балет подходит к счастливому финалу. С какой же гордостью, должно быть, Фокин, танцор, балетмейстер и первооткрыватель, появился на сцене рядом со своей женой и всей труппой перед лицом парижских зрителей, стоя приветствовавших его балет и музыку Стравинского! А Карсавина – какой триумф выпал на ее долю в первой большой роли, поставленной для нее Фокиным!
Сидевший в ложе Дягилева Стравинский познакомился со всеми знаменитостями, хозяйками салонов и балетоманами Парижа. В этот и последующие вечера его представили Прусту, Жану Жироду, Полю Морану, Сен-Джону Персу, Полю Клоделю и Саре Бернар. «В конце представления меня пригласили на сцену, чтобы выйти на поклон, вызывали несколько раз. Я был на сцене, когда в последний раз опустили занавес, и увидел, как ко мне подходит Дягилев с темноволосым высоколобым мужчиной, которого представил мне как Клода Дебюсси. Великий композитор доброжелательно отозвался о музыке и закончил беседу приглашением пообедать с ним».
Восток снова был в моде, как и почти столетие назад, во времена раннего Виктора Гюго. Следовавший за «Жар-птицей» дивертисмент был последней новинкой сезона и носил такое же название, как и вторая книга поэм Гюго «Les Orientales»[161]161
«Ориенталии» (фр.).
[Закрыть]. В нем выступили Гельцер и Волинин, а у Нижинского было два номера. Первый, «Кобольд», исполнялся под одноименное фортепьянное произведение Грига, оркестрованное Стравинским*[162]162
* Григорьев считает, что хореография этого танца принадлежит Нижинскому, но мадам Бронислава Нижинская утверждает, что Фокину.
[Закрыть]. Для этого танца Нижинский был облачен в зеленовато-синее сплошное трико, усыпанное блестками, ими было покрыто даже его лицо. Он предстал шаловливым гоблином. Все, что осталось от этой постановки, – это три фотографии, хранящиеся в Музее и Библиотеке исполнительских искусств в Нью-Йорке. Что касается второго номера, более статичного танца, состоящего главным образом из поз в сиамском стиле (за несколько лет до этого в Петербурге Фокин видел труппу сиамских танцоров), о нем сохранились многочисленные воспоминания, так как Нижинского фотографировали в нем Дрюэ и барон де Мейер и рисовали Жак-Эмиль Бланш, Жан Кокто, Жорж Барбье и другие.
Карсавина взяла свой костюм Жар-птицы, а Нижинский свой золотой расшитый драгоценностями сиамский костюм и головной убор в студию Жака-Эмиля Бланша в Пасси, чтобы сфотографироваться, так как художник бережно относился ко времени танцоров, потраченному на позирование, и много работал с фотографиями Дрюэ. Было солнечное воскресное утро, и «оператор», как называла его мадам Бланш, прибыл в час.
Сад Бланша с его каштанами, катальпой и английскими лужайками как-то ветреным дождливым вечером вдохновил Дебюсси на создание «Jardin sous la pluie»[163]163
«Сад под дождем» (фр.).
[Закрыть]. Эта фортепьянная пьеса вошла в альбом, посвященный общительному художнику. Нижинский позировал и на лужайке, и в студии, и те позы, которые он принимал, то припадая к полу – наполовину змея, наполовину тигр, то стоя, поднеся кончики пальцев к вздернутому подбородку, наряду с прыжком, выполненным им для одной из ранних фотографий в движении со скрещенными в воздухе ногами и соединенными над головой руками, – все это были элементы его сиамского танца.
Карсавина, так же как и он, позировала перед превосходным экраном из ценного дерева. Некоторые из сохранившихся фотографий изображают ее хохочущей от души – поведение, совсем неподобающее для Жар-птицы. Причиной был Кокто, приезжавший посмотреть, как идут съемки. Он обычно устроивался на галерее, проходившей над студией, принимал самые немыслимые позы и бросал остроумные реплики. Он также делал наброски с Нижинского в его сиамской роли.
Набросок Бланша, изображающий Карсавину на пуантах с повелительно протянутыми руками, так и остался всего лишь эскизом, хотя и очень ярким, сейчас он находится в коллекции Сержа Лифаря. Большой портрет Нижинского купила княгиня Эдмон де Полиньяк, и после ее смерти он много лет провисел в Доннингтон-Прай-ори под Ньюбери в доме ее племянницы, миссис Реджиналд Феллоуз, одолжившей мне его для Дягилевской выставки в 1954–1955 годах. Но Бланш был не единственным художником, писавшим с фотографий Дрюэ. Несколько лет спустя тайный поклонник Нижинского заказал его портрет Баксту, и тот скопировал припавшего к земле танцора с фотографии Дрюэ, вольно интерпретировав им же самим созданный костюм (он оставил брюки простыми синими, не украшенными блестками) и слегка изменив выражение лица, так что оно стало более живым, чем на фотографии. Портрет никогда не выставлялся и не воспроизводился, фактически он был скрыт от мира до 1969 года, когда его обнаружил в Вашингтоне барон Тассило фон Ватцдорф из «Сотби». В июле того же года его выставили на продажу, и он был продан за 11 400 фунтов, рекордную цену для работ Бакста. Такими были далеко идущие последствия тех веселых съемок в Пасси, заканчивавшихся, как правило, поздним, но восхитительно вкусным ленчем.

Тамара Карсавина.
Рис. Жира
Нижинский и Карсавина приезжали позировать Бланшу и в последующие сезоны, Карсавина время от времени привозила с собой на сеансы друзей. Будучи в то время большой гурманкой, она однажды рассказала собравшейся компании, какое огромное впечатление произвели на нее в ресторане отеля «Савой» столики на колесиках, уставленные всевозможными сладостями, которые подвозили ей на выбор. К ее следующему посещению Пасси Бланш достал столик на колесиках и щедро уставил его лакомствами. Бланш писал и Иду Рубинштейн в костюме Зобеиды, откинувшейся на подушки, с благородным семитским профилем на фоне черно-золотого лакированного экрана.
Рубинштейн также позировала Серову в здании на бульваре Инвалидов, которое когда-то было монастырем. Он написал ее обнаженной, сидящей на подушках, повернувшейся к зрителям костлявой спиной, и с головой, повернутой через правое плечо. Теперь в роли cavalieri serventi[164]164
Верные рыцари (ит. разг.).
[Закрыть] у нее был не только Монтескью, но и д’Аннунцио. Ей нравилось привлекать внимание, и восхищение выдающихся людей льстило ей. Она купила черного пантеренка и заявила Дягилеву, что хочет не только изображать пантомиму, но и танцевать. Об этом не могло быть и речи. Зрители считали, что она пьет шампанское из лилий мадонны, но это, возможно, было частью преднамеренной рекламной кампании.
Дягилев заплатил Стравинскому только 1500 рублей (100 фунтов) за «Жар-птицу», но композитор, постоянно нуждающийся в деньгах, был настолько окрылен успехом своего балета и так уверен в совместном с Дягилевым светлом будущем, что поспешил в Россию за женой и детьми. Последнее представление «Жар-птицы» должно было состояться 24 июня, и он решил, что жена должна непременно услышать музыку. Еще два месяца назад, когда он только заканчивал оркестровку, ему в голову пришла идея нового балета. «Мне представилась сцена языческого ритуала, во время которого избранная жертвой девушка затанцовывает себя до смерти. Однако это видение не сопровождалось конкретными музыкальными идеями… Прежде чем уехать из Петербурга в Париж, он обсудил либретто с Рерихом, мистическим интерпретатором Древней Руси, и они решили работать вместе. Теперь в своем фамильном доме в Усть-Луге, в двух с половиной днях пути к югу от Петербурга, он начал письмо Рериху, которое закончит десять дней спустя.
Стравинский Рериху, 19 июня 1910 года:
«Дорогой Николай Константинович,
Моя «Жар-птица» пользовалась огромным успехом в Париже, но музыка оказалась настолько сложной, что ее больше нигде невозможно будет исполнить в этом году. Для ее исполнения потребовалось девять репетиций, что доказывает, насколько невероятно будет попытаться поставить ее с другими оркестрами. Из-за этого мы намеревались удвоить количество представлений здесь, но это оказалось сложно по ряду причин, и будет только два дополнительных представления 22-го и 24-го (в следующие вторник и четверг) между тремя чередующимися абонементными спектаклями. Полагаю, что успею приехать только на представление, которое состоится в четверг, как я уже говорил.
Естественно, успех «Жар-птицы» вдохновил Дягилева на дальнейшие проекты, и раньше или позже нам придется рассказать ему о «Великом жертвоприношении». Фактически он уже попросил меня написать новый балет. Я сказал, что пишу балет, но пока не хочу говорить о нем, что вызвало взрыв, как и следовало ожидать.
«Что? Вы держите что-то в тайне от меня? От меня, того, кто делает все возможное для вас всех? Фокин, вы, у каждого от меня секреты» и т. д. и т. д. Мне, конечно, пришлось рассказать ему, но я просил никому пока не говорить. Когда я сказал, что начал работать с вами, и Дягилев, и Бакст обрадовались. Бакст счел нашу идею превосходной. Они явно испытали облегчение, узнав, что мой секрет никак не связан с Бенуа – Дягилев был бы ужасно оскорблен, если бы здесь оказался замешан Бенуа.
Позже. Мне приходится заканчивать это письмо в Ла-Боле, так как не нашел для этого времени в Париже, где мы провели только три дня. Снова «Жар-птица» имела огромный успех, и я был очень доволен, но должен отметить, что не все в работе Головина и в освещении было удачным. С самого начала, как только я увидел костюмы и прекрасные декорации Головина, мне сразу показалось, что ему не удалось создать удовлетворительное обрамление для страшной сцены с Кощеем, мое мнение разделяли Андрей Римский-Корсаков и Коля Рихтер, пришедшие на последнее представление. Музыка и костюмы в этой сцене не соответствуют друг другу, и танцоры выглядят как ряженые на маскараде. Дягилев сам занимался освещением, но результат оказался несовершенным, в первую очередь из-за ошибок, допущенных порой в координации действий. Вдобавок к этим неудачам труппы администрация и дирекция «Гранд-опера» делала все, чтобы помешать нам. Во-первых, они не хотели сдавать театр русской труппе, и только благодаря помощи графини Греффюль и еще кое-кого из друзей нам удалось получить его. Я не знаю истинных причин ссоры, произошедшей между Дягилевым и Фокиным из-за трудностей в постановке «Жар-птицы». Сам я предпочитаю оставаться в стороне от всей этой неразберихи и сожалею, что Дягилев проболтался мне, заявив, что участие Фокина в «Великом жертвоприношении» будет только вопросом денег. (Заметьте, Дягилев ни на секунду не задумался о том, что мы с Фокиным можем хотеть работать вместе!) Если разногласия с Фокиным не будут разрешены в ближайшее время, Дягилев считает, что нам придется работать с неким Горским, о котором я не знаю ничего. Может, этот Горский и гений, но Дягилев, видимо, блефует и действительно огорчен из-за Фокина.
Как видите, я живу сейчас в Ла-Боле у Атлантического океана. Это маленький городок, переполненный сейчас детьми всех возрастов. Я часто вспоминал вас по пути из Усть-Луги в Париж. Как правы вы были, когда советовали мне ехать через Варшаву и Берлин. Пожалуйста, извините за мой последний разговор по телефону.
А теперь следующее: я не могу найти бумагу, на которой записал либретто «Великого жертвоприношения». Ради бога, пришлите мне его заказным письмом и вместе с ним небольшую страничку рукописи, которую я забыл у вас. Я пишу на петербургский адрес, так как вы не дали мне адреса в Хапсале. В ожидании вашего ответа жму вам руку и трижды целую.
С любовью, ваш Игорь Стравинский».
Благодаря хорошей административной работе Астрюка и популярности новых балетов сезон имел гораздо больший финансовый успех, чем предыдущий. Была достигнута договоренность, что в Опере состоятся дополнительные представления, но сначала нужно было выполнить контракт в Брюсселе, хотя он включал только два представления. Однако Карсавиной пришлось вернуться в Лондон, чтобы танцевать в «Жизели» в «Колизее», где в ее отсутствие труппа Козлова давала восточный балет «Саламбо». Гельцер репетировала вальс Карсавиной в «Сильфидах», а Фокин не без труда убедил Дягилева позволить Лопуховой, добившейся большого успеха в «Карнавале», заменить Карсавину в «Жар-птице». Обладая прекрасной элевацией, она успешно справилась с этим, но отличалась от Карсавиной, как колибри от феникса.
Чтобы предотвратить в дальнейшем конкуренцию с лондонским мюзик-холлом, Дягилев предложил Карсавиной двухгодичный контракт, по которому она должна была танцевать у него с 1 мая до конца августа во время закрытия Мариинского. Она колебалась, прежде чем отказаться от всего отпуска и от личной жизни. Дягилев злился за то, что она «проституирует свое искусство», выступая в мюзик-холле. С ревностью собственника он говорил: «Я ненавижу вашу семью, она отнимает вас у меня. Почему вы не вышли замуж за Фокина? Тогда бы вы оба принадлежали мне». С тем же пылом он принялся жаловаться на то, что хореография Фокина старомодна и принадлежит прошлому. У них возникли разногласия во время постановки «Жар-птицы». Ему не нравился Фокин, такой самоуверенный, сформулировавший свое новое творческое кредо без помощи Дягилева и его друзей. С присущей ему жаждой новизны, с возрастом становившейся все более и более заметной, Дягилев уже стал замечать ограниченность фокинского подхода, его страсть к местному колориту и стилю времени. Дягилев подумывал о том, чтобы заменить его кем-то другим, с более новаторскими идеями, или тем, кого он сможет сформировать сам. Кандидатами были Горский из Москвы и Нижинский. Карсавину поразила такая позиция. Прошел всего год и месяц с тех пор, как Париж был покорен новизной «Половецких плясок» и «Клеопатры», и вот уже Дягилев отстранял от себя Фокина. В то же время у нее возникло ощущение, будто Дягилев испытывает ее. Останется ли она верной ему и последует за ним в его художественных авантюрах или отойдет от него, как Павлова? «Что вы собираетесь сделать с балетами Фокина, Сергей Павлович?» – «О, не знаю. Могу продать их все, вместе взятые». Она расстроилась, но заверила его в своей верности.
Подвергшейся в Лондоне мощной бомбардировке дягилевских телеграмм, многострадальной Карсавиной удалось вырвать еще один небольшой отпуск у Освальда Столла, чтобы станцевать в одном из двух представлений в Брюсселе. Его посетила бельгийская королевская семья и отнеслась к нему с большим энтузиазмом. Дягилев встретил Карсавину как «любящий отец», «его радость была трогательной». За завтраком, на котором, кроме балерины, присутствовал и Нижинский, Дягилев попросил ее позволить Гельцер исполнить вальс в «Сильфидах». Гельцер выручила его в отсутствие Карсавиной, и он полагал, что не может отнять у нее эту партию в текущем сезоне. Карсавина, которая полтора года назад настолько стеснялась Дягилева, что не могла открыть рот в его присутствии, теперь «для порядка разбушевалась, собираясь все же пойти ему навстречу». В тот вечер, гримируясь, она увидела его отражение в зеркале. Он никогда не стучал в дверь. Она больше не сердилась, но из чувства собственного достоинства сохраняла рассерженный вид. Он сказал: «Вы ударили по одной щеке. Вот другая, – а затем печально добавил: – Тата, я безнадежно влюблен». – «В кого?» – «Ей нет до меня дела, как до китайского императора».
После последнего выступления в Париже дягилевский балет снова прекратил свое существование, но его торжествующий создатель теперь не только вел переговоры по поводу следующего парижского сезона, но одновременно планировал выступления в Лондоне и Нью-Йорке. Прощаясь с Григорьевым, Дягилев сказал ему, что в следующем году они будут работать дольше. Поскольку Григорьев и другие артисты Мариинского театра и так посвятили все четыре месяца своего отпуска работе на Дягилева, режиссер не понял, что тот имеет в виду. Но Дягилев мечтал о собственной труппе, независимой от царя. Проблема состояла в том, что артисты труппы императорского балета были обязаны проработать на сцене, как минимум, пять лет, чтобы рассчитаться за свое образование, обучение и средства, потраченные за восемь лет на их стол, проживание и одежду. И это было справедливо. Танцоры постарше имели право покинуть театр, если не боялись отказаться от пенсии. Но не Нижинский и его сверстники.
Однако Лидия Лопухова сделала решительный шаг и покинула родину первой в длинной цепи поступивших подобным образом. Она подписала контракт на выступление в Соединенных Штатах и уже не вернулась в Россию, хотя присоединялась к труппе Дягилева во время войны. Между тем Иде Рубинштейн, никогда не связанной с императорскими театрами, порядком надоело изображать пантомимы, ей захотелось танцевать, говорить и, если возможно, петь, и она начала финансировать грандиозные спектакли из собственных средств и денег своего английского любовника Вальтера Гиннеса. С этого момента она стала посмешищем.
Лето 1910 года. Друзья разъехались: когда они встретятся, их «каникулы» принесут свои плоды. Стравинский после пребывания с семьей у моря в Ла-Боле в Бретани, где написал две песни на стихи Верлена, отказался от приглашения Дягилева приехать в Париж, утверждая, что не может оплатить проезд, и перебрался в Швейцарию. Заехав на несколько дней к Бенуа в Монтаньолу, неподалеку от Лугано, чтобы помириться, Дягилев и Нижинский отправились в Венецию. Бакст и Серов совершили вожделенное паломничество в Грецию и на Крит. Вацлав все чаще и чаще думал о том, как создать новый тип хореографии – из этих его мыслей и из страсти Бакста к реликвиям Эллады родился «Послеполуденный отдых фавна». Во время пребывания в Швейцарии Стравинский решил прервать работу над предварительными набросками для «Весны священной», начатыми в Болье, чтобы написать konzertstuck[165]165
Концертная пьеса (нем.).
[Закрыть], из которого родится «Петрушка».
В сентябре Стравинские переехали из пансиона в Вевее в клинику в Лозанне, где 23 сентября родился их второй сын. Композитор снял там для работы мансарду на противоположной стороне улицы. Здесь он начал свой будущий фортепьянный концерт, отправной точкой для которого, возможно, послужило очарование диссонансом, вызванным наложением аккордов в до-мажоре и фа-диез-мажоре, которое вылилось в некий спор или даже сражение между фортепьяно и оркестром. Когда в конце месяца после шести недель, проведенных в Венеции, Дягилев с Нижинским приехали к композитору, чтобы узнать, как обстоят дела с музыкой для «Весны священной», Стравинский исполнил им свою новую почти законченную композицию, которую решил назвать «Плач Петрушки»*[166]166
* По воспоминаниям Лифаря, идея соотнести эту музыку с образом Петрушки принадлежала Дягилеву. Мистер Стравинский отрицает это. Он вспоминает, что такая идея пришла ему в голову у озера в Кларане.
[Закрыть].
И Стравинский, и Дягилев посещали в Петербурге ярмарки на предшествующую Великому посту Масленицу, когда временные театральные подмостки, горки и карусели появлялись на площади перед Зимним дворцом. Они также помнили русский вариант английского представления «Панч и Джуди», в котором приключения Петрушки разыгрывались с помощью кукол. Петрушка – фактически русский Панч: он бьет жену, убивает людей, и в конце концов черт утаскивает его в ад. В то время как один спрятанный человек управлял куклами, шарманщик исполнял музыку и произносил диалоги. Он время от времени предостерегал Петрушку: «Берегись! Попадешь в кипяток». Но Петрушка в ответ только пронзительно смеялся: «хи-хи-хи!» Произнося реплики Петрушки, шарманщик брал в рот маленькое приспособление, придававшее голосу носовой тон, и Дягилев услышал в новом произведении эти странные звуки*[167]167
*Я взял краткое описание пьесы о Петрушке у князя Петра Ливена, но князь не прав, утверждая, будто пронзительные крики Петрушки вдохновили Стравинского на создание этого произведения, потому что музыка была написана до того, как кому-либо пришла в голову идея связать ее с образом Петрушки.
[Закрыть].
Когда Стравинский сыграл им несколько тактов «Русского танца для фортепьяно с оркестром», который он планировал в пару к первому, у Дягилева тотчас же возникла идея, а может, это пришло ему в голову ночью – использовать оба произведения как основу для балета о русской ярмарке. Все сошлись во мнении, что именно Бенуа с его ностальгией по архитектуре и традициям старого Петербурга следует создать либретто и оформить декорации; и Дягилев написал ему день или два спустя. В Монтаньоле Бенуа помирился с Дягилевым, но продолжал настаивать, что его сотрудничество с балетом закончено, и не подозревал, что его величайший успех еще впереди! Надо было попытаться его уговорить. Дягилев умолял его позабыть старые распри и создать новый шедевр в сотрудничестве со Стравинским. Эта идея оказалась заманчивой для художника.
Бенуа вспоминает:
«Петрушка, русский Гиньоль или Панч, не менее, нежели Арлекин, был моим другом с самого детства. Если, бывало, я заслышу заливающиеся, гнусавые крики странствующего петрушечника: «Вот Петрушка пришел! Собирайтесь, добрые люди, посмотреть-поглядеть на представление!» – то со мной делался род припадка от нетерпения насладиться этим зрелищем… Таким образом, что касалось личности самого Петрушки, то я сразу почувствовал своего рода «долг старой дружбы» увековечить его на настоящей сцене. Но еще более меня соблазняла идея изобразить на сцене театра «Масленицу», милые балаганы, эту великую утеху моего детства, бывшую утехой еще моего отца. Соорудить балаганам какой-то памятник было тем более соблазнительно, что самые эти балаганы уже с десяток лет как были упразднены…»
Так что Бенуа охотно взялся за либретто, Стравинский отправился в Кларан, где в другой богемской мансарде закончил «Русский танец»; а Дягилев поехал в Париж для переговоров с Астрюком и в Лондон, чтобы решить кое-какие вопросы, касающиеся следующего года, с сэром Джозефом Бичемом. Дягилев был в Лондоне 10 октября, как мы знаем из даты на телеграмме, посланной им Астрюку. Возможно, он оставил Вацлава в отеле «Скриб», но 27-го они снова были вместе, как следует из почтового штемпеля на следующей открытке. После веселого ленча, проведенного за обсуждением «Синего бога», участников внезапно охватил страх при мысли, что если тайна их новой работы откроется, то это может помешать реализации задуманного. Так что он написал Астрюку из ресторана «Ле Гранд Ватель», 275, улица Сент-Оноре: «Ради всего святого никому ни слова о балете, который мы замышляем, и особенно о перспективах включения его в коронационные торжества. Всегда ваши Рейнальдо Ан, Сергей Дягилев, Лев Бакст, Жан Кокто, Нижинский». Нижинский уже опаздывал на два месяца в Мариинский театр, рискуя за это навлечь на себя неприятности. Может, он намеренно пытался спровоцировать Теляковского, чтобы тот его уволил?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.