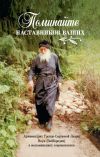Текст книги "Вацлав Нижинский. Новатор и любовник"
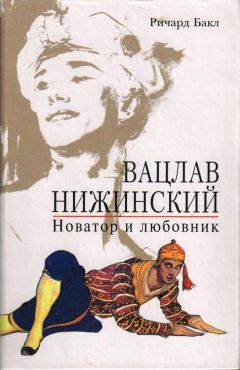
Автор книги: Ричард Бакл
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 40 страниц)
Дягилев приехал в Рим в пятницу 5 мая, раньше Вацлава и всей труппы. Нижинский наслаждался путешествием по побережьям Пьемонта и Тосканы. Дягилев и Нижинский остановились в большом современном отеле «Эксельсиор» в конце оживленной Виа Венето. Бенуа и Стравинский поселились в меньшем и более спокойном «Albergo Italia»[192]192
Гостиница «Италия» (ит.).
[Закрыть], неподалеку от четырех фонтанов, он находился между отелем Дягилева и театром Костанци, где должен был выступать балет. Окна их комнат выходили на сады Барберини, под журчание фонтанов которого были завершены последние страницы «Петрушки». Этот великий балет можно рассматривать как кульминацию всего движения «Мира искусства». Эскизы к нему были сделаны в Петербурге, в городе, жизнь которого он воспевает, музыка написана в основном у Женевского озера и на Лазурном Берегу, поставлен балет в Риме, а доведен до совершенства в Париже. К Бенуа присоединилась жена, приехавшая из Лугано. К огромной радости друзей, в Риме оказался не только Нурок, их старый соратник по «Миру искусства», но и Серов со своей женой. Серов был ответственным за русский отдел Международной выставки. Карсавина встретила в Риме своего брата и невестку – Лев Карсавин изучал здесь философию. Наконец, маэстро Чекетти, приехав на родину, почувствовал себя в родной стихии.
«Это были воистину чудесные дни, – пишет Бенуа. – Издали они мне кажутся такими же лучезарными, как радостные годы детства или самые поэтические моменты юности. Чудесно было, что мы дружно и в абсолютной гармонии работали над произведением, значительность которого сознавали. Чудесно было, что работа эта заканчивалась в столь необычной для нас и столь прекрасной обстановке… Мы бродили по городу, посещали церкви, музеи и всемирную выставку, на которой настоящим триумфатором стал Серов и на которой мы принимали короля и королеву Италии, когда они посетили открытие русского отдела… Никогда не забуду наши экскурсии в Тиволи и Альбано. Места эти я уже хорошо знал, но в том духовном упоении, в котором я тогда находился, все мне представлялось новым…»
Не обошлось, конечно, и без обычных проблем. Несмотря на дружеское отношение со стороны директора всемирной выставки графа Сан-Мартино, администрация и рабочие сцены театра Костанци были настроены враждебно. Невозможно было получить сцену для репетиций (снова повторялась история с Парижской оперой). «Даже доступ в театр был затруднен. Швейцар грозно возвышался на своем боевом посту и каждого, кто приближался к двери, встречал угрожающими жестами. В коридорах шикали значительно чаще, чем обычно, и все без исключения ходили на цыпочках – репетировал Тосканини».
Фокин приехал раньше всей труппы, чтобы обсудить с Дягилевым парижский репертуар, отчего настроение у него испортилось. До открытия сезона в Париже оставался всего лишь месяц, а Дягилев надеялся, что он поставит не только «Петрушку», но и «Садко», «Пери», «Синего бога» и отрепетирует «Жар-птицу» с труппой, в большинстве своем незнакомой с ней. То было сражение двух в высшей степени упрямых людей, в котором более настойчивый Дягилев, возможно, победил бы, не будь его требования физически невыполнимыми. Когда Григорьев пришел обсудить с Фокиным предстоящие репетиции для римского сезона, последний помрачнел и отказался разговаривать. Когда же Дягилев посоветовал Фокину начать работать над «Петрушкой» и «Садко» одновременно, как вспоминает Григорьев, «он еще больше рассердился и только сказал, что позже встретится со мной по этому вопросу. Я сделал все от меня зависящее, чтобы его успокоить, поскольку в тот момент явно в состоянии взяться за такой балет, как «Петрушка», не только со сложной музыкой, но и с недостаточно проработанным либретто, особенно это касалось центральных сцен. Однако вскоре он приступил к постановке, у него сразу возникло множество идей, и дело быстро пошло на лад. Только в третьей сцене, где Арап на время остается один, изобретательность подвела Фокина. Он никак не мог придумать, чем бы тому заняться, вышел из себя и, швырнув ноты на пол, ушел с репетиции. Впрочем, на следующий день он пришел довольный и заявил, что придумал кое-какое «дело» для проклятого Арапа – даст ему кокосовый орех, игра с которым займет по крайней мере первую половину сцены».
Пришлось написать дополнительный музыкальный фрагмент.
Репетиции проходили в помещении буфета в подвальном этаже театра, где артистам приходилось танцевать и даже ложиться на покрытый потертым, грязным малиновым ковром пол. Было душно, и никакой вентиляции. Сидевший за роялем Стравинский попросил у дам позволения снять пиджак. Дягилев, изнуренный, но безукоризненно разодетый, сидел на жестком стуле и наблюдал, как обретает форму великий балет. Бенуа сделал наброски с них обоих, и на полях рисунка, изображающего композитора, художник написал о балетмейстере: «Фокин ничего не может сделать с ритмом танца кучеров! – и добавил: – Ужасная жара!»
Гастроли открылись 15 мая «Павильоном Армиды», «Сильфидами» и «Князем Игорем», чрезвычайно тепло встреченными зрителями. Дягилев, не теряя времени, тотчас же телеграфировал Астрюку, сообщив об элегантности публики и о шестнадцати вызовах. Король и королева Италии, а также королева-мать посетили второе представление, встреченное «нескончаемыми овациями».
После римского триумфа и успешной постановки «Петрушки» настроение Дягилева улучшилось. Карсавина остановилась в отеле, находившемся напротив дворца королевы-матери, неподалеку от садов Боргезе. Она пишет:
«По дороге в театр Костанци за мной часто заезжал Дягилев. «Вы говорите: маэстро? Ничего, старик немного подождет, просто грех сидеть в помещении в такое чудесное утро!» И он увозил Нижинского и меня в увлекательную экскурсию по городу, обращая наше внимание то на арку, то на какой-нибудь изумительный вид, то на памятник. После прогулки он с рук на руки передавал нас маэстро с просьбой не слишком распекать «деток» за опоздание. Маэстро с необычайной для него кротостью прощал своих легкомысленных учеников: он знал, что мы сумеем наверстать упущенное. Правда, случалось, что для поддержания дисциплины маэстро делал вид, что приходит в неописуемую ярость; он начинал размахивать тростью, давая нам возможность заблаговременно отступить, а потом швырял ее мне в ноги, но вовремя сделанный прыжок совершенно обезвреживал этот метательный снаряд… Он был одержим жаждой преподавания, и в равной мере мы с Нижинским были одержимы жаждой обучения».
Даже если они приходили на урок очень рано, маэстро уже ждал их, «обмениваясь шутками с рабочими сцены и заставляя умного черного пуделя, принадлежащего швейцару, проделывать различные фокусы. Собака любила деньги и знала, как с ними обращаться: получив сольдо, невозмутимо переходила улицу и отправлялась в ближайшую кондитерскую, где клала монету на прилавок, получала пирожное и съедала его в укромном уголке».
Время шло, и баталии по поводу парижского репертуара продолжались. Дягилеву хотелось, насколько возможно, показать в Париже разнообразные и новые программы, даже если их будет только две с четырьмя балетами в каждой, но к этому времени он понял, что, объявив о постановке «Синего бога», «Пери» и возобновлении «Жар-птицы», пообещал больше, чем мог выполнить. Разрываясь между Фокиным, отказавшимся торопиться, и Астрюком, требовавшим, чтобы ему представили точный перечень балетов, Дягилев использовал все свое дипломатическое искусство. Пытаясь заставить Фокина сделать как можно больше, он в то же время решил целиком возложить на Астрюка и Бакста вину за то, что не все заявленные балеты удалось поставить. 22 мая он пишет следующее.
Дягилев из Рима Астрюку в Париж, 22 мая 1911 года (напечатано на машинке):
«Мой дорогой Астрюк!
Ситуация такова: остается две недели до открытия сезона в Париже, и все же мы даже не приступали к двум балетам по причинам, не зависящим ни от меня, ни от моей труппы.
Во-первых, «Пери». Я все еще не получил контракт, подписанный Трухановой. В действительности вы сами говорили мне, что не во всем достигли с ней согласия. Вы же понимаете, я не могу начать работу над вещью, которая заведомо не будет иметь успеха. Затем, мадемуазель Труханова, пообещавшая приехать в Монте-Карло, не удосужилась сделать этого за те два месяца*[193]193
*На самом деле меньше шести недель.
[Закрыть], что мы там провели. Теперь, закончив свои концерты, она по-прежнему не подает никаких признаков жизни. А мы не можем планировать работу без сотрудничества с главным исполнителем.
Я, конечно, получил фортепьянную партитуру (в которой были явные ошибки), но она мне не нужна в силу вышеперечисленных обстоятельств, а главным образом в силу нижеследующей причины, которую должен изложить вам самым серьезным образом.
Вы наблюдаете за моей работой уже пять лет и знаете принципы, на которых она основана. Я не профессиональный импресарио, и моя специализация заключается в объединении художников, музыкантов, поэтов и танцоров для совместной работы.
Из всех моих сотрудников самым необходимым всегда был друг моего детства Лев Бакст**[194]194
**Когда Дягилев с Бакстом познакомились в 1890 году, им было соответственно 18 и 24 года.
[Закрыть], принимавший участие во всех моих предприятиях. Он всецело обязан своей репутацией в Париже Русским сезонам, которые, как вы прекрасно знаете, стоили мне сверхчеловеческих усилий.
В этом году я поручил ему четыре спектакля. Над одним из них, «Нарциссом», мы работали все вместе. Что касается второго, «Призрака розы», Бакст присутствовал на репетициях в Петербурге и видел, как он поставлен. Так что ему оставалось только приспособить свои декорации к уже готовой работе.
Что касается «Синего бога» и тем более «Пери», у нас не было ничего, даже карандашного эскиза – только туманные предложения и предположительные трактовки. Кажется, в декорации «Синего бога» должен быть храм, но не знаю, как и где он расположен. Я даже не знаю, идет ли речь об интерьере храма или площади перед ним, и не знаю, где намечено разместить пруд и решетку, упомянутые в либретто. Короче говоря, я не знаю ничего о конструкции и самой идее декораций. И при таких условиях от нас с Фокиным и Бенуа ожидают постановки спектакля?
Ситуация с «Пери» и вовсе нелепа, так как мы пребываем в абсолютном неведении, происходит ли действие во дворце, на вершине горы или в облаках, и это за две недели до премьеры. Бакст упрекает нас в недостатке доверия к его работе, но, должен признаться, я никогда не встречал такого потрясающего предательства всех художественных и эстетических принципов, которые он проявил по отношению к нам. Взявшись за постановку «Святого Себастьяна», Бакст клялся мне, что это ни в коей мере не помешает нашей работе, которую он считает более важной. Теперь я могу заявить, что мы полностью принесены в жертву Рубинштейн и д’Аннунцио. Мы стали жертвой собственного чрезмерного доверия. Даже Кшесинская никогда не вела по отношению к нам такую грязную игру, как поступили вы, ведя эти переговоры, в которых, как вы помните, я оказал такую помощь. Кшесинская никогда не заставляла нас отказываться от своих обязательств. Теперь же, благодаря вам и Баксту, мы вынуждены в последний момент отказаться от постановки двух балетов, запланированных на сезон, который начинается через две недели, и, предупреждаю, вам придется нести ответственность за последствия.
Нет необходимости напоминать вам, что, отказавшись от генеральной репетиции «Синего бога», мы теряем почти сто тысяч франков. Но больше всего меня огорчает то, что мы не можем показать в Париже весь тот великолепный репертуар, который планировали, – как вы знаете, это единственное, что имеет для меня значение.
Предоставляю вам судить, кого винить в происшедшем. Мне пришлось заставить себя отправиться в Париж, чтобы умолять Бакста приехать в Монте-Карло хотя бы на два дня. Теперь я испытываю огромную неловкость по отношению к Дюка и особенно к Рейнальдо Ану, взявшему на себя труд приехать в Петербург. Вынужден попросить вас принести свои извинения за то, что произошло, и объяснить им причины этой задержки. А я понес слишком большой финансовый и моральный урон из-за ваших с Бакстом действий.
Ваш [подписано] Серж де Дягилев.
P.S. [написано от руки] Копии этого письма посланы Баксту и Рейнальдо Ану».
Несомненно, все было тщательно рассчитано, чтобы Астрюк и Бакст получили письма за завтраком одновременно с заметками в прессе по поводу «Святого Себастьяна» Иды Рубинштейн. Так были наказаны предатели.
Бакст тотчас же телеграфировал.
Бакст из Парижа Дягилеву в Рим, 24 мая 1911 года:
«…Решительно протестую против той ответственности, которую ты пытаешься взвалить на мои плечи. Два эскиза с пояснениями к «Пери», отправленные в прошлом месяце в Монте-Карло, не были доставлены и вернулись в Париж. Однако я начал писать задник. Костюмы посланы Мюэль. Костюм Нижинского для «Пери» использовался для обложки программы Brunhoff. Я телеграфировал и писал, соглашаясь с постановкой «Синего бога» Фокина и Бенуа. Ответа не получил. В отчаянии принял фокинский метод постановки накануне отъезда из Петербурга. Эскиз «Синего бога» закончен, и эскизы костюмов сделаны. Бакст».
Астрюк неистово протестовал против любых изменений в объявленной программе. Ночью 25 мая Дягилев, Бенуа, Фокин и Григорьев просидели до утра, обсуждая свои возможности, и на следующий день Дягилев телеграфировал Астрюку.
Дягилев из Рима Астрюку в Париж, 26 мая 1911 года:
«После длившегося всю ночь обсуждения определенно решили отказаться от возобновления «Жар-птицы» в пользу следующих программ: первая – «Карнавал» с Нижинским – Арлекином, «Нарцисс», «Роза», «Садко»; вторая – «Шехеразада», «Пери», «Керженец», «Роза», «Петрушка». Помощник режиссера Аллегри прибудет в Париж в воскресенье с музыкой… Начинаем репетиции в понедельник».
Дягилев окончательно отказался от идеи поставить чрезвычайно сложного «Синего бога» и, возможно, считал, что будет лучше отказаться и от «Пери» также, но в письме, которое Аллегри отвез Астрюку в тот уик-энд, он попытался использовать иную тактику.
Дягилев из Рима Астрюку в Париж, 27 мая 1911 года:
«Дорогой Астрюк,
Ваши телеграммы, полные таких слов, как «гибельный», «безнравственный», «прискорбный», действуют мне на нервы. Вы как будто призываете несчастье на наш сезон… Совершенно очевидно, что, если бы Бакст и Труханова приехали на несколько дней в Монте-Карло, «Пери» была бы уже поставлена.
Сейчас единодушное неприятие этого навязанного нам балета достигло своего апогея. Карсавина отказывается ехать в Париж и танцевать рядом с Трухановой. Фокин вчера заявил, что ставить балет с Трухановой – самый большой идиотизм в его жизни, которого он никогда себе не простит. Бенуа отказывается нести ответственность за такое антихудожественное предприятие. Артисты возмущаются. Я не говорю уже о Безобразове и Гинцбурге.
Единственное, что заставляет их продолжать работу над проектом, – это мое намерение довести дело с «Пери» до конца.
Вчера, прослушав музыку, Фокин заявил, что ему понадобится по крайней мере двенадцать репетиций, чтобы аранжировать музыку, это не считая оркестровых репетиций!
Он не может приступить к работе еще и потому, что либретто несовершенно и он не имеет представления, как его ставить.
При сложившихся обстоятельствах я понял, что возобновление «Жар-птицы», нашего самого сложного балета, который мы целый год не исполняли, физически невозможно, если мы будем ставить «Пери». Мне пришлось выбирать между этими двумя балетами и отказаться от работы над восстановлением «Жар-птицы».
Я принял это решение против воли моих коллег в результате всех тех оскорбительных слов, прозвучавших в потоке ваших бесконечных телеграмм.
А теперь я слышу от вас, что отмена «Жар-птицы» тоже нежелательна.
Я совершенно растерян и просто не знаю, что предпринять.
Мне придется показать всем вашу телеграмму, и споры вспыхнут вновь и даже с большей силой, так как даже вы не поддерживаете меня в решении, которое я должен принять, только говорите, что я дал слово и не могу его нарушить. Это уж слишком.
Я прошу вас только об одном – повидайтесь со своим другом Бакстом и обсудите, какой образ действий окажется наименее разрушительным для моей репутации и финансовых перспектив. О своем решении телеграфируйте.
Я уже не контролирую этот сезон, который будет моим шестым сезоном в Париже, и, так как у меня есть обязательства по отношению к труппе и субсидировавшим меня лицам, я должен всецело подчиниться решению моих друзей Бакста и Астрюка.
Если есть возможность отложить «Пери» до следующего сезона, например лондонского или американского, я приступлю к работе над возобновлением «Жар-птицы».
Но я должен знать самое позднее в понедельник.
Так что, пожалуйста, телеграфируйте, как только примете решение.
Всегда ваш Серж де Дягилев».
По правде говоря, не было необходимости давать «Жар-птицу» или что-либо иное, уже объявленное. Вторая программа была и без «Пери» достаточно длинной. Плохо, что Труханова в костюме Бакста уже была сфотографирована для программы и одновременно воспроизведены эскизы Бакста для их с Нижинским костюмов. Даже декорация была написана. (Она пригодится шесть лет спустя в Сан-Паулу в Бразилии, когда декорация Бакста к «Клеопатре» сгорит в железнодорожном туннеле.) В прессе прозвучит несколько сожалений по поводу изменений программы, но успех новых постановок заставит забыть о них. 31 мая Дягилев телеграфировал, что первой программой будет дирижировать Черепнин, а второй – Монте; что ему нужно 20 мужчин, 20 женщин и 8 детей в качестве статистов для «Петрушки»; что, кроме сцены в Шатле, понадобится дополнительное помещение для репетиций, так как часто будет проходить по три репетиции в день; что труппа прибудет в Париж в пятницу утром и сразу приступит к репетициям в Шатле.
Русский балет Сергея Дягилева приехал на свой первый парижский сезон ночным поездом из Рима утром в пятницу 2 июня и в выходные дни приступил к напряженной работе. Открытие сезона было назначено на вторник.
Так что именно Шатле стал свидетелем первого исполнения Нижинским роли Арлекина в «Карнавале», которую ранее исполняли Фокин и Леонтьев и которой суждено было стать непревзойденной ролью Нижинского. Он внес в некоторую ее прямолинейность нечто дополнительное и неожиданное, волшебным образом преобразившее весь балет. Мы видели, как он создавал определенную атмосферу даже в классическом аншенмане «Павильона Армиды», превращая своего Раба в обитателя иного мира. В каком же множестве ролей создаст он подобные необыкновенные образы, которые нельзя назвать в полной мере человеческими! Его способность парить и передвигаться, высоко поднимая колени, его повороты головы, выразительные движения пальцев, хлопки рук в роли Арлекина – все это делало его похожим на животное семейства кошачьих. «Незабываемый образ», – писал о нем Джеффри Уитуэрт.
«Это ни в коей мере не хвастливый и великолепный Арлекин итальянской комедии, но лукавый, шаловливо вкрадчивый малый, способный легко втираться в доверие. Он вечно нашептывает Коломбине всевозможные секреты. Злобным его не назовешь благодаря безукоризненному чувству юмора. Безусловно, этот Арлекин самый сверхъестественный и наименее человечный из всех образов Нижинского, это сама душа озорства – отчасти Пак, но Пак с острым языком и подобным стальной проволоке телом».
«Его голова, – пишет Валентина Гросс, молодая художница, посещавшая все представления и рисовавшая в темноте, – кажется еще меньше в черной обтягивающей шапочке. Черная маска-домино скрывает все, кроме нижней части лица и удлиненных раскосых глаз, таинственно, по-кошачьи сияющих. Я никогда не видела ничего, что могло бы сравниться с точностью его интерпретации или четкостью управления своими мускулами, как, например, в тот момент, когда он с удивительной быстротой разрывал письмо на бесчисленное множество клочков, разлетавшихся наподобие белых бабочек, одновременно поворачивая голову слева направо так стремительно, что почти невозможно было уловить это движение. Знаменитые антраша-дис, выполненные так, словно он взлетал в воздух, были сделаны невозмутимо и элегантно».
Сегодня нам кажется невероятным, что, исполнив сначала Арлекина, он должен был затем танцевать в «Нарциссе» и «Призраке розы». Вот как описывает его Жан Кокто в последнем балете:
«Он появляется из теплой июньской ночи сквозь голубые кретоновые занавески в костюме из завивающихся лепестков – наверное, девушка ощущает в нем своего недавнего партнера по танцу. Он выражает то, что не подлежит выражению, – всепоглощающий аромат какой-то грусти. Торжествуя в своем «розовом» исступленном восторге, он, казалось, пропитал этим ароматом муслиновые занавески и овладел спящей девушкой. Это самый необычный эффект. С помощью своей магии он заставляет девушку видеть во сне, будто она танцует на балу, и вызывает в ее воображении все радости бала. После прощания со своей возлюбленной жертвой он исчезает через окно в прыжке настолько изысканном и настолько противоречащем всем законам полета и равновесия, следуя столь высокой траектории, что теперь я уже не смогу вдыхать аромат розы без того, чтобы передо мной не возник этот незабываемый фантом».
Пленительный вечер заканчивался подводной сценой из «Садко» Римского-Корсакова, представлявшей собой зрелище весьма экзотическое со столь же экзотической музыкой, чего в конечном итоге Париж и ожидал от русских. Зеленые морские чудища Анис-фельда искусно выполняли волнообразные движения под изумительную музыку, отражающую морскую стихию; партии Садко и Морского царя исполняли Исаченко и Запорожец. Эту первую программу показали четыре раза, но на следующих представлениях роль Арлекина исполнял Леонтьев.
За один вечер французы увидели Нижинского в двух его величайших ролях, но критики любят к чему-нибудь придраться, и к прошлогодним обвинениям в святотатстве за то, что артисты танцуют под оркестрованную версию шумановского «Карнавала», по крайней мере один из критиков добавил подобное обвинение и за балет, поставленный на оркестрованную Берлиозом музыку Вебера. Он счел, что Дягилев поленился заказать новую музыку для «Призрака розы»!
После прогона «Призрака» перед его первым парижским исполнением Карсавина обрела нового друга, который со временем станет ее почти официальным поклонником.
«Как-то утром, после окончания репетиции, ко мне подошли два молодых человека, оба высокие и оба в клетчатых брюках, и поздравили меня с успехом; один из них был автором либретто, но я тогда не знала, который именно. Так что я выразила свою искреннюю благодарность за возможность исполнить эту роль совсем не тому, кому полагалось, к автору же либретто я долго относилась довольно сурово из-за его sourir moqueur[195]195
Насмешливая улыбка (фр.).
[Закрыть], которая, как я поняла впоследствии, была у этого искреннего и тонкого человека лишь проявлением легкой иронии».
Это конечно же был Жан-Луи Водуайе.

Дягилев, изображенный в виде Девушки из «Призрака розы».
Карикатура Жана Кокто
Когда оркестр приступил к репетиции партитуры «Петрушки», музыканты разразились смехом. Монте стоило немалого труда убедить их, что музыка Стравинского – не шутка. Даже Фокин оценил ее только спустя много лет. Декорации и костюмы Бенуа были доставлены из Петербурга, но времени на завершение балета оставалось мало. У Фокина была только одна двухчасовая репетиция массовой сцены при участии французских статистов перед оркестровой и генеральной репетициями. Дягилев всегда вспоминал один инцидент, произошедший во время этой репетиции. Когда Чекетти, исполнявший роль Фокусника, изображал игру на флейте, оживляющую кукол, девочка из толпы, в буквальном смысле «зачарованная» гипнотическими звуками музыки, непроизвольно вышла вперед на свободное место в центре сцены. Фокин счел необходимым эту мизансцену сохранить.
Волнение, вызванное постановкой этого балета, оказалось слишком сильным для Бенуа, недостаточно хорошо себя чувствовавшего, и он устроил одну из своих сцен.
«Петрушка» разбередил рану, едва зажившую после обиды из-за «Шехеразады», – пишет он. – Декорация комнаты Петрушки смялась при перевозке из Петербурга, причем пострадал портрет Фокусника, который занимает центральное место на одной из стен. По моему замыслу, роль этого портрета в драме значительна; Фокусник повесил его сюда, чтобы ежечасно напоминать Петрушке о своей власти над ним и исполнять его духом покорности. Но Петрушку в его принудительном заключении как раз лик его страшного мучителя более всего возбуждает, и под его леденящим взглядом он отдается порывам возмущения: ему он показывает кулаки, ему посылает проклятия. Портрет необходимо было починить, причем срочно, а у меня, как назло, сделался нарыв на локте, и я был вынужден сидеть дома. Тогда починку портрета любезно взял на себя Бакст, и я не сомневался, что он справится с задачей наилучшим образом.
Каково же было мое изумление, когда через два дня на генеральной репетиции я увидел вместо моего портрета Фокусника совершенно другой, повернутый в профиль, с глазами, глядящими куда-то в сторону. Если бы я был здоров, я бы, разумеется, постарался устроить это дело полюбовно; вероятно, Бакст просто перестарался и никакого злого умысла не имел. Но я явился в театр в лихорадке, рука нестерпимо болела, настроение было более чем нервозное, и все это, вместе взятое, привело к тому, что изменение портрета показалось мне возмутительным издевательством над моей художественной волей. Сразу вспомнился прошлогодний афронт, и вскипевшее во мне бешенство выразилось неистовым криком на весь театр, наполненный избранной публикой: «Я не допущу! Снять, моментально снять! Я не потерплю этого!» После этого я швырнул на пол полную рисунков папку, выбежал вон на улицу и помчался домой…
Состояние бешенства длилось целых два дня. Напрасно Серов сразу вызвался вернуть портрету его первоначальный вид и исполнил это с трогательным старанием; напрасно неоднократно приходил Нувель и старался объяснить, что произошло недоразумение, что и Сережа и Бакст очень жалеют о случившемся, я не слушал и не унимался. Не унималась и боль в руке, пока доктор не взрезал опухоли.
Сереже я послал заявление об отставке от должности художественного директора и объявил, что и в Лондон я уже не поеду…»
Вторая программа парижского сезона состоялась во вторник 13 июня, неделю спустя после первой. Она началась с «Шехеразады», в которой прекрасная, страстная и трогательная Карсавина заменила Рубинштейн. Но холодность и бесчувственность мимического исполнения Рубинштейн добавляли этому садистскому балету дополнительный эффект, без нее он уже никогда не будет прежним. Снова Карсавиной и Нижинскому приходилось танцевать в трех балетах за один вечер. Пока они переодевались в костюмы для «Призрака розы», звучала оркестровая интерлюдия из «Града Китежа» на фоне батального пейзажа Рериха. Затем следовал «Петрушка».
При постановке «Петрушки» Бенуа, возможно, что-то позаимствовал у Мейерхольда, хотя и не упоминает об этом в своей книге*[196]196
*В недолговечном театральном мире считалось вполне естественным обогащать постановки текущего года хорошими идеями из прошлогодних спектаклей. В «Шарфе Коломбины» Мейерхольда развевающиеся белые рукава Пьеро в какой-то мере традиционны и в то же время представляют собой реминисценцию «Карнавала», впервые показанного в феврале того же 1910 года, в котором сам Мейерхольд играл роль Пьеро. Но и балет самого Фокина, возможно, был навеян «Балаганчиком» Блока, поставленным Мейерхольдом в театре Веры Комиссаржевской в Петербурге 30 декабря 1906 года. Во время этого спектакля «по бокам и сзади сцены свешивались синие драпировки», а Пьеро «вздыхал и размахивал рукавами» (Мейерхольд В. О театре. С. 198, цит. по кн.: Edward Braun. Meyerhold on Theatre, p. 71). «Балаганчик» был одним из предполагаемых названий для «Петрушки», от которого впоследствии отказались (также рассматривались названия «Масленица» и «Последний день Масленицы»), Начало действия возвещалось ударами в большой барабан. Несомненно, Стравинский, Бенуа или Дягилев вспомнили об этом, когда решили соединить три сцены «Петрушки» и сопровождать перемену декораций барабанным боем.
[Закрыть]. Они с Мейерхольдом всегда критиковали друг друга. 9 октября 1910 года Мейерхольд показал в ресторане-кабаре Дома интермедий программу, включавшую «Покрывало Пьеретты» Артура Шницлера, которую переименовал в «Шарф Коломбины», на музыку Донани, с декорациями Сапунова. Как и в «Петрушке», создатели пытаются воспроизвести жутковатую гофмановскую атмосферу. Между страдающим от безнадежной любви Пьеро, заключившим с Коломбиной договор о самоубийстве, который она не выполнила, можно провести аналогию с Петрушкой. Церемониймейстер, большеголовый Капельмейстер, распоряжающийся судьбами персонажей с высоты своего табурета, увидев Коломбину мертвой рядом с Пьеро, в ужасе бежит через зрительный зал, словно признавая свою вину. Его образ в какой-то мере предвещает играющего на флейте Фокусника Бенуа и его финальный уход со сцены в преследующим его призраком Петрушки.
Когда поднялся занавес, открыв декорации Бенуа к «Петрушке», французская публика увидела перед собой картину русской зимы – страшного врага, одолевшего их предков в 1812 году. Но Бенуа создал яркую и красочную сцену среди снега. Последний день Масленицы, на следующий день начнется Великий пост; время действия – 1830-е годы; на троне Николай I, младший брат Александра, союзника и врага Наполеона. Над ярмарочными палатками и флажками вздымается стройный позолоченный шпиль Адмиралтейства, за которым вне поля зрения лежит застывшая Нева и острова, где Пушкину предстоит сразиться на своей роковой дуэли. По обеим сторонам раскинулись балаганы, или временные деревянные театрики со своими расписными вывесками. Слева балаган с красными в серую полоску занавесками внизу и желтым балконом наверху. С этого балкона Балаганщик будет трясти своей длинной фальшивой бородой. Справа от центра, наполовину скрытый каруселью и нависшей над ним спиральной горкой, стоит балаган русского Панча и Джуди, а точнее – Петрушки с вывеской, изображающей, как черт тащит Петрушку в ад. Это своего рода сцена на сцене, где произойдет микрокосмическая драма кукол Фокусника на глазах у дефилирующей мимо равнодушной толпы. Но Бенуа, мастер-фокусник и мастер-кукольник, с типичным для Гофмана (или Пиранделло) юмором, а его юмор равен поэзии, обрамляет ярмарочную площадь аркой большого театра с людьми, выглядывающими из окон своих раскрашенных коробок. Совпадение ли то, что этот наружный театр голубой, как наше небо, и что приоткрывшаяся над отделанным золотистой бахромой ламбрекеном просцениума узкая полоска потолка, написанного с ложной перспективой, украшена желтым солнцем? Коробка внутри коробки: мир по ту сторону мира. Художник поддразнивает нас, намекая на то, что «реальные» люди из ярмарочной толпы – такие же куклы, как и раскрашенные, набитые опилками фигурки, прячущиеся за занавесом балагана, и даже мы сами, так благополучно разместившиеся за рампой, в действительности тоже всего лишь куклы. Кажется, он спрашивает вместе с Омаром Хайямом: «Где здесь гончар и где горшок?»
Сцена заполнена прогуливающейся толпой. Бенуа позже описал, какого труда ему стоило заставить их «жить».
«На репетициях я следил за тем, чтобы и последний статист точно исполнял порученную ему роль, и в ансамбле смесь разнообразнейших и характерных элементов производила полную иллюзию жизни. «Люди хорошего общества» являли примеры изысканных манер, военные выглядели типичными фрунтовиками эпохи Николая I, уличные торговцы, казалось, всерьез предлагали свои товары, мужики и бабы походили на настоящих мужиков и баб. При этом я не разрешал никакой «импровизации», никакого переигрывания».
Аристократические пары прогуливались под руку, за ними следовали ливрейные лакеи с кокардами и несли запасные пальто; конюхи и кучера пьянствовали, кадеты отдавали честь офицерам. «Одни наслаждались чаем из самовара, другие слушали бессмысленную болтовню старика, молодежь играла на гармошке, парни лакомились солеными крендельками, девушки грызли семечки». Вращались крылья больших колес, похожих на мельничные. Дети катались на карусели.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.