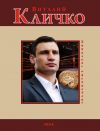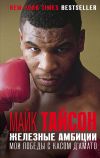Автор книги: Алексей Самойлов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 53 страниц)
До Великой Отечественной мы жили в Петрозаводске на улице Калинина, за кинотеатром «Сампо». Когда собрались в эвакуацию, бабушка уложила несколько тысяч книг отцовской библиотеки в ящики (отец погиб в январе сорокового на войне с Финляндией), выкопала во дворе яму и опустила в нее ящики. Все, что было спрятано, украли. Уцелели только «Агрохимия» Прянишникова (отец и мать были агрономами) и «Война и мир» в четырех томах, оставленные в книжном шкафу.
В эвакуации мы были в Астрахани, куда бабушка отвезла меня и моего младшего брата Мишу к своей старшей дочери, тете Шуре, сестре моей мамы. В Петрозаводск вернулись в конце июля сорок четвертого. После шумной, густонаселенной во время войны Астрахани мой родной город казался тихим и сиротливо просторным. Его центр и набережная лежали в руинах, как в Сталинграде. В октябре сорок четвертого пошел в школу. Тогда же попытался освоить «Агрохимию» и «Войну и мир». Но Прянишников и Толстой оказались первокласснику не по зубам…
Почему я вспоминаю эвакуацию (нас бомбили и по дороге в Астрахань, и в самой Астрахани, когда шла битва за Сталинград), войну, «Войну и мир» в повествовании об игре, о мужской сборной СССР, сильнейшей в мире команде последних лет, играющей в волейбол для развлечения человечества? Кого и в чем пытаюсь убедить, когда сопрягаю такие разнокачественные материи как «война», «мир», «человечество» и «игра»?
Себя, самого себя убеждаю, что не пустым делом занимался, когда столько времени отдавал игре и на спортивных площадках и театральных подмостках – сначала как действующее лицо, потом как рецензент чужих игр. Теперь вот вспоминаю об этом.
Надо ли еще и вспоминать?
В восьмом классе я был заворожен пленительным языком «Горя от ума» Грибоедова. В школьном литкружке, весной 1952‑го, когда отмечалось столетие со дня смерти Гоголя, сделал доклад о самом необыкновенном русском писателе. За два года до этого в «Новом мире» прочитал роман «Студенты» Юрия Трифонова и влюбился в этот текст и его автора.
Сам Юрий Валентинович не любил свое детище, за которое получил Сталинскую премию. В зрелых вещах он ушел далеко от «Студентов». Его первый роман во многом несовершенен, но ощущение свежести – взгляда, языка, молодой страсти – от чтения трифоновских «Студентов» осталось во мне с отрочества. Первую свою рецензию – в школьном читательском дневнике – написал на «Студентов».
Страсть к спорту Трифонов пронес через всю жизнь. Никто из наших литераторов так тонко не чувствовал, так глубоко не понимал спорт, как Юрий Трифонов.
Вспоминая свое довоенное детство, прошедшее в доме на набережной Москвы-реки (много лет спустя на сцене Театра эстрады, помещавшегося в этом доме, проходил второй матч Ботвинник – Таль), Трифонов посвятил очерк «История болезни», опубликованный в «Советском спорте» 27 апреля 1961 года, школьному другу Лёве Федотову.
«С Лёвкой Федотовым меня связывало так много! Он был замечательный человек. Когда-нибудь я напишу о нем. Я напишу о его храбрости, о его таланте, о его любви ко всем наукам, ко всем книгам, ко всем великим людям, ко всем искусствам. Он был смуглый, коренастый, лицом немного монгол, с золотыми славянскими волосами. Мы ходили с ним на шахматный турнир (Второй Мос ковский международный турнир проходил в 1935 году. – А. С.) в музей имени Пушкина – через Каменный мост… Мы увлекались шахматами так же, как астрономией, исследованием пещер, собиранием марок, джиу-джитсу…
Мы болели за Ботвинника. Он был наш, советский, и он приносил нам радость – побеждал!.. Лёвка играл в шахматы хуже меня, зато замечательно рисовал и писал научные романы в общих тетрадях.
Мы преклонялись перед талантами Лёвки Федотова. Он был гигантом и гордостью нашей школы. Как-то мы шли из парка, на нас напали ребята на Кадашевской набережной, и Лёвка уложил четверых при помощи джиу-джитсу. Во время испанской войны Лёвка, надеясь поехать добровольцем, закалял свою волю и ходил по карнизу моего балкона на пятом этаже. Он был близорук, у него было слабое сердце. Потом я уехал из этого дома. Тогда многие уехали (четырнадцатилетний Юра, сын “врага народа”, вместе с сестрой и бабушкой был выслан из дома на набережной на окраину Москвы. – А. С.). Но Лёвка продолжал жить там же, в маленькой квартирке на первом этаже, вдвоем с матерью, и я приезжал к нему в гости. Я гордился дружбой с ним и знал, что он станет великим человеком. Лёвка погиб на войне.
Вот о чем я вспомнил, глядя из окна на мрачные бетонированные стены этого дома, такого чужого, такого далекого. И я подумал о том, что шахматы – не просто игра. Они часть нашей жизни. Часть жизни, понимаете? В том-то и дело».
Да, конечно, шахматы – часть нашей жизни. Как и волейбол, баскетбол, футбол, хоккей. Имена Ревы, Щагина, Ульянова, Коркия, Лысова, Александра Белова и Кондрашина, Боброва, Бескова, Яшина, Стрельцова, Харламова впечатаны в память моего поколения. Стоит только потянуть ниточку, стоит только начать вспоминать…
Но стоит ли? Надо ли рассуждать в такое тревожное время об игре, о звездном ее часе в час, когда над миром нависла угроза «звездных войн»?..
Юрий Трифонов, утверждавший ценность игры в 1961‑м, через двадцать лет писал о ней в другой тональности. Статья «Загадка и провидение Достоевского», полученная редакцией «Нового мира» незадолго до смерти Трифонова, была опубликована в конце 1981‑го. «Почему гнев и боль Достоевского живы сегодня? Наше время переломное: жить дальше или погибнуть? Мир вокруг колоссально и чудовищно переменился. Достоевский с его фантазией не мог бы предположить, каковы перемены. Нынешний Кириллов обладает абсолютной способностью взорвать вместе с собой население Земли, чтобы стать богом. В 1975 году в Америке двадцатилетний физик соорудил из спортивного интереса атомную бомбу за пять недель… И все же характер человечества остался тот же: противоречивый, забывчивый, легкомысленный. Мировой Скотопригоньевск опомнится лишь тогда, когда вспыхнет пожар. Диктор Французского радио сказал в 1978 году: «Смерть Альдо Моро заслоняет всю остальную действительность. Но все же я сообщу вам о результатах бегов…» Бега продолжаются. Люди интересуются их результатами».
Статья Юрия Трифонова продолжала разговор о Достоевском, который начали в журнале Алесь Адамович и Даниил Гранин.
В «Блокадной книге» нет ни слова о спорте, даже о легендарном футбольном матче, в котором победило мужество ослабевших от голода, но несломленных людей. Поначалу, на стадии сбора материалов, рассказывал мне Даниил Александрович, соавторы намеревались посвятить блокадному футболу главу, но она упорно не ложилась в «Блокадную книгу». Спортивная игра, изначально радостная, дающая ощущение счастья, и страдания, принесенные войной, не сочетались под одной обложкой.
Даниил Гранин прошел войну танкистом, Алесь Адамович партизанил в белорусских лесах. «Конечно, и без нас, если мир, если жизнь продлятся, литература скажет свое веское слово против третьей мировой войны. Может быть, великое на весь мир слово, – пишет Адамович в статье “Overkill”, в январском номере журнала “Дружба народов” за 1985‑й. – Но верится, что именно писатели, пережившие мировую войну, свое слово скажут. Больше писателей, переживших войну мировую, не будет никогда!»
Поражает простая, в сущности, мысль: наши поколения единственные в истории, поскольку в нашем личном опыте мировая война – последняя. Если маньяки развяжут третью мировую, никто не сможет ее вспомнить: все сгорит в атомном пламени… Жить дальше или погибнуть? Быть или не быть человечеству? До игры ли тут? До игр ли?..
Мое поколение в танках не горело, в партизанских болотах не мокло. Но и оно – вдруг понимаешь отчетливо, и зябко становится от этого понимания – тоже единственное, кто может рассказать о своей мировой войне: мы не были ее участниками, но свидетелями были.
Сережа (сын моего друга по Ленинградскому университету Бориса Грищенко, работающего в Москве) в свои десять лет знает все модели советских и немецких самолетов времен Второй мировой, на его письменном столе рядом с «Таинственным островом» Жюля Верна и журналом «Костер» стоят два темно-зеленых танка КВ и Т-34 из деталей детского конструктора. Сколько, оказывается, у немцев было самолетов, мы-то знали только «Юнкерсы», «Фокке-Вульфы», «Мессершмитты», «Хейнкели» – Сережа, по альбомам и справочникам, знает десятки разновидностей. Какие из них налетели на наши баржи в июле сорок первого и начали нас бомбить, неизвестно…
Игры пришли потом, когда мы вернулись в Петрозаводск из эвакуации.
Натерпевшиеся, настрадавшиеся за войну люди потянулись к спортивной игре с ее неоспоримой, беспримесной, абсолютной радостью.
До игр ли тут? До игры ли?
Спорт, игра – я убежден в этом – не только приносят нам новые сведения о нас самих, но и могут способствовать росту человеческого в человеке. Только не скачки-бега, не вакханалия азарта и корысти, которым предается «мировой Скотопригоньевск», а игра, согретая душой.
Ты не спеши. Но золотая
И мудрая твоя печаль
Пускай поднимется, святая,
И поплывет к другому краю,
А ты, наоборот, причаль.
Другие души, камни, глины
Светлее станут и стройней,
Смягчатся, как между своими,
Сердца народов и людей.
Эти стихи были напечатаны в том же журнале, что и статья Адамовича «Overkill», только четырьмя годами раньше. Страничка журнальная со стихами называлась «Памяти товарища». Коллеги, друзья прощались с Александром Орловым, редактором (он редактировал и произведения Юрия Трифонова), поэтом, много лет игравшим за команду МГУ и умершим на волейбольной площадке.
Уходят из жизни люди игры – Владимир Саввин, Владимир Ульянов, Анатолий Чинилин, защитники Отечества в военную годину. И поэты уходят. А игра живет и будет жить, пока люди не разучились радоваться бегущей воде, шумящей под ветром листве, летящему мячу, будет жить, чтобы смягчать сердца народов и людей.
1985
Предисловие к послесловию
Моя книга «Время игры» (М.: «Физкультура и спорт», 1986) – о муках любви. Любви к женщине, свободе, искусству, спорту, красоте, игре. Корень игры – гармония, красота. «А корень красоты – отвага» (Борис Пастернак «Осень». Из цикла «Стихи из романа»).
В романе «Доктор Живаго» сказано: «Человек в других людях и есть душа человека… В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью». Не знаю почему, но я чувствую себя не вполне своим в мире взрослых. «Я состарился, но так и не вырос» – могу повторить эти слова Федерико Феллини, сказанные им за два месяца до смерти. Для человека такого типа важны люди-магниты, к которым бы он тянулся. Потребность испытывать нежность и восхищение сопровождает мою полувековую профессиональную карьеру. Я не могу написать ничего стоящего о человеке, если не влюблен в него. Я продолжаю играть, как семьдесят лет назад, и, выходит, никогда не расставался со своим детством. Игра ведь многомерна: это и сфера детства, и способ познания мира, и часть жизни, и потому, рассказывая об игре, рассказываешь о жизни.
Книга «Время игры» была замечена. Читать похвалы в газетах и журналах разных городов, получать благодарные письма читателей было приятно. Но одно критическое замечание в рецензии В. А. Новоскольцева (главный редактор «Советского спорта» в 60‑е и 70‑е годы, он напечатал немало моих репортажей и очерков в своей газете) задело меня за живое.
Похвалив автора («Отдавая всем свое сердце, А. С. все же большую его часть отдает тренеру… Очень здорово написано, теперь так о спорте пишут редко»), Новоскольцев под занавес врезает ему. «Конечно, автор имеет полное право начинать повествование с “я” и им кончать… Но А. С. несколько нарушил желаемое равновесие скромности.
Излишне много о своем жизненном пути автор повествует в главах, названных им “Тайм-аут”».
Скромность помянута рецензентом совсем не к месту. Неужели непонятно, что, изучая себя, ты изучаешь жизнь, изучаешь других людей?! Ведь слабый человек силен потому, что может познать самого себя. Об этом знали еще древнегреческие философы, а Трифонов стал классиком русской литературы именно потому, что, как заметила Инна Гофф, «никогда не пытался уйти от себя, а пробивался к себе: изучал, осмысливал, рассматривал на просвет жизнь, которая была в нем самом и вокруг него».
Льщу себя надеждой, что сумел чему-то научиться у Юрия Трифонова. Жаль, что послесловие почти четвертьвековой давности, мое признание в любви Юрию Трифонову не вошло в мою книгу «Время игры».
Я посвящаю этот текст памяти Владимира Кондрашина и Вячеслава Платонова – гениев игры, родившихся в январе, один восемьдесят, другой семьдесят лет тому назад. Им обоим – тут Владимир Новоскольцев прав – я отдал большую часть своего сердца.
4. «Химик, глотай химикалий ртом!»2009
Международной волейбольной федерацией с незапамятных времен до 1984 года руководил господин Либо, среброголовый парижский архитектор. Ему, должно быть, на роду было написано стать волейбольным президентом. Слышите, как резонирует одно произнесенное подле другого слово: Либо и – волейбол. Их зарифмовала сама судьба. Судьба и три беспечных филфаковских поэта, только что завершивших поэму о деде Мокее и его внуках, акмеисте и хоккеисте в будущем: «Сидя на завалинке, дед Мокей советовал внукам играть в хоккей…»
Сидя на подоконнике, напротив главной филфаковской аудитории, поэты приняли от факультетского спортбюро заказ на рекламу нашего завтрашнего финального матча с химиками на первенство университета, потребовали минимум информации о нашей команде и волейболе, «пошевелили абрикосами» (так называли они протекание творческого процесса) и позвали меня, председателя спортбюро, принимать работу.
Начало было такое: «Химик, глотай химикалий ртом: удивляться нечего! Играем с Панкратовым не хуже, чем с Калертом, а с Калертом не хуже, чем с Анейчиком!»
Перечислив весь наш состав и запугав химиков до посинения, поэты воззвали к лучшим чувствам прекрасных дев-филологинь, призывая их прибыть завтра к девятнадцати ноль-ноль на Десятую линию Васильевского острова в спортзал матмеха для бурного изъявления восторга игрой своих и подавления волной неуправляемых эмоций противной стороны. А чтобы никто не усомнился в грандиозности завтрашнего события, чтобы все поняли его эпохальную значимость, поэты поясняли: «Интерес к встрече определим вкратце: если б прибыл на матч господин Либо, президент Международной федерации, и он бы пришел смотреть волейбол!»
Один из трех поэтов, мой товарищ по группе, разносторонне талантливый, как Леонарадо (еще в школе переводил Байрона, шил брюки и рубашки, был главным художником многоверстовой стенгазеты «Журналист», где изобразил чуть ли не в натуральную величину ректора университета, академика и альпиниста; он, поэт, а не ректор – переплывал Неву в пору ладожского ледохода и унаследовал от отца, актера, бархатный бас, звучавший долгие годы на ленинградском радио и позволивший Виктору Голявкину написать рассказ «Густой голос Выштымова»), наш Левша, левой, как Леонардо, рукой нарисовал на ватмане волейбольную сеть и в каждую ее клетку вписал цветной тушью: «Химик… глотай… химикалий… Господин… Либо… волейбол».
Могучие химики, грозные химики, непобедимые химики, краса и гордость очень мужского факультета, были разбиты наголову командой самого женского факультета, командой, в которой не было ни одного запасного!
В волейбол они играли лучше нас, чего там… Но у них не было таких поэтов, и таких болельщиц у них не было. Так что удивляться нечего: играли мы с Панкратовым не хуже, чем с Калертом, а с Калертом не хуже, чем с Анейчиком…
Валя Калерт, хрупкий, изящный, ушел из жизни молодым. Остальные из нашей университетской команды работают – один пишет сценарии научно-популярных фильмов, другой, доктор наук, – солидные монографии о Горьком и Бунине, третий – очерки в рязанской областной газете, а еще одного я потерял из виду…
Мы пришли в университет осенью пятьдесят четвертого, а дипломы получили летом пятьдесят девятого… Время незабываемое.
В большой филфаковской аудитории обсуждается роман Дудинцева «Не хлебом единым», динамики транслируют голоса спорящих на оба этажа, забитых не попавшими на диспут; на танцах в общежитии капитан нашей волейбольной команды Лось, демонстрируя собравшимся фигуры новейшего танца рок-н-ролла, роняет партнершу; по невским набережным, залитым водой (очередное наводнение), бродят английские моряки с прибывшего в Ленинград с дружеским визитом английского крейсера «Аполло»; летом мы строим коровники в колхозах Ленинградской области, помогаем убирать хлеб в целинных совхозах Алтая и Казахстана; сдаем экзамены по новым, только что введенным для журналистов курсам – экономике промышленности и экономике сельского хозяйства; на комсомольском курсовом собрании прорабатываем сокурсника за то, что осенью на картошке тот читал «Так говорил Заратустра» Ницше (наш записной острослов Бубрих, не состоящий ни в каком родстве с известным филологом, специалистом по финно-угорским языкам, сказал по этому поводу: «Много шума из ницшего»), другому врезаем за плагиат – на первой же практике в городской газете он тиснул очерк о шоферах, наполовину сдув его из романа Рыбакова «Водители»…
Из четырех журналистских групп курса только во второй, нашей, у «англичан» (мы разбиты на группы соответственно изучаемому иностранному языку) нет ни одного солидного человека. Мы все попали в университет сразу после десятого класса, а «французы», «итальянцы» и «немцы» в большинстве своем и повоевать уже успели, и газетную лямку тянули и смотрят на нас как на салажат. Рядом с боцманом Палычем (он проходит у нас как «ботик русского флота») и его фронтовыми друзьями мы и есть салаги, хотя и прошедшие блокаду, оккупацию, бомбежки, кому что выпало. Для них мы салаги и пижоны, или, как говорит бывший майор «старик Яков» (старику и сорока нет, он был на фронте всю вой ну), – «артисты». Говорит не в осуждение, без злобы и зависти, иногда даже с оттенком восхищения.
Иронический молодежный стиль, входивший тогда в моду, если и задел нас, то лишь по касательной. Мы дышали воздухом надежды, перемен, открытий, он пьянил нас, мы захлебывались от новых ритмов, новых песен, новых слов, мы были переполнены небывалой, неслыханной новизной жизни, мы спорили, не слыша самих себя, были постоянно возбуждены, может быть, даже смутно ощущали, сколь серьезно все, что происходит вокруг, что происходит с нами, но ни за что не признались бы никому, что это нас по-настоящему трогает, что этим мы всерьез обеспокоены, взволнованы, задеты. И чем больше удивительного происходило на наших глазах, тем меньше мы удивлялись. Изо всех сил старались не удивляться, не принимать происходящее очень уж всерьез, не строить планов личного преуспеяния – последнее считалось чем-то неприличным, безвкусным, пошлым. Голова шла кругом – в нашей стране 4 октября был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, а вечером 5 октября мы распевали на Невском частушку: «Ракетная игрушка взлетела в небеса. Нам жить с тобой, старушка, осталось полчаса…» Сочинительством нас не удивишь: сочиняют все, сочиняют всё – частушки, песни, стихи, рассказы, пьесы… Более редким и потому более почитаемым был дар импровизаторства. У нас в группе сразу два имитатора, один специализируется на показе-передразнивании вузовских преподавателей и своего брата студента, другой разыгрывает в лицах всевозможные исторические сцены.
Старику Якову, называющему нас «артистами», нельзя отказать в проницательности: все мы лицедеи, все живем, играя.
Это надо понимать и буквально: во что только не играли мы за пять студенческих лет. О таких, как Лось и наш сильнейший нападающий факультетской сборной мой друг Орлуша, да и я, и говорить не приходится. Мы – спортсмены, играем за университетские команды на первенство города по волейболу, гандболу, баскетболу, а на студенческих стройках – еще и в футбол. Есть у нас и два шахматиста, они же – лучшие преферансисты, один известен в общесоюзном и мировом масштабе.
Современные теоретики игры разделяют игры на две разновидности – импровизационную, свободную, не связанную никакими условиями, правилами (по-английски «play») и игру по правилам, о которых заранее договариваются между собой участники (в английском – «game»). Организованные игры в свою очередь делятся на спортивные, где игроки полагаются на свои силы, и на игры фатума (рулетка, лотерея, игра в кости, отчасти в карты), где игроки доверяются всё разрешающему случаю. Играм фатума мы, получившие сугубо рационалистическое и атеистическое воспитание, не привыкшие уповать на чудо, платим значительно меньшую дань, чем спортивным. Притягательными, преимущественно для старшего поколения нашего курса, были карты, хотя сомневаюсь, чтобы учредители «Клуба четырех королей» в университетском общежитии на канале Грибоедова согласились бы с отнесением карт к играм фатума. Они-то полагались не на слепой случай, а на свой интеллект!
Мы, «англичане», в тот клуб не ходили. У нас был свой, на проспекте Маклина. Здесь жил наш друг Боря (он же Роковой), у него было оксфордское произношение, как утверждала Вероника Николаевна, преподаватель английского; мы не удивлялись: какое же еще должно быть произношение у эсквайра, сына эсквайра. Эсквайром Бобом С. Грисченкай сделал его в своей повести-легенде о нашей группе художник-поэт-модельер-«морж» Левша, а вообще-то Роковой родился на Дальнем Востоке, где строил корабли его отец Сергей Сергеевич. В их доме и был наш клуб; здесь нас потчевала пирожками и котлетами добрейшая Александра Ивановна, мама Рокового и его младшего брата Кролика; здесь мы собирались перед экзаменами по литературе и рассказывали друг другу «закрепленные» за нами произведения: один – «Домби и сын», другой – «Ярмарку тщеславия», третий – «Житейские истории кота Мура»; здесь после экзаменов слушали Луи Армстронга, Эллу Фицджеральд, здесь устраивали футбольные турниры с участием сборных Бразилии, Англии, Франции, ФРГ – играли пуговицами на большом столе, Кролик, тогда школьник, не знал себе равных, у него были два блестящих перламутровых форварда: Копа и Фонтен.
Игра для нас – не только игры, от всамделишного волейбола до пуговичного футбола, от шахмат до карт. Игрой было пропитано, пронизано все наше существование, весь наш неустроенный, хаотичный, театрализованный студенческий быт, где все на виду, все демонстративно, все преувеличено – и страсти, и мечты, и таланты, и катастрофы, и триумфы.
Зуд соперничества и лицедейства не давал нам покоя. Мы всех передразнивали; случалось, разыгрывали защиту газетной практики после третьего и четвертого курсов с ее ритуалом оппонирования и сшибки мнений; на сессиях полагались не на знания, а на разработанные нами двенадцать психологических правил сдачи экзаменов; сама процедура сдачи экзаменов рассматривалась нами как поединок, причем противоборствующая нам сторона ни в коем случае не должна была почувствовать состояния борьбы; процедура должна была выглядеть как поединок равных, разумеется, не по знаниям – утопистами мы не были, – а по отношению к сдаваемому предмету, по степени поглощенности им, по энтузиазму, им вызываемому, мы не должны были уступать принимающим (это требовало тонкости «приспособлений», дабы не переиграть, определенного знания самого предмета и точного знания характера и привычек экзаменатора)… Конечно, можно играть всегда строго по позиции, не обращая внимания на особенности партнера, как делают это сильные, уверенные в себе гроссмейстеры классического стиля, но мы в те годы были достаточно самоуверенны, но не достаточно уверены в себе.
Мы разработали эти принципы всемером – художник-поэт Левша, Роковой, Бубрих, Эдик по прозвищу Шевалье, непревзойденный исполнитель песен Вертинского, Виталий, он же Кум, лучший самбист университета, Орлуша и я; мы не скрывали их от сокурсников, хотя и предупреждали, что дело не в принципах, а в умении сымпровизировать на заданную тему. При относительном равенстве запаса знаний и способности к комбинаторике лучших результатов добивались те, кто, выйдя из детского возраста, не потерял способности к перевоплощению и даже развил ее в школьных драмкружках, студиях при Дворцах пионеров и Домах культуры, на сценах любительских и даже профессиональных театров. Многие из нас, и практически все создатели «теории», в школьные годы такой тренинг имели. Роковой с братом Кроликом и его приятели создали домашний театр, в котором разыгрывали самими сочиненные пьесы; Бубрих в своей Луге основал «театр одного актера» и владел разнообразными жанрами – от манипулирования в представлении «Китайские тени» до чревовещания, а в школьном драмкружке был Ваней Солнцевым в катаевском «Сыне полка», на вопрос щеголька-кавалеристёнка: «Чего стоишь?», отвечавшим независимо: «Хочу – и стою»; Левша играл в Оренбурге на школьной сцене в «Горе от ума» с Виктором Борцовым, своим одноклассником, который окончил Щепкинское училище, стал актером Малого театра и в начале восьмидесятых сыграл в телевизионном фильме из жизни пятидесятых – «Покровские ворота»; поставил тот фильм Михаил Козаков, вместе с ним работал над несколькими телевизионными спектаклями Орлуша.
«Актер должен переодеваться!» – то и дело произносит один из героев «Покровских ворот». О, это наш постоянный обряд – переодевание, хотя гардероб наш более чем скромен, и только Роковой одет безукоризненно, потому что шьет костюмы у старых закройщиков в Таллинне, где живут родственники его матери.
Переодеваемся, перевоплощаемся ежедневно, но на сцену нас больше что-то не тянет. Только Роковой похаживает в драмстудию к филологам английского отделения, они ставят «Пигмалиона», он небрежно бросает: «Забавно, да и в языке полезно поупражняться», но мы-то знаем, что на филфак, на английское отделение, поступила Лариса с толстой льняной косой, шестнадцатилетняя полиглотка – ее портрет мы видели на выставке Акимова, и Роковой, большой любитель живописи, был смертельно ранен этим портретом и самой моделью, однако, вовремя вспомнив о своем оксфордском произношении и врожденном артистизме, бросился репетировать Шоу…
На сцену нас не тянуло, но театр значил для нас страшно много.
Мое первое театральное потрясение – Николай Симонов в «Живом трупе», первый раз я увидел его еще школьником, семиклассником, когда приезжал на зимних каникулах из Петрозаводска в Ленинград, а всего видел раз четырнадцать. Через много лет я познакомился с ним, когда брал интервью для газеты в петрозаводской гостинице «Северная», случайно упомянул об увиденной недавно в Москве, в Вахтанговском театре «Принцессе Турандот» (возобновлении спектакля самого Вахтангова), сгорая от стыда, по просьбе Николая Константиновича, показывал великому артисту, как вахтанговцы это делают, и был вознагражден за все… Симонов признался, что был влюблен в «Турандот» и дважды, зайцем, хоронясь под полками вагона, мотался из Питера в Москву в начале двадцатых годов, а потом сыграл передо мной, единственным зрителем, множество сцен из вахтанговского спектакля – и столько упоения, веселого озорства было в импровизациях артиста, названного при жизни «великим русским трагиком»…
Как-то я рассказал Иннокентию Михайловичу Смоктуновскому о том, с какой неожиданной стороны открылся мне Симонов, играя-вспоминая «Турандот». И Смоктуновский, только что вернувшийся из Ленинграда, со съемок телевизионной версии «Моцарта и Сальери», признался, что никогда не предполагал, сколько в Симонове веселья, какая бездна юмора – «о деликатности, такте, доброте уж и не говорю, это все отмечали, кто имел счастье встречаться с Николаем Константиновичем».
Смоктуновский – князь Мышкин – второе мое театральное потрясение. Не только мое, наше: все мы, кто учился и жил в Ленинграде во второй половине пятидесятых, открывали мир в себе и себя в мире с помощью Достоевского, Товстоногова и Смоктуновского. О спектакле БДТ «Идиот» написаны монбланы статей. Тонкому критику Раисе Беньяш в книге «Без грима и в гриме» удалось зафиксировать «неповторимое в самом летучем и ускользающем из всех искусств – искусстве актера». Анализируя спектакль Товстоногова, она писала: «Безумие Мышкина – это у Смоктуновского заболевание справедливостью. Оказавшись перед необходимостью выбирать между собственным счастьем и справедливостью, он пожертвует счастьем. И никогда – справедливостью».
С Иннокентием Михайловичем я познакомился через Орлушу, который женился на актрисе БДТ и какое-то время жил в одной коммунальной квартире на Московском проспекте с семьей Смоктуновских. К этому времени мы уже окончили университет, разъехались по разным городам, но при первой возможности наведывались в Ленинград и собирались то на Марата у Бубриха, то, по старой памяти, у Рокового на Маклина, то у Орлуши…
Трудно себе представить более непохожих людей, чем Симонов и Смоктуновский. В Симонове ничего лицедейского – он простодушен, скромен до застенчивости, нерасчетлив, размашист, широк, в нем живет, если вспомнить толстовского Федю Протасова, «не свобода, а воля», и эту волю и одиночество художника он оберегает от случайного прикосновения, от непрошеного вторжения, оберегает тем, что, уходя в себя, отмалчивается, проводит часы за мольбертом, за прогулками по набережным Невы… Смоктуновский заслоняется от словословия, бесцеремонности, невежества, всякого «сора» жизни системой тщательно продуманных уловок, уходов, уклонов, нырков. Он ценит в себе совсем не то, чем восторгаются критики, об этом мы разговариваем иногда во время встреч в Ленинграде и у него дома, на Суворовском бульваре в Москве (он пишет воспоминания, статьи для нашего журнала, и я встречаюсь с ним как редактор с автором). Он не считает себя актером-интуитивистом, чей эмоциональный аппарат от природы настроен на волну чистой, беспримесной правды, актером с поставленным от природы вкусом, актером, чувствующим фальшь кожей – тоже от природы. Его не устраивает подчеркивание – «от природы», ему не нравится, когда пишут о его гениальных прозрениях, догадках, намекая, что он сам не ведает, что творит. Однажды он сказал мне: «Знаете, кто я такой? Я трудяга, не без способностей. А истинный, от Бога, талант был Павел Луспекаев…» Гордится выстроенностью, продуманностью своих ролей, тем, что контролирует разумом даже самые невероятные по крутизне спуски в глубины психики своих героев. А как он вознегодовал, когда в рукописи книги о себе прочитал, что на войне был недотепистым интеллигентом, неуместно штатским вроде сыгранного им математика Фарбера в фильме «Солдаты». Никогда не видел его на таком градусе возмущения: «Да я вот этими руками… Да я же в разведке воевал…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.