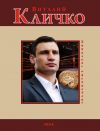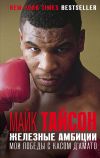Автор книги: Алексей Самойлов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 51 (всего у книги 53 страниц)
– Деление на поколения малосодержательно и главного в нас не объясняет.
– А что объясняет? И что в нас главное? Приходи и облегчи душу. К тому же наша передача называется не «Исповедь шестидесятников», а «Исповедь шестидесятых».
Особой разницы я, признаться, не уловил, но в эфире попытался поставить под сомнение неправомерное, преувеличенное значение исторического времени как строительного материала души, бессмертной субстанции, что связывает нас с вечностью, души, чья сокровенная жизнь разворачивается не только и не столько в историческом, сколько в бытийном плане.
Исповедь, ведущаяся в координатах хронологии, точно обозначенного исторического времени, есть свидетельские показания одномерного человека. Отнесенность к поколению – форма обобществления личности. У личностей, загнанных классификаторами в поколения, отобрано все сугубо индивидуальное: мыслительный жест, поведенческая реакция. Они вынужденно манифестируют не себя как частицу духа, не бессмертную душу, не отпечаток своих следов на песке времени, а принадлежность к поколению, определяющуюся, в общем-то, случайными фактами: рождением в 1936‑м, окончанием школы в 1954‑м, университета в 1959‑м и тому подобной биографической хронологией.
Помнится, как в начале 60‑х советская пресса издевалась над юным американским гроссмейстером Бобби Фишером, когда на межзональном турнире в Тунисе он, не желая играть за столиком под звездно-полосатым флагом, получил выговор от американского посла: «Не забывайте, молодой человек, что вы представляете здесь Соединенные Штаты Америки» – и высокомерно, заносчиво (терминология нашей прессы) ответил представителю госдепа и президента США: «Запомните, я никогда никого не представляю, кроме Роберта Джеймса Фишера».
Мы, да и американцы, писали тогда о мании величия восходящей шахматной звезды, между тем это была мания личности.
Наивный, малообразованный американский гений при всей неслыханной дерзости и отвратительном нам, коллективистам, индивидуализме был прав. Все мы – граждане определенного государства, представители той или иной расы, вероисповедания, поколения (число загонов, ниш, куда мы отнесены, неисчислимо), так что, казалось бы, смешно говорить, что я, имярек, никого не представляю, кроме себя самого. Но то, что нас отличает, куда существеннее, чем то, что объединяет и заставляет представлять свою землю, язык, нацию. Как личности мы отличаемся в одном поколении, скажем, шестидесятников больше, чем наше поколение отличается от родившихся ранее нас или пришедших нам на смену.
В одном поколении, даже таком дикарском, как наше, были и есть люди, ориентированные на вечное (незадолго до своей гибели отец Александр Мень, говоря о перестройке, пробудившей не только силы добра, но и силы зла, взывал: «Нужно ориентировать людей на вечное»), которые ни при каких обстоятельствах не могут уверовать в бессмысленность вселенной, влюблены в метафизику, убеждены в существовании абсолютного начала, и их антиподы, чья мыслительная оптика направлена не «зрачками в душу», а вовне, для кого внутренняя жизнь нечто нереальное; работники, делатели, преобразователи природного и социального ландшафта.
Разумеется, созерцатели и делатели, верующие и агностики, метафизики и лирики в разных дозах входят в состав любой поколенческой когорты. Каждый из нас знает, кто есть кто в его ближайшем кругу, среди сверстников, как знаю я про тех, с кем учился в ЛГУ. И если что их, таких непохожих, объединяет (и разводит), так это разная степень ориентированности на вечное, подключенности к вечности. Наличие в человеке корпускулы вечности существеннее для понимания этого человека, нежели его принадлежность к поколенческой команде.
Пароль и отзыв этой команды, самое употребительное слово в частотном словаре поколения – «свобода».
Теперь вот говорят: шестидесятники не выдержали испытания свободой. Говорят, мы заработали кессонную болезнь свободы, когда нас одним рывком выдернули из глубины тоталитарного мрака и ужаса. Говорят, мы абсолютизировали эту самую свободу, не осмыслив вопроса о соотношении дисциплины и свободы. Говорят, что мы сразу захотели жить в доме свободы и независимости, между тем как они вовсе не жилье, а мостик (мысль современного философа Мартина Бубера), и не может быть свободы от природы, судьбы, людей.
Все мы, созерцатели и деятели, физики и лирики, метафизики и лирики, родившиеся в глухие годы безвременья, в эпоху, названную современным историком страстной и страшной, носим на челе одну родовую отметину, одно клеймо, а если обойтись без метафор, имеем нечто общее, свойственное, правда, в разной дозировке почти всему поколению. Я назвал бы это синдромом черепа Ивана Грозного.
В чем этот синдром?
Скульптор-антрополог Михаил Герасимов, создававший по черепам давно умерших людей их внешний облик, утверждал, что у умершего на пятьдесят пятом году жизни царя Ивана Васильевича швы на куполе черепа срослись не полностью, и, поскольку строение черепа соответствует строению мозга, можно с большой долей вероятности считать, что у этого пожилого человека, обладавшего неограниченной властью, была юношеская, даже подростковая психология.
50‑е годы, время первой оттепели… Попытка омоложения дряхлеющего общественного организма совпала у нашего поколения с нашей собственной молодостью, наложилась на нее. Драгоценного вина свободы из этого бродильного сока, однако, не вызрело. Процесс ферментации был искусственно прерван: власть потихоньку стравливала пар, чтобы не разнесло вдребезги котел, а вовсе не думала его демонтировать. Это внешняя причина той исторической неудачи. Но была и внутренняя, связанная с нашей неготовностью самоопределиться в новом для нас пространстве – поле свободы. Один из уроков древних греков, оставленных ими человечеству, состоит в том, что есть такие истины, которые открываются лишь тому, кто пытался разрешить неразрешимое… Истина о свободе и независимости – из их числа.
«Свободы сеятель пустынный, / Я вышел рано, до звезды…» – не о нас сказано и не может быть к нам отнесено. Мы застали себя на этом пути, не дозрев до понимания необходимости взращивать в себе посеянную свободу. Вырванные из-под неслыханных, немыслимых глыб несвободы, мы ошалели от возможности дышать полной грудью, говорить без оглядки (почти без оглядки), фрондировать, эпатировать, петь и смеяться, как дети.
Дети XX съезда. Дети Арбата. Дети, у которых швы на куполе черепа срослись не полностью.
«А мы и в пятьдесят Андрюши, Люси, Саши. Я к отчеству, сказать по правде, не привык». И в шестьдесят, подхватим вслед за не привыкшим к своему отчеству Александром Семеновичем Кушнером, и в семьдесят, «порхают имена младенческие наши, не тратя лишних слов, ложатся на язык». Поэт, родившийся на месяц раньше меня, помнящий, как и все мы, майский день в бессмертном сорок пятом, которому, как и всем нам, пробило двадцать в пятьдесят шестом, солидности боится, важности не верит, печально на наше поколение не глядит – «не хнычь над ним, не плачь!».
Не хнычу, не плачу, пытаюсь понять секрет нашей «вечной молодости», разгадать, отчего разительно не совпадают биологический и психологический, тем более духовный возрасты нашего поколения, отчего нам ныне, присно и вовеки двадцать лет, а иные и юношеского возраста не достигли, оставшись вечными подростками?..
В том же стихотворении Кушнера ключик к одной из дверц: «К нам вечность в руки шла одною из удач». Нам посчастливилось как духовным существам родиться в дни соединения распавшейся нити времен, воскрешения, возрождения культурной традиции – к нам вечность в руки шла, но то ли руки оказались дырявыми, то ли время ребячливое, младенческое не позволило осознать, оценить всю неслыханность и громадность свалившейся на нас удачи. Нам некогда было разбираться в усложнившейся на глазах картине мира, самые самокритичные из шестидесятников назвали самих себя, всех нас Маугли, выросшими в джунглях по волчьим законам; и в известной степени это так, но больше всего мы похожи на плоских камбал, приспособленных жить на громадных глубинах, под чудовищным давлением несвободы и не подозревавших до поры, что человек должен жить при свете совести, разума, веры.
В нас вдолблена, впечатана на генном уровне биполярная картина мира – все разделено на своих и чужих, друзей и врагов, красное и белое, мы становимся в тупик, если замечаем, что крашено не красным (белым), а рыжим цветом время, становимся в тупик всякий раз, когда жизнь пестра, неодноклеточна, затейлива; в нас что-то противится принять сложность как принцип устройства жизни в микро– и макромире, в глубине души и в беспредельной Вселенной.
Это что-то имеет отношение и к нашему повышенному чувству жизни, повышенной энергетике, любознательности и к духовному максимализму, политическому радикализму, нравственной бескомпромиссности. Последние три качества, столь симпатичные в молодости, может, и продлевают ее до седин, но вряд ли украшают рубак-бойцов, коих и внуки «не старят почему-то».
– Знаете, от чего человек старится больше всего? – спросил меня на берегу Онежского озера в селе Толвуя лет сорок назад московский профессор, автор книг по системному анализу. – От того, что ему приходится выбирать, принимая решения.
Как бы ни исключали большевики моральный акт личного выбора из исторического процесса, совсем от выбора и принятия решений они человека отучить не могли. Более того, они вбили в головы, что нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики; в переводе на язык сегодняшний – нет и не может быть таких проблем, которые нельзя было бы решить. С этим мы и до сих пор живем. Между тем такие проблемы есть, одна из них, самая злободневная, самая кровоточащая, – межэтническая, национальная. Любые попытки решить ее окончательно приводят к геноциду; надо смириться, признать, что есть нечто нерешаемое в принципе, не поддающееся взятию как крепость, с чем надо жить, поступаясь и принципами, и чем угодно, если на карту поставлена жизнь – отдельного человека, народа, мира.
«Вечно молодое» сознание не может с этим смириться, поскольку никогда не действовало в такой системе координат и поскольку в его этике компромисс всегда воспринимался как сдача позиций (единственно достойная позиция – оппозиция), как беспринципное соглашательство.
Неспособность, неготовность к компромиссам, один из рудиментов психологического подросткового комплекса, мешает нам на каждом шагу. Между тем можно не изменять высоким идеалам, не поступаться принципами-заповедями и в то же время идти на диалог и с властями, и с тем, кто думает неправильно, то есть иначе, чем ты, и с теми, кто тебе несимпатичен, неблизок, а иногда и попросту противен. Для этого всего-то и нужно быть (стать) зрелым человеком, ибо прежде всего зрелый человек – это «бескомпромиссный сторонник компромисса» (так Мераб Мамардашвили назвал академика Андрея Дмитриевича Сахарова).
Зрелость означает и наше умение жить во все усложняющемся глобальном мире новейших информационных технологий. Зрелость предполагает потребность, готовность творить добро, жить по совести и видеть в человеке (вспомним Канта) всегда только цель и никогда – средство для достижения какой-либо цели.
Что мешает нам стать зрелыми людьми, начать дрейф в сторону вечного, встать на путь, неизбежный для всякого взрослого сознания? Это наша вина, беда или такова особенность времени, в котором нам выпало жить?..
Голландский культуролог, историк и филолог Йохан Хейзинга определил двадцатое столетие в конце тридцатых годов, когда шестидесятники под стол пешком ходили, как пуэрилистическое (от латинского «puer» – ребенок, мальчик), ориентированное на психологию выпавшего из связи поколений подростка, по-нынешнему teenager’a.
Моя жена подобный пуэрилизм называет просто – «детский сад». Чаще всего это, естественно, обращено к мужу, давно уже дедушке, не понимающему элементарных вещей, неумехе, безруку, но в данном случае (поводом для сбора одноклассников в Петрозаводске у Хана послужила наша со Светланой золотая свадьба) вполне могло быть обращено ко всей честной компании с преобладанием мужчин-мальчишек, раздухарившихся, разошедшихся на воле, вдали от своих дражайших половин, обрадовавшихся давно не виденным друзьям, подогревших себя зеленым вином (дамы и впрямь попивали винцо, а кавалеры исключительно зелено вино, покрикивая «К стопарю зовите Русь!», сочиненное в студенческие времена одним из Борисов Васильевичей из второй группы журналистики, но с воодушевлением принятым на вооружение моими одноклассниками), перебивавшими друг друга неизбежными: «А помнишь, когда Кум… – да не Кум, а Соломон… сам ты Соломон, это был Кузя или Репа, ну, конечно, под партами… Репа, он ползал под партами».
Володя Репников, самый здоровый и сильный в нашем классе, называвший своих ближайших друзей Кузю (Эдика Кузнецова) и Билю (Славу Бильчугова) «быками», при всей своей брутальности, даже быковатости, во многом наигранной, был начитанным, умным парнем; его неожиданные вопросы ставили в тупик некоторых учителей, побаивавшихся острого языка Репникова. У него не было музыкального слуха, в этом отношении мы два сапога пара (в нашем поющем первом, втором, третьем классе Надежда Макаровна во время публичных выступлений, повернувшись лицом к хору, тихо говорила: «Поют все, а Вова и Леша только раскрывают рты»), зато был нравственный слух, он безошибочно определял в возникавших переделках правого и виноватого и восстанавливал справедливость. Желающих померяться с ним силой не находилось даже среди отчаянных забияк, сорвиголов…
Володя расстался с жизнью первым из одноклассников, в тридцать пять лет покончил с собой. Он жил в том же, где и Светлана, доме специалистов, его мама была долгие годы главным врачом родильного дома на Кирова, где родилась наша дочь Таня, с его сестрой Верой училась в одном классе младшая сестра Светланы Инна… Что толкнуло его в петлю?.. Он изрядно выпивал, но был ли он в ту роковую ночь пьян или это было следствием личной драмы, никто не знает…
Мы помянули Репникова. Герд нас бы не одобрил. Не потому, что поминаем, а потому, что выпиваем.
Самого Шурки на нашей золотой свадьбе, послужившей поводом для встречи одноклассников, не было. Уехал куда-то – не то в экспедицию за словами, не то на конгресс, где собираются высокоученые мужи… Но вспоминали «профессуру», его гостеприимный дом часто, вспоминали проказы, проделки, розыгрыши, смеялись до слез… Те, кто не входил в наш круг одноклассников, но приглашенные нами на золотую свадьбу, поражались царившему веселью. Юрий Цунский, с которым я подружился в Петрозаводске в начале 60‑х, когда он после окончания Лесгафтовского института приехал на онежские берега и возглавил первую в республике детско-юношескую школу по плаванию, не склонный к сантиментам могучий мужчина, расчувствовался: «Спасибо, ребята, спасибо огромное…» – «За что, Юрий Анатольевич, благодаришь?..» – «За то, что сохранили дружбу, за то, что держитесь вместе, что не изменили себе – по крайней мере те, кого я знаю по тридцать-тридцать пять лет…»
Может, тренер по плаванию, знаток американского джаза, отец талантливого литератора Андрея Цунского, прав больше, чем автор этих строк, обвиняющий свое поколение в инфантильности, в том, что седовласые мужи состарились, так и не повзрослев?.. Конечно, в размышлениях об этом автора трактата о человеке играющем голландца Хейзинги немало справедливого, но нельзя не согласиться и с мудрым англичанином Клайвом Стейплзом Льюисом, предостерегавшим своих слушателей в радиобеседах для Америки в 1958‑м, когда мы с Цунским еще учились в ленинградских вузах, от того, чтобы дружить торжественно: «Упаси нас от этого Господь, творец доброго смеха! Среди прекрасных и трудных тонкостей жизни есть и такая: надо очень серьезно относиться к некоторым вещам и принимать их легко, как игру».
В своем трактате «Любовь» – его основу и составили беседы для американских радиослушателей – к этим вещам Льюис относит прежде всего дружбу:
«Среди настоящих друзей человек представляет только самого себя. Никому не нужны ни профессия его, ни семья, ни доход, ни национальность. Конечно, чаще всего это знают, но случайно. Друзья – как цари. Так встречаются властители независимых стран в какой-нибудь нейтральной стране. Дружба по природе своей не интересуется ни нашим телом, ни всем тем “расширенным телом”, которое состоит из родных, прошлого, службы, связей… Влюбленность обнажает тело, дружба – самую личность. Этим обусловлена давняя безответственность дружеской любви. Я не обязан быть чьим-нибудь другом, и никто не обязан быть моим. Дружба бесполезна и не нужна, как философия, как искусство, как тварный мир, который Бог не обязан был творить. Она не нужна жизни; она – из тех вещей, без которых не нужна жизнь».
Летом в городе жить неуютно, даже опасно. Летом, особенно таким чертовски жарким, как в 2010‑м, в городе пахнет плавящимся асфальтом, да что там асфальтом – пеклом. Юрий Андреевич Живаго в пастернаковском романе задыхается в летней ослепляемой солнцем Москве: «В комнате душно, на улице жарко. Мне не хватает воздуха…» В булгаковском «Мастере и Маргарите» Воланд и его свита появились (соткалась из знойного сгустившегося воздуха) в Москве, на Патриарших прудах в «час небывало жаркого заката… когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо…»
Нигде и никогда я так не страдал от духоты, как в Москве, хотя случалось и в пустыне Каракум дневать и ночевать, в биосферном заповеднике Репетеке, и в астраханскую летнюю жару закутываться в мокрую простыню, чтобы заснуть, и в афинском сентябрьском смоге задыхаться от удушья, карабкаясь в сорокаградусную жару к Акрополю… Но там все же хоть ночью прохлада наступала, а если было совсем невтерпеж, как в астраханском пекле, срывал с себя высохшие простыни и, выбежав на Красную набережную, бросался с обрывистого берега в Кутум, приток Волги. А в Москве нет ни Кутума, ни Онежского озера, есть, правда, Москва-река, но до нее от Столешникова переулка, где жила моя московская родня по отцу, далековато, а Патриаршие пруды я открыл для себя только в августе 1952‑го, когда приехал на чемпионат мира по волейболу и ежеутренне наблюдал выезд Воланда-Берии из своего особняка на Вспольном переулке, неподалеку от Патриарших. И теперь, в Москве на Патриарших прудах, даже когда столица пышет жаром, меня, должно быть, от перегрева пробирает озноб. Так бывает, когда перегреешься на полке в бане, подбросив ковшик другой на раскаленные камни: если в меру – блаженство, если переберешь – уши сворачиваются в трубочку, как сухие листья…
От такой адской, с едким торфяным дымом жары летом небывалого лета москвичи, спасаясь от удушья, бежали на север – в Архангельск, Вологду, Мурманск, Петрозаводск… Здесь все же было чем дышать, ветер с Онего, сивер, остужал… Помнится, нас с моим первым главным редактором Федором Алексеевичем Трофимовым (он долгие годы возглавлял газету «Ленинская правда», где я в 60‑е годы был замом ответственного секретаря, в первые послевоенные годы Ф. А. жил в одном с нами дворе в Закаменском переулке, так что я хорошо знал его семейство – жену, четырех дочерей и сына Димку), когда он после двенадцатичасового рабочего дня, закончив читку газетных полос и поменяв большинство заголовков, перед тем как идти домой, отправлялся на прогулку по большому или малому кругу, включавшим в себя и набережную Онежского озера. Он родился на берегу Онежского озера, в селе Деревянное, первые свои заметки подписывал «Федор Лесной», проработал в газете «Красная Карелия», несколько раз менявшей свое название и дислокацию, пятьдесят один год и восемь с половиной месяцев, тридцать два года редактировал ее – редакторский воз, говорил он, тяжелый, да еще во времена свирепствовавшей цензуры, духоты несвободы, от которой не спасал и прохладный онежский ветер, но в удушливой атмосфере железного века, побившего все рекорды по взаимоистреблению рода людского, оставался для нас, его учеников, человеком высокого строя души, совестливым, порядочным, добрым, устремленным к небу. Из людей старшего поколения (Ф. А. родился 2 октября 1910 года), коих я могу отнести к своим друзьям-наставителям, он более чем кто-либо был устремлен к небу.
Федор Лесной, оставивший в своей прозе нежные, целомудренные описания озер, рек, закатов, лесов родной Карелии, человек не религиозный, был наделен талантом веры, любви и надежды. И жену его, с которой он прожил более шестидесяти лет, звали Надежда, и сам он был по-человечески, как сказал о нем писатель Дмитрий Гусаров, «надежен, как хлеб». Не религиозный не значит неверующий. «Человек – не дерево, – заметил Иосиф Бродский, – и если он куда-то уходит корнями, то скорее вверх, чем вниз…» А люди, устремленные к небу, – тут я снова позволю себе сослаться на Клайва Льюиса, – служат Земле лучше других…
Недаром одна из трофимовских повестей называлась «Над нами наши звезды». Он подарил ее мне как «популяризатору наших звезд» 30 октября 1962 года. Я тогда написал по этой книге сценарий спектакля, переданного по Карельскому радио.
Возвращаюсь к нашей совместной – иногда он приглашал и меня прогуляться по большому кругу – прогулке по набережной Онежского озера.
Распахнув дверь нашего редакционного дома на улице Г. С. Титова, 3 (над нами наши звезды!), Федор Алексеевич всегда останавливался на крыльце, подставляя усталое лицо со слезящимися от многочасовой читки глазами прохладному, а то и холодному ветру с Онего. Потом долго, запрокинув голову, смотрел в небо.
Однажды я спросил, что он там, в небе, высматривает. И Федор Алексеевич сказал мне, что хотя бы раз в день стоит смотреть в небо. Он никак это не объяснял, только посмотрел на меня удивленно; мол, есть вещи, до которых, блуждая в сумрачном лесу жизни, надо додуматься самому, собственным, незаемным опытом постичь «безотчетную неба игру».
Заблудился я в небе – что делать?
Тот, кому оно близко – ответь…
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.
Не разнять меня с жизнью – ей снится
Убивать – и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.
Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое расколите
Вы на синего звона куски…
Мадельштам бредил Дантом, выучив итальянский язык, он читал «Божественную комедию» наизусть страницами. Эпиграфом к своему «Разговору о Данте» он взял строчку бессмертного флорентийца: «Cosi gridai colla faccia levata…» («Так я вскричал, запрокинув голову»). Как отметил во вступительной статье к «Полному собранию стихотворений О. Мандельштама» М. Гаспаров, он приписывает своему герою характерный божественный жест – вскинутую голову. «Поэт видит себя Дантом, восходящим через ад к раю (“Заблудился я в небе – что делать?..”): хочет себе не земной награды за верность жизни, а небесного созвучия (“Лучше сердце мое разорвите Вы на синего звона куски…”). Причем опять-таки это небо не перестает быть земным, с облаками и голубятнями, – головокружением “рукопашной лазури шальной”».
Когда в шестьдесят седьмом году в московском издательстве «Искусство» вышел написанный в тридцать третьем «Разговор о Данте», я не расставался с этой маленькой книжечкой, читая и перечитывая ее в парке, что рядом с моим домом, в поезде, в автобусе, в самолете. А в первый раз я открыл ее летним утром на берегу Онежского озера на двадцать восьмой странице и прочел:
«Дант по природе своей колебатель смысла и нарушитель целостности образа. Композиция его песней напоминает расписание сети воздушных сообщений или неустанное обращение голубиных почт.
Итак, сохранность черновика – закон сохранения энергетики произведения. Для того чтобы прийти к цели, нужно принять и учесть ветер, дующий в несколько иную сторону. Именно таков и закон парусного лавирования.
Давайте вспомним, что Дант Алигьери жил во времена расцвета парусного мореплавания и высокого парусного искусства. Давайте не погнушаемся иметь в виду, что он созерцал образцы парусного лавирования и маневрирования. Он был учеником этого наиболее уклончивого и пластического спорта, известного человечеству с древнейших времен».
Я читал эти строчки одного гения о другом, «родоначальном гении» всей европейской литературы, об искусстве уклончивого и пластического спорта, в котором преуспел мой одноклассник Эдик Кузнецов, сын известного артиста театра и кино Евгения Кузнецова, давнишнего, с довоенной поры, приятеля нашей муммикки… Надо было Кузе этот отрывок из этюда Мандельштама о Данте показать, хотя бы прочитать ему по телефону, промелькнула мысль, но я тут же ее отбросил: что он Гекубе, что ему Гекуба, Кузя и Мандельштам в один морской узел у меня как-то не вязались.
Как выяснилось, напрасно. Кузнецова Эдуарда Евгеньевича, с коим десять лет в одном классе просидел, я, оказывается, знал плохо, да и Осипа Эмильевича Мандельштама, плененного лазурью неба и моря, – поверхностно, приблизительно. Только этим могу объяснить то изумление, с которым спустя сорок три года, в аномально жаркое лето 2010‑го, когда мы отмечали в Петрозаводске, у Хана (Алика Ханнолайнена), в нескольких сотнях метров от Онежского озера, нашу «золотую железку» (она же – золотая свадьба) и встречу одноклассников, я читал мемуар Эдуарда Кузнецова «Лодки, яхты, друзья» – тридцать компьютерных страниц, открывающихся… Мандельштамом, заключительным четверостишьем стихотворения «Золотистого меда струя из бутылки текла»…
Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.
Этот мемуар наш карельский Одиссей, пространством и временем полный, яхтенный рулевой первого класса, долгие годы возглавлявший Федерацию парусного спорта Карелии, работавший до выхода на пенсию на предприятиях промстройматериалов, судья республиканской категории, тренер, подготовивший семерых мастеров парусного спорта и по морскому многоборью (среди них и его сын Владимир, первым в республике получивший звание мастера спорта по парусу, другой его сын Алексей стал профессиональным моряком, капитаном, внук Женя – штурманом), подарил нам со Светланой, придя к Хану: «Будешь писать про карельский спорт – может, пригодится…»
Станислав Прошутинский, талантливый боксер, чью карьеру на ринге прервала болезнь глаз, – если бы вы видели, как грациозно, элегантно, технично, в манере великого Владимира Енгибаряна фехтовал на ринге Стас, вы бы поняли, какого бойца лишился отечественный бокс! – так вот, С. Прошутинский нашел себя в журналистике и в декабре 2006 года в номере газеты «Карельский спорт», посвященной полувековой годовщине Первой Спартакиады народов СССР, написал очерк об Эдуарде Кузнецове.
Задолго до Данта мореплаватели Древних Греции и Рима, пускаясь в опасное плавание по бурному морю, восклицали: «Плыть необходимо, жить нет необходимости». И тогда, и теперь этой формулой – «Navigare necesse est» («Плавать по морю необходимо»), этой мудростью руководствовались люди отважные, дерзкие, опьяненные лазурью моря и неба, люди высокого, поэтического строя души.
Такие, как мой одноклассник Кузя, как Стас Прошутинский, с которым я много лет назад комментировал на телевидении бои боксеров в Доме физкультуры Петрозаводска. «В далеких шестидесятых я тоже не избежал яхтенной страсти, – пишет Прошутинский в очерке “Радость – под парусом выйти!”, – и Эдуард был первым наставником, от кого я услышал веющие морской романтикой слова: грот, стаксель, спинакер, бейдевинд, фордевинд, лавировка. Побарахтавшись пару сезонов со швертботом и не выдержав довольно частой столярно-малярной прозы, я отказался от мысли стать “онежским волком”, как Кузнецов, но сохранил глубокое уважение к людям, способным из развалин и рухляди своими руками создавать полезное и чарующее… Свою первую яхту “Наяда” класса Л-3 по международной классификации он помнит в подробностях: 10,8 метров в длину, 1,8 в ширину, 1,7 осадка, высота мачты 11,5 метра. С невероятным трудом она была отреставрирована и укомплектована. Полтора месяца под руководством яхтенного капитана, преподавателя университета Юрия Геннадьевича Петерса экипаж осваивал парусную азбуку, и 6 августа 1955 года отправился в первый поход по маршруту Петрозаводск – Кондопога – Петрозаводск».
Тут я прерву очеркиста и предоставлю слово его – и моему – герою, матросу килевой яхты «Наяды» и по совместительству коку.
«Получил я эту должность неожиданно. Никто из пятерых членов экипажа добровольно брать на себя обязанность кока не соглашался. Решили: будем готовить по очереди. Кинули жребий, кому начинать. Первым оказался я… Сборы затянулись, и, когда мы отошли от пирса водной станции, все дружно захотели отобедать. Я надел белый фартук и приступил к своим обязанностям. Около степса установил керогаз, сварил макароны, заправил их тушенкой, вскипятил чай… И вот тут я попался. Конечно, все очень хотели есть, а может, у меня действительно получилось довольно съедобное блюдо. Все хором приняли решение закрепить за мной должность судового кока. Капитан утвердил решение команды, и мне три дня по три раза в день приходилось готовить еду. Учитывая условия, в которых приходилось работать, это занятие было далеко не романтичным.
Первый наш выход за пределы Петрозаводской губы длился четыре дня. Мы прошли Суйсари, Шардонские и Вороньи острова, пристали в Кондопоге, где произошло маленькое приключение. Весь экипаж, кроме капитана, отправился на танцы в Дом культуры. Нас четверо, ребята молодые, симпатичные, ростом каждый за метр восемьдесят. Кондопожским парням появление новых лиц на танцах не понравилось, и нам, как бы сказать помягче, пришлось спасаться от преследователей. Хорошо, что капитан был начеку, видя наше отступление, отдал швартовы, и яхта сразу отошла от причала. А на воде нас не достанешь!..»
Через десять лет карельские яхтсмены начали осваивать акватории Таганрога, Калининграда, Мончегорска, Ленинграда, принимая участие в чемпионатах России, Поволжской регате, других соревнованиях. А карельский экипаж с капитаном Владимиром Богатыревым, другом Кузнецова, гонялся на международной регате на американском озере Онтарио. К летнему сезону 2006 года, накануне своего семидесятилетия (мы, пошедшие в школу в военном сорок четвертом, все 1936 года рождения), Эдуард Евгеньевич, по свидетельству Прошутинского, уговорил Богатырева приобрести на двоих яхту «Ассоль». «Теперь они вольны и независимы. Пусть их паруса наполняются свежим ветром, а под килем всегда будет не менее семи футов!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.