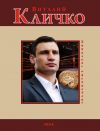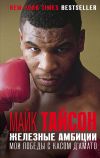Автор книги: Алексей Самойлов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 47 (всего у книги 53 страниц)
Чем-то этот фильм великого японца напомнил мне картину нашего московского грузина Георгия Данелия «Не горюй!» с Серго Закариадзе в роли старого врача, пригласившего, зная о своей близкой кончине, друзей на поминки…
Мудрых людей на свете меньше, чем умных. Мудрые живут, повернув глаза «зрачками в душу» и оттого читают в чужих душах, как в своей собственной, мудрые знают (верят, убеждены), что душа бессмертна, а человек смертен. Мудрые не кичатся своей правотой, понимая всю относительность правоты каждого из нас, зная, что сама правда имеет много обличий и нельзя виноватить и судить оступившегося, согрешившего…
Моя бабушка была мудра. Когда я однажды распустил перед ней павлиньи перья, получив очередную журналистскую премию (дело было в Карелии, куда я вернулся после Ленинградского университета, у нас дома на Герцена, на кухне), она, прихлебывая чай из блюдца, посмотрела на меня из-под очков и, вздохнув, сказала: «Может, там, в своих редакциях, ты и умный, а против бабушки дурак дураком».
Над хвастунами бабушка посмеивалась, но когда весной шестьдесят третьего в Петрозаводск приехал мой университетский друг Борис Спасский – он давал сеансы одновременной игры в доме физкультуры, комментировал ход матча за шахматную корону Ботвинник-Петросян, предсказывая победу Тиграну Вартановичу, и однажды, обедая у нас дома, нахваливая бабушкины пироги с визигой и капустой, буднично так, как о само собой разумеющемся, сказал, что следующим чемпионом мира, после Тиграна Петросяна, будет он, Борис Спасский, чувствующий в себе большую силу, бабушка согласно покивала головой, хотя и не преминула заметить: «Не торопись, Борис, на тот свет, там кабаков нет».
Бабушка, не разбиравшаяся в шахматах, но наделенная редкостным даром понимания попадавших в поле ее внимания людей, почему-то сразу поверила, что перед ней не пижон, не трепло, у кого на грош амуниции, на рубль амбиции, а действительно сильный, может, и впрямь самый сильный в мире из шахматных игроков. Наверное, наделенная природной силой всеведения, она почувствовала его страшную силу «психолога проклятого», как Ставрогин в «Бесах» говорит о монахе Тихоне. И когда она просила моего студенческого друга не торопиться, то вовсе не хотела его поддеть, а лишь увидев, что Спасский заспешил на свой сеанс в дом физкультуры, предупредила, чтобы он не зацепился за порог, а когда выйдет на улицу, не попал бы под машину… Но Боря и поспешал медленно – церемонно попрощался с Татьяной Прохоровной, помахал рукой нашей двухлетней Танюхе, с которой полчаса возился под столом, не забыл взять пакет с бабушкиными пирогами и двинулся в сторону гостиницы «Северная» – положить пироги в холодильник, переодеться и идти в сторону Онежского озера, на Пушкинскую, где у входа в дом физкультуры гроссмейстера, никогда и никуда не опаздывающего, в отличие от нас, торопыг и скорохватов, уже ждали организаторы шахматного действа…
Через восемь лет после Бориного вояжа в Петрозаводск, похоронив бабушку, умершую в Астрахани в январе (наш петрозаводский дом пошел на капремонт, и бабушка попросила старшую дочь, мою тетю Шуру, забрать ее к себе на полгода), я позвонил с Ленинградского вокзала в Москве Спасскому, ставшему десятым чемпионом мира по шахматам в июне 69‑го, сказал, по какому случаю я в Москве и что посылку от астраханских родственников оставлю в камере хранения или у дежурного по вокзалу – через два часа «Арктика» отходит.
Боря, выслушав меня и узнав, что в посылке подарок ему на день рождения (Борис родился 30 января, а дело было 29‑го) из Астрахани – осетровый балык и вобла, спросил номер нашего вагона (мы ездили на похороны бабушки с моим младшим братом студентом-физиком Сережей) и приехал на вокзал. Мы зашли в купе «Арктики», откупорили бутылку «Столичной», помянули мою бабушку.
– Только теперь, похоронив бабушку, я вдруг осознал, что и я когда-нибудь умру. Родителей я давно потерял, и бабушка была мне и за мать и за отца…
– Хорошо помню твою бабушку, и пироги ее, и ее совет – не торопиться на тот свет, помню… И я, в марте позапрошлого года схоронив Казимирыча, понял, что тоже умру. Пока он был жив, пока живет моя матушка, я как-то защищен, что ли, от смерти был, понимаешь? Теперь вот нет Казимирыча, и я…
Он замолчал, протянул мне стакан, и мы помянули его любимого тренера гроссмейстера Александра Казимировича Толуша, не дожившего всего четыре месяца до коронации своего ученика в Театре эстрады на набережной Москвы-реки.
Брат лег спать, а я вышел на заснеженный перрон проводить Бориса, который на прощание напомнил мне девиз Толуша: «Нищим пожар не страшен. Вперед, Казимирыч!»
Через двадцать четыре года после нашей встречи на Ленинградском вокзале мы похоронили матушку Бориса, Екатерину Петровну, потчевавшую нас, вечно голодных студентов, друзей ее младшего сына, жареным гусем и другими яствами.
Борина мама умерла в Петербурге 31 октября 1995 года на девяностом году жизни. Моя в Москве 14 ноября 1952‑го. Через двенадцать дней ей исполнилось бы сорок лет.
В тот день, когда умерла мама, время остановилось. Мне только что исполнилось шестнадцать, так что жизнь продолжалась, но время для меня остановилось. Я несколько раз переживал смерть близких, но время остановилось только однажды – четырнадцатого ноября одна тысяча девятьсот пятьдесят второго года. И мне горько и страшно сейчас, как в тот день, когда я узнал в Петрозаводске, что в московской больнице умерла мама, сел в поезд и поехал в Москву, где в Столешниковом переулке меня ждали мои бабушки – баба Таня и баба Саша, мать отца, его сестры – тетя Нина и тетя Галя, ее дочь, моя сестра Наташа, муж тети Нины дядя Саша Басов, с которым мы ходили на футбол на стадион «Динамо»; тетки плакали, тормошили меня: «Поплачь, Алешенька, легче будет», а я, в детстве рева-корова, плакавший не от боли физической – тут я был на удивление терпелив и боялся только вида крови – а от обиды, когда меня дразнили, – заплакать не мог, окаменел и недоумевал, чего это плачут, ведь это не их мама умерла; и обе бабушки мои не плакали, баба Таня только крепко обняла меня, а тяжело болевшая баба Саша, лежавшая несколько лет в детской кроватке, прикрикнула на дочерей неожиданно сильным в маленьком высохшем теле голосом: «Хватит причитать!»
Время, остановившееся в тот день для меня, составляет сущность, содержание нашей жизни и, как сказано у одного из старинных философов, в самой глубине нас есть такой пункт, где мы чувствуем себя всего более внутри нашей жизни.
Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя –
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия…
(О. Мандельштам)
Пункт, где мы чувствуем себя всего более внутри нашей жизни, ее нервный узел, где мы развязаны для бытия и узнаны миром и самими собой, – наше детство, которое мудрый англичанин Гилберт Кийт Честертон называл своей настоящей родиной.
Все лучшее на свете, говорю я, пропитавшись Честертоном, купить невозможно: солнце, луну, землю, звезды, грозы и друзей мы получаем даром. Никогда, до гробовой доски не забуду, как в день похорон мамы (ее привезли в Петрозаводск и похоронили на кладбище в Песках) к нам домой, на Герцена, пришли мои одноклассники, с которыми я учился с первого класса, с сорок четвертого года, из 9‑го «а», друзья из 9‑го «б» Миша Епифанов и Володя Казанцев, и одноклассницы (с девочками мы начали учиться с восьмого класса, среди них была и моя будущая жена Светлана), чтобы поддержать меня, а бабушка строго смотрела на них и тихо говорила: «Спасибо, что пришли…»
Попасть внутрь собственной жизни, в детство, когда мы, как сказано поэтом, «ближе к смерти, чем в наши зрелые года», пережить уже прошедшее, отлетевшее время можно только одним способом: снова прожить его. Как писал Юрий Трифонов, жить и вспоминать это одно и то же, это неуничтожаемо, это глагол, названия которому нет…
И тому чувству, которое я испытывал к своей матери, названия нет. Маленький исступленный читарь, игрок, артист, с пяти лет плясавший перед ранеными бойцами астраханского госпиталя и читавший им лермонтовское «Бородино», на двенадцатом году жизни вышедший на подмостки русского драматического театра, я был безумно – это и была моя «точка безумия» – влюблен в свою мать, самую красивую женщину на свете, маму, которую я страшно ревновал к отчиму, маму, которую я почти никогда не вижу, потому как она – ответственный работник, секретарь ЦК, – к отчиму ревную, а ЦК ненавижу: эта работа отнимает у меня маму, мою единственную женщину. В бело-желтом здании, обвивающем круглую площадь с гранитным Лениным посредине, она сидит в своем кабинете до глубокой ночи, и другие секретари тоже засиживаются, но до других мне дела нет, а маму вижу очень редко: ухожу рано утром в школу – она спит, ложусь спать – она на работе, а в воскресенье на трофейном «виллисе» шофер Яков Николаевич Сорокин везет ее в командировку в какой-нибудь колхоз или совхоз. Сколько раз за жизнь видел ее – наперечет: когда мы с братом Мишей тяжело заболели в эвакуации, бабушка высвистала ее из прифронтового Беломорска, она прилетела, привезла какие-то дефицитные лекарства – мне и Тольке Лукашеву, сыну маминого товарища агронома Дмитрия Ивановича Лукашова, помогло, а мой младший брат Миша, совсем маленький, маму не дождался, умер на руках у бабушки… После войны на даче в Шуйской Чупе на бильярде играли, она смеялась – все время мазала. После первой операции в Кремлевке и реабилитации в санатории в Барвихе ходили с ней в кинотеатр «Сампо» на «Тарзана». И когда гости у нас дома собирались, она пела, но когда гости – это не в счет: мне одному она тогда не принадлежала…
Мама веселая, совсем не строгая и заступается за меня перед крутой и властной бабушкой, которой под горячую руку лучше не попадаться. Но с бабушкой мы никогда не разлучаемся, бабушку как нечто стороннее, недосягаемое я и помыслить не могу, а мама – совсем другое, о ней я привык думать и тос ковать сызмальства, а когда оказываюсь с ней с глазу на глаз, грублю ей, огрызаюсь, отталкиваю, когда она пытается меня приласкать: «Какой ты, Алик, грубый мальчик, совсем не любишь свою маму».
А я любил ее безумно. И сейчас люблю, когда ее давным-давно нет на свете. Когда приезжаю в Петрозаводск, еду в Пески, иду к маме и долго с ней разговариваю. Про младшего брата Сережу рассказываю – «малышу» в январе 2010‑го стукнуло шестьдесят, он работает в том же правительственном здании на проспекте Ленина, рядом с гостиницей «Северная», где когда-то работала наша мать, родившая его за два года до смерти. Про нашу со Светланой дочь Таню, кандидата психологии, преподавателя факультета менеджмента Петербургского университета, названную в честь моей бабушки, своей прабабушки, но похожую на мою маму – не только улыбчивостью и физической конституцией, но и основательностью, поглощенностью делом, самостоятельностью поступков и суждений; иногда мне кажется, что дочь старше своего отца, который состарился, но так и не вырос, как говорил о себе незадолго до смерти Федерико Феллини. В мире взрослых, где легко и свободно чувствует себя моя основательно-самостоятельная дочь, я чувствую себя не вполне своим.
В детстве и отрочестве был ушиблен Маяковским, читал его на разных конкурсах, начиная с третьего класса, однажды на республиканском конкурсе чтецов-декламаторов, в коротких штанах с лямками, бритый бабушкой под ноль, как Котовский, с таким напором пообещал выгрызть бюрократизм, что жюри дало мне за исполнение «Стихов о советском паспорте» вторую премию на республиканском конкурсе чтецов – первую получил похожий на Есенина голубоглазый кудрявый красавец из восьмого класса нашей 9‑й средней школы (в ней мы учились до пятого класса) Володя Морозов за пушкинских «Цыган»: окончив московский литературный институт, Морозов стал талантливым поэтом, окончившим жизнь, как Есенин и Маяковский… На школьных вечерах в своей «гвардейской», 22‑й школе я тоже декламировал Владимира Владимировича – преимущественно марши, оды и сатиры, а дома, оставшись один, открыв окно в Парк пионеров, выревывал слюдяной белой северной ночью:
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца!
Или:
Вспомни –
за этим окном
впервые
Руки твои, исступленный, гладил.
Был не просто ушиблен Маяковским, но и отождествлял себя с ним: та же, мнилось, температура горения, те же напор, восторг и ирония, то же неумение вечного подростка ладить с миром взрослых.
Переболел Маяковским, хотя и сейчас считаю «Облако в штанах», «Лиличка! Вместо письма» вершинами любовной лирики XX века. Но моей душе давно уже ближе вечное чувство вины мужчины перед женщиной Бориса Пастернака:
И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей,
И след поэта – только след
Ее путей, не боле…
Если бы я не любил безумно маму, если бы не остановилось для меня время в пятьдесят втором году, я никогда бы не был ранен женской долей, никогда бы не относился к женщине «с каким-то ласковым испугом» (Осип Мандельштам).
Многие узлы моей жизни завязались, и долго потом развязывались, в августе пятьдесят второго, в Москве, на Вспольном переулке, тоненькой ниточке, соединяющей улицы Качалова и Алексея Толстого, ниточке параллельной Садовому кольцу. Мой отчим, офицер, учился на каких-то курсах при военной академии и снимал во Вспольном, в необъятной коммуналке комнату-пенал с застекленным шкафом. Книги я читаю по ночам. Книги там были удивительные, о них я раньше ничего не слышал, – Фрейд, Вейнингер, Форель, Блох и другие, не запомнившиеся мне авторы, писавшие о проблемах пола, взаимоотношениях мужчин и женщин не с беллетристическими ухищрениями, умолчаниями, намеками, а речью «точной и нагой». Ночью читаю, а целыми днями пропадаю на волейболе. В Москве, на стадионе «Динамо» перед Западной трибуной мировое первенство по волейболу. На него я и приехал из Петрозаводска вместе со своим тренером Василием Филлиповичем Акимовым. Он живет в гостинице, а я квартирую у отчима на Вспольном.
В день приезда – уже смеркалось – я шел по Качалова и остановился в тени густых деревьев у белого особняка на углу Качалова и Вспольного. То ли особняк меня поразил, то ли я хотел удостовериться, что правильно иду и добрался до нужного мне переулка. Не успел я поставить чемоданчик на землю, как откуда-то из-под дерева шагнул на тротуар человек в военной форме и, спросив, кого я ищу, подтвердил, что нужный мне дом на противоположной стороне, а здесь не нужно задерживаться. «Почему?» – спросил я через десять минут своего отчима и узнал, что в белом особняке с высокими окнами, завешенными белыми шторами, живет Лаврентий Павлович Берия и что я могу его увидеть завтра утром, когда он поедет на работу.
Утром я встал пораньше, чтобы посмотреть вблизи на Берию. Его большой черный «бьюик» медленно ехал по Вспольному, и гладковыбритый Берия делал через стекло ручкой собравшимся на тротуаре соседям-согражданам и, поприветствовав их, задергивал занавесочки на окнах машины. Свернув на Алексея Толстого, «бьюик», сопровождаемый длинными расплющенными «зисами», прибавлял ходу, а по Садовому газовал вовсю…
Так почти каждое утро провожал я Лаврентия Павловича на работу. Проводив, шел на Маяковку, доезжал на метро до «Динамо» и забывал обо всем на свете, наслаждаясь игрой Ревы, Щагина, Нефедова, Ульянова, Чудиной… Наши были лучше всех, не могли не быть лучше всех! Победа, одержанная семь лет назад в великой войне, была за нами, и все победы отныне будут наши!
Утром – Лаврентий Павлович, днем – волейбол, а поздним вечером и ночью до рассвета – книги про мужчину и женщину, очерки по теории сексуальности – волнующее, абсолютно нелегальное чтение, стыдное чтение, – если об этом когда-нибудь узнает мама, это конец света, нельзя, чтобы она когда-нибудь узнала…
Мама тоже в Москве. Лежит в Кремлевской больнице. Ее уже дважды оперировали. Два года назад и вот сейчас. Сначала сказали: язва желудка, а теперь, под большим секретом, только отчиму: «Это – рак. Медицина бессильна…» Меня пустили к маме всего два раза. Она стала совсем маленькая, говорит с трудом, закрыв глаза.
Мы так мало разговаривали с мамой. Оказывается, я писал ей письма в больницу еще два года назад, бабушка их сохранила, под бабушкиной цензурой они писались и потому выходили благостными, маму, ясное дело, нельзя было волновать, и я, примерный отличник, премьер драмкружка Дворца пионеров, волейбольный разыгрывающий юношеской сборной города, хвастался своими успехами и сообщал, что помогаю бабушке по хозяйству – хожу в магазин и на базар. К базару у меня особое пристрастие. Во время войны мы с бабушкой продавали азербайджанский чай на астраханском рынке, а сразу после войны борькино (подсвинка) мясо на петрозаводском базаре. Первое мое столкновение с властями тоже связано с торговлей: соседские ребята, Васька и Юрка, постарше меня, жившие очень бедно, не умели продать клюкву, я вызвался помочь им и, усевшись напротив разрушенной гостиницы «Северная», прямо у тротуара, неподалеку от безногого инвалида, торговавшего папиросами-гвоздиками, зазывным голосом астраханских торговок зембилями (плетеными, плоской формы, корзинками) начал оглашенно вопить, предлагая землякам сахарную клюкву, сладкую, пальчики оближешь… Торговля шла ходко, люди охотно брали клюкву, рекламируемую девятилетним пацаном, как вдруг подкатил милиционер в мотоцикле с коляской, сгреб меня вместе с клюквой и доставил прямо в ЦК: «Примите, Нина Ивановна, сына. Торговал клюквой на углу Ленина и Энгельса». Оказывается, какой-то знакомый нашей семьи узнал меня и позвонил маме…
По-крупному я ее не подводил, но, случалось, кому-то из взрослых грубил, с кем-то в школе дрался, где-то был застукан курящим, выпивающим – шалманов разных было тогда немало, а мы, шьющиеся при спорте, получали талоны, отоваривали их и рано, класса с седьмого, начали прикладываться к «Спотыкачу» и «Сливянке», заедая тяжелую сладость наливок шоколадом… Но все, считалось, искупается успехами в учебе и кипучей общественной деятельностью, да и таиться мы научились рано…
«Таиться» относится исключительно к грехам по части курения и выпивки, а вовсе не к тому, что мы понимали ужас и мрак несвободной жизни несвободного человека в несвободном обществе, а вели себя так, будто этого не понимали. Наше поколение, как и предшественники, прошло школу двоедушия, двоемыслия, освоило эту науку, как и они, но позже, не в те годы, о которых я веду речь в этой главе. Тогда я высматривал Берию не из чистого любопытства, а потому, что он был другом и соратником великого Сталина. За мою почти шестнадцатилетнюю жизнь я встретил только одного человека, не любившего Сталина, называвшего его презрительно Йоськой. Это был мой астраханский дядя – Михаил Андреевич Щербаков, сын богатого астраханского казака, владельца нескольких домов на Красной набережной – этим классовым происхождением и объясняла бабушка нелюбовь дяди Миши к вождю трудящихся Иосифу Виссарионовичу. А я не могу сказать, что я любил Сталина. Все, как я считал, любили (про дядимишино особое мнение узнал через несколько лет после войны). А я хотел быть, когда вырасту, – Сталиным! Меня даже поколотили во дворе, в Астрахани, не крепко, скорее профилактически, чтобы не выпендривался, поскольку все нормальные шкеты, тырившие помидоры и яблоки на Больших Исадах (я тоже тырил, не только продавал), хотели быть летчиками, танкистами, в крайнем случае пожарниками, а я, как заведенный, повторял одно: «Буду Сталиным». Пацаны побили меня, а взрослые объяснили, что так говорить нельзя, так говорить неправильно, другое дело, если я хочу быть маршалом или наркомом, но я не отступал от своего: «Буду Сталиным». С этой мыслью дожил до начала школы, а в восемь лет с ней расстался, должно быть, повзрослел и понял неправильность самой мечты: Сталин мог быть только один.
Сталин моей мечты имел, как выяснилось, отношение к Берии из Вспольного переулка. Если бы я не видел Лаврентия Павловича на расстоянии вытянутой руки на шестнадцатом году своей жизни, если бы шестилетним не забил себе в голову, что буду Сталиным, мне никогда не приснился бы полувещий сон с участием Хрущева, Маленкова, Молотова, Микояна и моим, когда руководители партии и правительства вызвали меня, ученика девятого класса 22‑й школы Петрозаводска, председателя школьного учкома, к себе в Кремль и держали со мной совет относительно того, что им делать с Берией, потому что он оказался шпионом и замышлял гадости против партии и страны; самое удивительное во сне было, что я совершенно не был удивлен тем, что со мной, школьником из провинции, советуются по вопросу государственной важности (наверное, им доложили, что я хотел быть Сталиным) люди, с чьими портретами мы ходим на праздничные демонстрации… Через неделю сказали по радио и напечатали в газетах, что Берия оказался агентом, шпионом и что военный трибунал приговорил его к высшей мере…
Избирательности памяти не устаешь удивляться: она опустила все детали, позволившие мне предугадать, что Берия «не наш человек» – какие-то разговоры, может быть, сообщения чужих радиоголосов – ничего этого не помню, помню только, что в Кремле держался уверенно и советовал с Берией не миндальничать…
Я жил на Вспольном в августе пятьдесят второго. В ноябре того же года умерла моя мама. Летом пятьдесят третьего мне приснился сон, вскоре после которого расстреляли Берию.
2011
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.