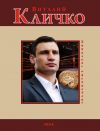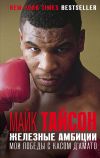Автор книги: Алексей Самойлов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 52 (всего у книги 53 страниц)
Все-таки он неисправимый романтик, наш ироничный и саркастичный Кузя. Как же я просмотрел эту поэтическую душу? Почему, поклоняясь одним богам и героям (Михаилу Лермонтову – «Белеет парус одинокий…», Ивану Гончарову с его «Фрегатом Паллада», Осипу Мандельштаму, Герману Мелвиллу – с его «Моби Диком», сэру Френсису Чичестеру, 65-летнему английскому яхтсмену, в середине 1960‑х годов совершившему в одиночестве на яхте «Джипси Мот IV» самое быстрое кругосветное плавание на небольшом парусном судне, обогнув мыс Горн), один из нас стал яхтсменом, испытал себя пусть не ревущими сороковыми, но грозным, сурового нрава Онежским озером-морем, столько людских жизней забравшим – не сосчитать, и насладился розовым чистым утром, приходящим с зюйд-вестом, а другой… Другой, автор этих строк, не отважился осуществить свою мечту, а ведь рвался в детстве в нахимовское училище и потом всю жизнь завидовал тем, у кого был свой мыс Горн – массивный утес-островок с уникально скверной репутацией, вздымающийся у южной оконечности Южной Америки, где сильные шторма разражаются каждый четвертый день…
У Эдуарда Кузнецова был свой мыс Горн. И у одного из трех братьев Некрасовых – Юрия, учившегося в той же 22‑й школе, что и мы, только в десятом «в», был мыс Горн. Некрасов увлекался парусом в свободное от основной службы время – после «Дзержинки» он стал офицером-подводником, нес боевое дежурство на атомной подлодке в мировом океане и однажды, рискуя жизнью, сумел предотвратить катастрофу вселенского масштаба; этот сюжет, записанный при жизни Юрия Никандровича, которого хорошо знали и Кузя, и Хан, и все ребята двух других десятых классов пятьдесят четвертого года выпуска, был откровением для всех зрителей документального телесериала «Битва за Север», снятого командой «Адамова яблока» под началом Кирилла Набутова и показанного в 2010‑м на федеральном канале…
Увидев на экране чернобородого Юрия Некрасова, я сразу же позвонил в Петрозаводск Альке Ханнолайнену (в выходной день он был дома) и закричал в трубку: «Включи НТВ, там Юрка Некрасов говорит (к этому времени капитана первого ранга Ю. Н. Некрасова, в последние годы преподавателя Военно-морской академии, уже не было в живых)…
Психология дружбы исследована всесторонне, хотя во все времена находились сомневавшиеся в существовании настоящей дружбы. В VI веке до нашей эры поэт Феогнид скептически писал о своих согражданах – древних эллинах: «…Милых товарищей много найдешь за питьем и едою. / Важное дело начнешь – где они? Нет никого!» Через две с половиной тысячи лет немецкий философ Шопенгауэр заметил: «Истинная дружба – одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют».
И метафизика дружбы разработана первоклассными умами, среди них англичанин Льюис и француз Федье, на которых я уже ссылался в этой главе.
А слышали ли вы о метрологии дружбы?..
Размышляя о семье друзей, собравшихся в аномально жаркое лето 2010‑го в центре Петрозаводска, на углу улиц Куйбышева и Г. С. Титова, в нескольких шагах от редакции «Ленинской правды» (впоследствии «Курьера Карелии»), где я проработал двенадцать лет, рядом с набережной Онежского озера, в наши школьные годы место свиданий влюбленных пар, на четвертом этаже этого дома, где с 2007‑го живет наш Хан, куда мы – Регина с Иваром из Риги, львовянин Кум (Анатолий Аввакумов), столичный житель Олег Соломонов, Светлана и я, сорок лет живущие на берегах Невы, не говоря уже о петрозаводчанах Эдике Кузнецове, Саше Валентике, – заходим, заезжаем, заглядываем на огонек, я понял, что наш Хан (на работе Альфред Константинович Ханнолайнен, среди друзей Алик) стал эталоном, хранителем дружества в нашем союзе одноклассников, в семье друзей. Есть же эталон длины, эталон времени, так почему бы не быть эталону дружества – верности, самоотверженной заботы о своих товарищах, душевного участия в их делах, радости в глазах при виде приехавшего (зашедшего, завалившегося) под крышу дома твоего друга, теплоты в голосе, с которой он говорит: «Ну, здравствуй… Раздевайся, принимай душ и – к столу, все уже готово…»
Эталон длины, хранящийся в Париже, кажется, платиновый, а эталон нашего дружества, живущий в родном Петрозаводске, – золотой. Во всяком случае, на работе, в организации, обеспечивающей электронную охрану банков, ему недавно вручили орден «Мастер золотые руки». Алик смеется: «Орден – громко сказано, это доморощенный орден. Сами придумали, дизайн разработали и вручили мне как ветерану». Что ж, пусть орден и доморощенный, зато без всякого идеологического (советского) привкуса в отличие от государственного Героя труда. Разумеется, и среди героев труда были, есть и будут достойные люди, но не факт, что все они потянут на мастера золотые руки, как наш Хан, для которого нет секретов ни в радиоэлектронике, ни в спортивном ориентировании, ни в кулинарии: тот не ведал наслаждения, кто не едал его карельские калитки!.. К тому же у Алика – Альфреда Константиновича – и сердце золотое… Человек ангельской доброты и стоического терпения, он трогательно ухаживал за своей мамой, Марией Андреевной, когда у нее, как говорят специалисты по болезни Альцгеймера, началось «скольжение к умственной забывчивости». В те времена Алик с мамой, преподавателем математики, подругой Дарьи Кузьминичны Карповой, жил в одном доме с муммиккой, и я, приезжая в Петрозаводск, иногда останавливался у них. Мария Андреевна, бывало, спрашивала у собирающегося на работу сына (он вставал в половине шестого, она тоже просыпалась рано, хотя уже давно не работала):
– А где мой сын?
– Мама, я здесь, дома, завтракаю…
– Я знаю тебя. Ты – Алик. А где мой сын Альфред Константинович?..
Когда Алику звонили с работы или нуждающиеся в его технической помощи знакомые знакомых звонили по домашнему телефону («мобильников» тогда не было), то просили позвать «Альфреда Константиновича», так что в ее сознании Алик, варивший овсянку на плите и жаривший яичницу, и мастер золотые руки Альфред Константинович, в котором все вечно нуждались, были два разных человека…
Мама Алика, Мария Андреевна Хямяляйнен, умерла в 2006‑м, на девяносто втором году. Теперь он опекает младшую сестру мамы, Валентину Андреевну, трогательно заботится о своей тетушке, как он называет старую женщину, у которой случаются семь пятниц на неделе и сто вопросов на дню к племяннику, которому она напоминает о каком-то диване – его надо то ли привезти, то ли увезти, жалуется на боль в ногах и настаивает на том, чтобы завтра, в пятницу вечером, он обязательно к ней на Древлянку приехал: ночью ей приснилось, что в Алика стреляли бандиты, и она хочет удостовериться, что он жив-здоров… «Хорошо, тетушка, приеду, и на ваш рыночек зайду и куплю тебе черешни и слив…»
Я не знаю, что важнее в нашем персонифицированном эталоне дружества Альфреде Константиновиче Ханнолайнене: золотые руки или золотое сердце. В школьные годы, не в первые школьные годы, когда Алик был ниже травы тише воды, он стеснялся отвечать у доски и по-русски, по нынешнему признанию, говорил неправильно, с акцентом (в раннем детстве в Калевальском, самом северном районе Карелии, куда после окончания учительского института в Петрозаводске приехали по распределению родители, у него была нянька-финка), да и по характеру он скромен до застенчивости, а в старших классах, когда увлекся электро– и радиотехникой, собирал радиоприемники и вместе с закадычным дружбаном Олегом Соломоновым, «штатным» аккордеонистом в поющем классе Надежды Макаровны, оборудовал из подручных средств радиоузел и заправлял им, и после школы и армии, когда получил специальность электротокаря, а потом и радиомеханика – у него был шестой разряд по этим специальностям, начал работать мастером в телеателье, монтировал промышленное телевидение на заводе «Тяжбуммаш», крупнейшем машиностроительном предприятии Карелии, когда он два десятка лет занимался наладкой испытательного оборудования и сдачей продукции военному ведомству на петрозаводском филиале ленинградской «Светланы», когда преуспел в интеллектуальном спорте, требующем от человека массу умений, спортивном ориентировании (кредо ориентировщика – «Что может быть привлекательнее: бегать не быстрее, чем думает голова?»), мне казалось, ну, конечно же, умные, золотые руки мастера важнее всего.
«Самое важное в человеческой жизни – это умение что-нибудь сделать, – писал Александр Васильевич Никитенко, критик, историк литературы, профессор Петербургского университета, академик, цензор, вошедший в историю русской общественной мысли как автор потрясающе интересного дневника, который он вел половину девятнадцатого века. – Это не ум, не доблесть, не гений, но это выше ума, и доблести, и гения. Это то, чем люди бывают полезны и себе и другим… Я ничего не умел и ничего не умею сделать. Меня очень рано, еще в детстве начала соблазнять мечта какой-то высокой будущности, славных и великих подвигов, и я таким образом начал тогда уже испаряться в обширных замыслах, в бесконечном пространстве, и ничему не выучился, то есть ничего дельного не выучился делать…»
Теперь, когда с устрашающей скоростью близишься к началу своему и подводишь не предварительные – окончательные итоги жизни, понимаешь, что выше гения, ума, доблести, даже выше умения делать что-нибудь дельное – доброта. «Нет более верного признака величия, чем доброта», – писал гениальный Бетховен. Русский художник Павел Федотов считал величайшим из всех удовольствий – делать удовольствие другим.
В общем, можно сказать, что наш Алька живет в свое удовольствие, доставляя удовольствие, помогая другим – своим домашним (у него дочь, два внука и внучка, тут он, правда, отстает от онежского Одиссея Эдуарда Кузнецова, у которого девять внуков и восемь правнуков, но превосходит всех других одноклассников), друзьям – скажем, Александру Валентику, поэту, журналисту, составителю антологии поэзии Карелии двадцатого и начала двадцать первого века «Дерево песен», занятому сейчас подготовкой полного свода сочинений самого талантливого поэта Карелии послевоенного поколения Владимира Морозова, покончившего с собой в лермонтовском возрасте, и воспоминаний о нем.
Для этого нового проекта нашего одноклассника Валентика и я, по его просьбе, написал несколько страничек о Володе Морозове, с которым судьба свела меня в последний год Отечественной войны и на следующий год после Победы. Весной сорок пятого, сразу после сообщения из Москвы о взятии Берлина, столицы фашистской Германии нашими войсками, мы в студии Карельского радиокомитета читали: Володя – отрывок из пушкинской «Полтавы», я – лермонтовское «Бородино». Морозову шел тринадцатый год, мне – девятый. В ноябре сорок шестого на республиканском конкурсе юных чтецов-декламаторов, где я дебютировал со «Стихами о советском паспорте» Маяковского, Владимир Морозов, ученик восьмого класса 9‑й средней школы, получил первую премию за «Цыган». Он не декламировал Пушкина, не «раскрашивал» отдельные слова, вырывая их из общей мелодии, что свойственно актерам, а словно выпевал стихи: пушкинская музыка в его исполнении завораживала. Было ясно, что Пушкин был для него мерой вещей.
Я назвал свой мемуарный очерк о Владимире Морозове «Пушкин для него был мерой вещей», как и для его великих предтеч Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Юрия Тынянова, как для всех нас, чей родной язык – русский.
Алька Ханнолайнен, вдруг дошло до меня, тоже, как и Володя Морозов, читал пушкинскую «Полтаву» (он сам рассказал об этом нам, одноклассникам, летом 2012‑го) – не по радио, не на конкурсе, а потрясенный красотой звездного неба над головой, тополей по обе стороны дороги, в предвкушении свидания с гарными дивчинами из украинской Белой Церкви, где служил в армии после технического училища, от полноты переполняющих его чувств и не заметил, как ночью, в окружении друзей, перешел на божественный пушкинский глагол:
Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы,
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет
И пышных гетманов сады
И старый замок озаряет.
И тихо, тихо все кругом…
Я не был с Алькой в Белой Церкви, свою первую производственную практику мы с Сашей Шарымовым проходили на Алтае, в газете «Алтайская правда», а в перерывах между моими командировками в степные совхозы и его поездками в Бийск, в барнаульской гостинице, распечатав бутылку и заедая вино вкуснейшим пшеничным хлебом со шматом сала, подаренным мне в одном из сел, читали друг другу Пушкина – «Моцарта и Сальери», «Медного всадника» и, наверное, «Полтаву», точно не помню…
Шарымов читал стихи бесподобно: если бы он учился в школе не в Оренбурге, а в Петрозаводске, его, а не меня, водил бы в параллельный десятый «в» Александр Васильевич Фокин, учитель словесности от Бога, и просил читать Маяковского, а в нашем, десятом «а», после исполненного мной «Юбилейного» («Александр Сергеевич, разрешите представиться, Маяковский») Фокин повернулся лицом к распахнутому окну и, забыв про меня, стоящего у доски, про весь класс, стал читать Александра Сергеевича:
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь,
И, наконец, окаменеть
В мертвящем упоеньи света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!
Когда Фокин наконец вынырнул к нам из онегинского омута, на глазах его блестели слезы… Это было удивительно, словесник глубоко чувствовал поэзию, но сентиментальностью не отличался и сам, случалось, доводил до слез моих товарищей, бестолковости и фанфаронства на дух не переносил, а с застенчивыми и стеснительными, как Алька Ханнолайнен и некоторые наши девочки, во зился, просил подумать, морщился, как от острой зубной боли, когда школяры, читая стихи наизусть, безбожно перевирали текст…
Словесник наш в гробу бы перевернулся, если бы мог услышать, как упоенно, как музыкально тишайший, стеснительнейший его ученик, талантливый «физик», но никакой не «лирик», читает пушкинскую «Полтаву»…
Более сорока лет назад очерк о Ханнолайнене «Песня об отце» вошел в одну из моих первых книг о спорте. Пушкин, прочитанный им год назад, бесконечно расширил в моем сознании объем, образ Хана, Алика… Это имя – Алик – мне радостно выговаривать и писать, в детстве мама звала меня Аликом, для меня оно, как мамина ласка. Я слышу, я говорю «Алик», и переношусь в детство, наше общее с Аликом Ханнолайненом детство. Его мама, Мария Андреевна, учила меня в первый послевоенный год финскому языку, к ней, в Педучилище меня отвела моя мама… Мой одноклассник, выясняется, не знал об этом, как я не знал о его любви к Пушкину…
Несколько лет назад в журнале «Профиль» в статье «Поколение игрек» 28-летняя Зоуи из Лондона, представляющая, как и мой внук, недавно съездивший в Англию, это поколение (к нему относятся рожденные в промежутке между 1984‑м и 2000‑м), врезала впавшим в детство старцам из «молчаливого поколения (1923–1943)», которые устраивают встречи одноклассников: «Какой смысл устраивать встречу одноклассников, если мы уже все узнали друг о друге через Facebook?!»
Зоуи погорячилась: все друг о друге мы никогда не узнаем, хотя интернет и стал окном в мир не только для поколения «Миллениум», как еще называют «игреков». Это ум имеет свои пределы, а глупость человеческая беспредельна. Так же обстоит дело и с нашими знаниями. Сколько же надо узнать нам о самих себе, о наших близких, о друзьях, об окружающем мире, чтобы приблизиться к мудрейшему Сократу, сказавшему «Я знаю, что я ничего не знаю»!.. Но не стоит понимать сократову максиму буквально. Разве не он утверждал, что существует только один бог – знания и что нет ничего сильнее знания, всегда и во всем пересиливающего и удовольствия и все прочее…
Но все ли под силу знанию? Все ли подвластно человеческому разуму? Или главные жизненные проблемы не имеют интеллектульных решений и мир, как полагают сторонники такого подхода, в принципе не спасаем интеллектуальным усилием?
«…Много в мире есть того, / Что вашей философии не снилось», – говорит Гамлет другу Горацио. Сколько открытий чудных совершил человек разумный за пять веков, прошедших после того, как был написан «Гамлет», но и сегодня не только поэты и философы, но и рационально мыслящие естествоиспытатели, биологи и математики признают: вокруг нас и в нас, в природе, в бессмертной душе есть непознаваемое, непостижимое, к чему можно относиться не иначе как к чуду.
«Чудо сознания – то неожиданно распахивающееся окно, из которого открывается вид на залитый солнцем пейзаж посреди ночи небытия» – так ответил Владимир Набоков журнальному интервьюеру, спросившему писателя, что его удивляет в жизни.
Главный мотор жизни моих друзей, одноклассников, однокурсников, и тех, с кем я не учился ни в школе, ни в университете, но у кого не устаю учиться (Николай Крыщук, Самуил Лурье, Магда Алексеева, Людмила Региня, Елена Невзглядова, Александр Кушнер, Наташа Птицына, Семен Майстерман, Лариса Кондратьева, Юрий Лелюшкин, Дмитрий Губин, Кирилл Набутов), – это интерес к жизни, удивление жизнью, с чего начинается и философия, и поэзия. Колоссальным ускорителем сознания, мышления, мироощущения Иосиф Бродский называл стихосложение. Я добавил бы к великим ускорителям сознания игру, причем не только спортивную: поэзия, игра, спорт не только ускоряют сознание, но и способствуют росту человеческого в человеке.
Снова вспомним шестнадцатый век, на этот раз не Англию Уильяма Шекспира, а Нидерланды Питера Брейгеля-старшего, его картину «Детские игры». В Венгрии в конце прошлого столетия издали книгу, посвященную этому полотну, где изображены сорок восемь детей, они играют в волчок, кости, жмурки, салки, носятся наперегонки, баюкают кукол, сражаются, сидя верхом друг на друге. На каждой странице – фрагмент картины Брейгеля, комментарий Андраша Лукача, автора исследования «Игра и поэзия» и стихи… «А искусство? / – Только игра, / Подобная только жизни, Подобная только огню. Пылающий пепел костра».
По моим дилетантским наблюдениям (я ведь не нейробиолог, не невролог, не психиатр), большинство моих друзей находятся в добром здравии. Рекордсмен здесь, безусловно, Альфред Ханнолайнен: за пятьдесят девять лет работы он ни одного дня не был на больничном. Не намного отстал от него и профессор Герд, впервые прибегнувший к помощи медицины после семидесяти пяти. Да и те, у кого скрипят суставы, шалит сердце, кто не раз ложился на операционный стол, кто, не будем греха таить, курили и курят, кто выпил на своем веку гораздо больше, чем среднестатистический россиянин, по своим когнитивным способностям, по умственной и физической выносливости, по умению концентрироваться на своей работе, по страсти к неизвестному, могут дать фору более молодым коллегам.
Ключевые слова тут – «ум» и «страсть». Разрешите напомнить название одной из глав капитального труда французского просветителя восемнадцатого века Клода Адриана Гельвеция: «Люди становятся тупыми, когда они перестают быть охваченными страстью».
На протяжении веков ученые полагали, что умственные функции мозга ухудшаются с течением лет, острота мозга естественным образом снижается. Как бы не так! Исследования последних десятилетий показали: активность мозга к старости повышается. Это и есть «парадокс мудрости». О преимуществах мозга пожилого человека по сравнению с молодым мозгом, о сохранении и усилении жизненной активности в «осени возраста» профессор неврологии Медицинского колледжа Университета Нью-Йорка Элхонон Голдберг, рожденный в Риге (его отец был узником сталинского ГУЛАГа, мать – учительницей, уволенной из школы, пошедшей на завод разнорабочей, чтобы содержать семью), написал удивительную книгу «Парадокс мудрости. Научное опровержение «старческого слабоумия».
Распределяющий свое время между частной практикой в нейропсихологии, исследованиями в когнитивной неврологии и преподаванием, ставший американцем рижанин со страстью к познанию неизвестного, набросал эту книгу одним летом, не аномально жарким и не холодным, нормальным нью-йоркским летом (это мое предположение: от страниц «Парадокса» веет умиротворенностью и тишиной раннего утра в лесу или парке; предположение подтвердилось, когда, дочитав книгу до конца, я узнал, что, заведя собаку, бульмастифа, автор вынужден был вставать очень для себя рано, чтобы выгуливать Брита, грозного вида, напоминающего льва, но с доброй душой и благородным нравом), брал с собой в Центральный парк, уходя от бурной жизни Манхэттена, портативный компьютер и сосредотачивался на моделях и их усилителях, на переднелобном принятии ре шений, на новизне, рутине, двух сторонах мозга, его двойст вен ности, предаваясь нетускнеющим воспоминаниям о городе на Балтике, где в их семье, жившей в коммунальной квартире, было две собаки, к которым он с трех лет относился как к близким друзьям.
Эмигрировал в Америку Элхонон Голдберг двадцати семи лет. Через двадцать шесть лет он посетил страну, в которой родился, в поисках старых друзей. «Первый раз в моей жизни прошлое показалось таким же важным, как и будущее, и я почувствовал желание рассмотреть его глубже. Я почувствовал внезапную потребность критически оценить свою жизнь и объединить в единое целое ее части, разъединенные обстоятельствами. И написал книгу, своего рода интеллектуальные мемуары, пытаясь поместить свое прошлое, настоящее и будущее в единую логически последовательную перспективу. По причинам скорее экзистенциальным, чем неотложным и практическим, я также решил критически оценить физический ущерб, нанесенный мне временем».
Клиническому профессору американского медицинского колледжа не составило труда пройти всестороннее медицинское обследование, включая MRI мозга, процедуру магнитно-резонансной томографии. Выяснилось, что у профессора-нейробиолога, несмотря на то, что пил, курил до сорока лет, занимался параллельными видами деятельности – типичный трудоголик, он мотался по земному шару с чтением лекций, в общем наплевательски относился к своему здоровью, все в норме для его возраста, а мозгом Голдберга двое выдающихся коллег восхитились: опытнейший нейрорентгенолог назвал его «красивым мозгом», а лучший нью-йоркский невролог с подкупающим чувством юмора, как пишет обследуемый, сказал: «Это просто хорошо использованный мозг, вот и все».
Замечу, по нынешним временам, когда в развитых странах средний возраст женщин и мужчин достигает восьмидесяти лет, а то и переходит эту границу, автора книги, где высказывается революционный взгляд на мышление человека, к старикам отнести решительно невозможно: когда он наслаждался актом творения в безмятежное солнечное утро под кронами высоких деревьев, ему не было и шестидесяти лет (книга вышла в Америке в 2005 году, когда автору было пятьдесят восемь лет). «Я замечаю с некоторым удовлетворением, что в конечном счете я не стал глупее, в некотором подсознательном смысле, чем я был тридцать лет тому назад. Мой ум не притупился; в некотором роде он может, в сущности, работать лучше, И в качестве психологической (и, надо надеяться, также реальной) защиты от воздействия старения я нахожусь в постоянном движении. Я веду бесконечную внутреннюю войну с застоем. Слишком размеренная жизнь более не является жизнью, а только жизнью после смерти, и мне не нужна даже часть ее».
Бесконечная внутренняя борьба с застоем необходима, но сколько же можно воевать?! «Есть блуд труда, / И он у нас в крови» – по слову поэта, а у нас в крови блуд борьбы, ожесточающей сердца, разжигающей ненависть к иноверцам, инородцам, толкающей людей на взаимное уничтожение…
Неужели и впрямь вся-то наша жизнь есть борьба, как пели наши деды и отцы, как мы пели в конце войны, сев за школьные парты, – борьба с врагом, дрянью адмиральской, паном, бароном, прущим на Республику Советов со всех сторон, с железными полчищами вермахта, пытавшимися стереть нас с лица земли, сжечь в газовых камерах недочеловеков, людей «неправильной», неарийской национальности; миллионы наших сограждан погибли на войне с врагом и миллионы – на борьбе с собственным народом, которую вели те, чьи портреты носили мы на октябрьских и майских демонстрациях, проходя по площади Кирова в Петрозаводске под бравурные марши, под «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля»…
Неужели мы, дети страшных лет России, не понимали, в какой несвободной, отгородившейся от мира «железным занавесом» стране живем или все-таки что-то забрезжило в наших оболваненных, пропагандой зомбированных мозгах, особенно после смерти вождя и учителя всего прогрессивного человечества в марте пятьдесят третьего?..
Если и забрезжило, то не сразу, далеко не сразу. После 5 марта меня, председателя учкома 22‑й школы, по совместительству главного редактора стенгазеты, вызвал к себе директор школы Петр Николаевич Деккоев и попросил подготовить экстренный выпуск газеты и, показав материалы преподавателю истории Клавдии Самуиловне Смирновой, вывесить газету в коридоре на втором этаже. Материалов было всего два – стихи и статья. Рядом с большим портретом генералиссимуса передовая статья о скорби всего прогрессивного человечества, народов многонационального Советского Союза, трудящихся Карело-Финской республики и всех учащихся и учителей 22‑й средней школы Петрозаводска в связи с горем, постигшим всех нас (на школьной линейке многие, преимущественно учителя, плакали), – кончиной верного продолжателя дела Ленина и его соратника Иосифа Виссарионовича Сталина.
Передовую статью с помощью газеты «Правда» и Клавдии Самуиловны написал я, а стихи на смерть тирана (разумеется, они назывались не так, а как – не помню) сочинил наш классный поэт Александр Валентик.
Через пятьдесят семь лет после этого Саша написал о встрече учеников 10 «а» 22‑й школы, выпускников 1954 года лирический очерк «Вот это класс!», напечатанный в газете «Карелия» 12 августа 2010 года, где воздал должное и нашим педагогам, и своим одноклассникам – и Александру Герду, нашим девочкам-баскетболисткам Светлане Ланкинен, Регине Поспеловой, Вале Зугровой, Нелли Тейковцевой, лыжнице Нине Тибуревой, и железнодорожному генералу из Львова Анатолию Аввакумову (тех, о ком я выше написал, не упоминаю)… Лучше всего поэту-публицисту удался портрет Олега Соломонова.
«Из Москвы приехал на встречу одноклассников наш всеобщий любимец Олег Соломонов. У него абсолютный музыкальный слух. С первого класса он играл на огромном аккордеоне, поверх которого были видны только его глаза. Мы всем классом, нашим мальчишеским хором, пели под его аккомпанемент и под управлением любимой нашей учительницы Надежды Макаровны Вороновой. Выступали всюду: на избирательных участках в дни выборов, в заводских цехах, по Карельскому радио. Позже мы узнали об Олеге как об известном звукорежиссере кинообъединения “Экран”. Имя Соломонова – в титрах многих фильмов, которые в семидесятые-восьмидесятые годы смотрела по телевидению вся страна. Олег работал в команде великого Ролана Быкова».
Через два года в квартире Алика Ханнолайнена (обратите внимание на единство места действия – времена меняются, а место остается неизменным), когда хозяин потряс меня проникновенным чтением «Полтавы», над столом поднялся усталый, прихворнувший Олег Соломонов с бокалом вина и сказал тост за наших учителей, с которыми нам несказанно повезло…
– А ведь время-то, ребята, в которое мы учились, было, мягко говоря, не самое веселое, не очень приятное… Да что там, страшное было время. Но благодаря нашим учителям мы выросли людьми и чего-то добились в жизни…
Благодаря учителям и друзьям. Мир без друзей непредставим, мир без друзей – продуваемое ледяными ветрами пространство одиночества и несвободы. Любовь друзей оберегает и спасает нас. «Если власти… лишат нас частной жизни и свободного времени и создадут мир, где все соратники, а друзей нет, – писал К. С. Льюис в беседах о любви, – мы предотвратим немало опасностей и потеряем самую сильную защиту от полного рабства».
2013
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.